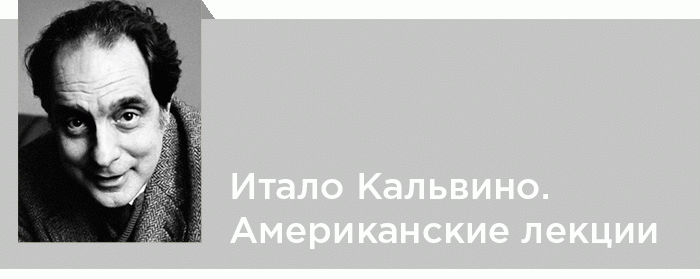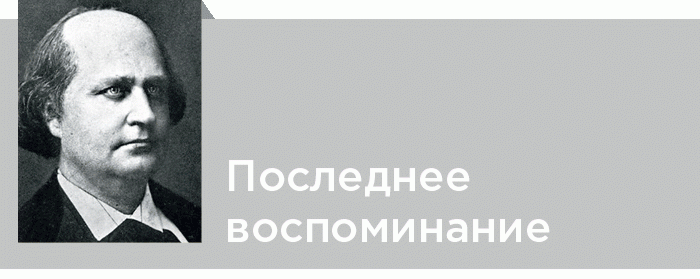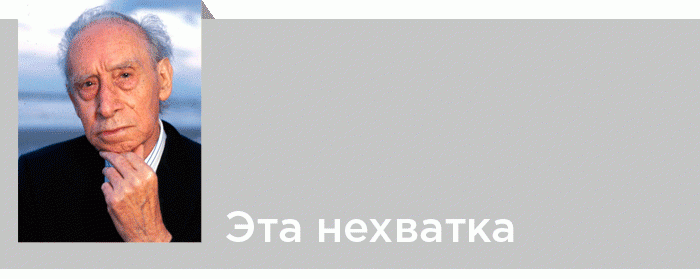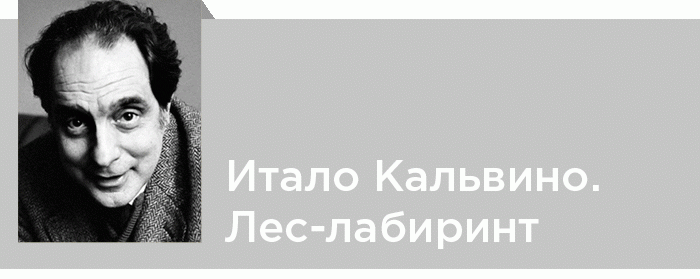Итало Кальвино. Замок скрестившихся судеб

Н. Котрелев
Фантастику романов-притч Кальвино, известных отечественному читателю, скорее можно назвать сказочной, романтической. В новой книге писателя (она состоит из двух произведений — «Замок скрестившихся судеб» и «Таверна скрестившихся судеб») «чистые», романтические формы органично сочетаются с формами фантастики «научной». В известном смысле Кальвино своей новой книгой в большей мере обязан современной науке, чем многие создатели более или менее правдоподобных художественных прогнозов и экстраполяций.
Наукой — семиотикой — подсказан Кальвино избранный им на этот раз принцип построения сюжета. Об этом рассказывает писатель в специальном «Пояснении» к книге: Кальвино познакомился с работами Успенского, Лекомцевой, Егорова, Фаббри по семиотике гадания на картах, и у него родилась «идея использовать колоду таро в качестве комбинаторной машины, порождающей повествование». Таро — особые карты; эта колода (с ее мастями — «чаши», «мечи» и др., «фигурами» и «тайнами» — «Диавол», «Мир», «Любовь» и т. д.) «образнее», «фантастичнее», нежели обыкновенные у нас игральные карты. День за днем писатель раскладывал карты «так, чтобы они оказались последовательными сценами пиктографического рассказа». Вглядываясь в карточные изображения, Кальвино «вычитывал» в них своих героев, ситуации, в которые они могли бы попасть, ситуации, которые определяли бы их дальнейшую судьбу. Карты раскладывались на столе так, что «прочтение» некоторой последовательности в обратном порядке давало сюжет, вполне независимый от сюжета рассказа, соответствовавшего чтению той же последовательности карт в прямом порядке.
Обе книги построены одинаково. В замке (или в таверне) собираются за общим столом путники. Пережитые в дороге опасности, приключения и ужасы лишили их дара слова, и каждый из путников рассказывает-показывает свою историю с помощью тех или иных карт таро. Кальвино дал в руки рассказчикам две разные колоды: роскошную княжескую, рисованную от руки в XV в. — отсюда «замок», — и вполне обычную, печатанную в XVIII веке, — отсюда «таверна». Изобразительный материал подсказал Кальвино и две различные стилистические манеры, в которых писатель передал рассказы героев из «замка» и из «таверны» о своих приключениях.
«Судьбы», которые Кальвино разглядел в сочетаниях карт, оказались судьбами известных героев Ариосто и Шекспира, Софокла и Гете, перед читателем проходят истории Гамлета и Эдипа, леди Макбет и Жюстины. Персонажи и ситуации (т. е. карты) одновременно оказываются и предметом изображения (герои, обстоятельства действия ит.п.), и механизмом порождения и развития сюжета, и в обеих этих функциях — объектом научного и философского осмысления.
Герои Кальвино — не взаимозаменяемые элементы одной сюжетной схемы. Напротив, в зависимости от того, что усматривает писатель, например в короле «чаш», подбираются и выстраиваются (приобретая все новые и новые значения) в некоторую последовательность другие карты. В этом смысле характерно, что повествование — именно в узловых точках, там, где появляется в нем новая карта, — переходит в условно-утвердительную форму: «Да и что может означать эта карта, как не...» Одновременно взывает автор и к воображению: «Мы можем себе представить», «Сочтем это за» и т. п.
И все же личность (как возможность своей судьбы, как «программа» некоторой фабулы) исчезает, теряет определенность в «скрещении судеб», она превращается и для себя самое, и для собеседников-созерцателей в некоторую вероятностную модель: не случайно рассказчики опознают себя в «короле» или «даме» после долгих колебаний, а для повествующего «я» в каждый момент видимая (т. е. узнаваемая) чужая судьба есть проблема — правдоподобно или неправдоподобно то или иное мыслимое продолжение. Проблеме жизненного выбора посвящена даже особая новелла «История о нерешительном». Но в конечном счете выбор себя и своей судьбы в картах оказывается не более чем функцией вычислительной машины, дурной бесконечностью, комбинаций и повторов. И весь мир, все множество «скрестившихся судеб» — мираж, наваждение и пустота. «Мира не существует, — говорит Фауст, — нет единого целого, данного единовременно: есть конечное число элементов, сочетания которых множатся миллиардами миллиардов, и из них лишь немногие обретают форму и смысл... как семьдесят восемь карт таро, соположения которых представляются связными историями, незамедлительно распадающимися». Ему возражает (но возражение ли это?) Парсифаль: «Сердцевина мира пуста, первопричина того, что движется в мирозданий, —пространство, ничто... — И он указывает пустой прямоугольник, окруженный картами».
И настоятельно из судьбы в судьбу переходят ключевые карты, означающие раздвоение, бесконечное превращение одной судьбы в другую, смерть, всеобщую гибель, дьявольскую игру. Иногда это образы, как мы говорили по-старинному, фантастические. Но очень часто они взяты из современной «научной фантастики»; мир, в котором восторжествовал новый матриархат; благополучная страна, в которой покончено с предрассудками донаучного мышления, но где королева оказывается ламией; мир, в котором самоуправляемой жизнью живут машины и животные и где человек стал ненужным. Кальвино заимствует и вводит эти образы в ткань своих новелл с явной иронией и по отношению к ним, и к самому себе, но тем только мрачнее общая картина. Не случайно третью часть книги должна была составить еще одна повесть — «Мотель скрестившихся судеб», где средством общения для «переживших таинственную катастрофу» оказались бы картинки из страшных комиксов. Но, как объяснил Кальвино, его интерес к такого рода экспериментам иссяк.
Любопытно сопоставить с этим слова рассказчика, записывающего происходящее в «таверне»; кончая свои рассуждения о возможностях повествования в картах и прочих изобразительных и символических материалах, он говорит: «Вот я все расположил по порядку. На бумаге по крайней мере. А во мне, внутри, все осталось, как было прежде».
Но характерен и голос одного из тех, чью судьбу изложили карты: «Мне невмоготу, что Солнце все остается в небе, я жду не дождусь часа, когда распадется синтаксис мира, когда перемешаются карты... осколки зеркала катастрофы». Этими словами — чаянием разрушения бессмысленного, обезличенного космического порядка — заканчивает свою книгу Кальвино.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1975. – № 4. – С. 50-52.
Критика