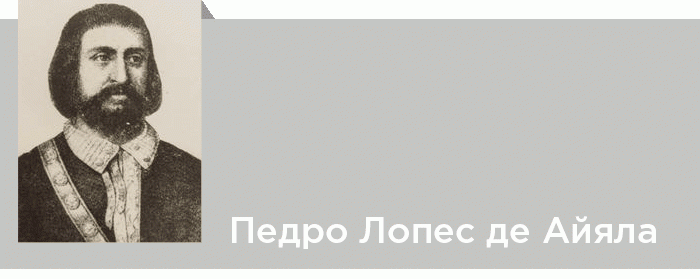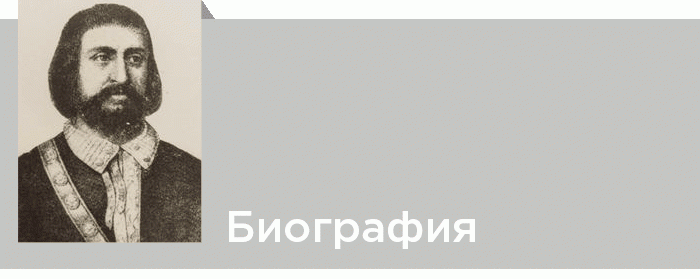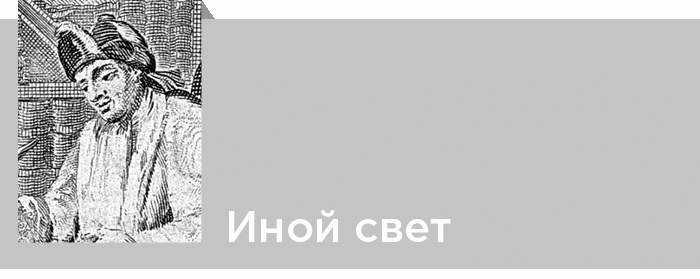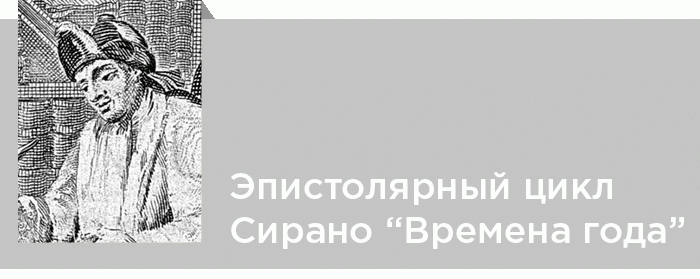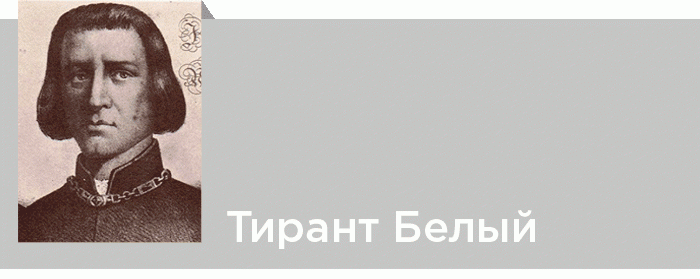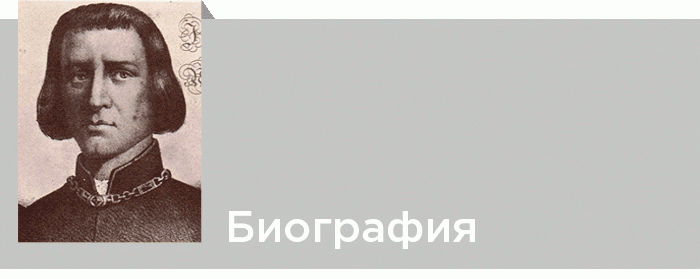Жанрово-стилевая полифония в романе Ж. Мартуреля «Тирант Белый»
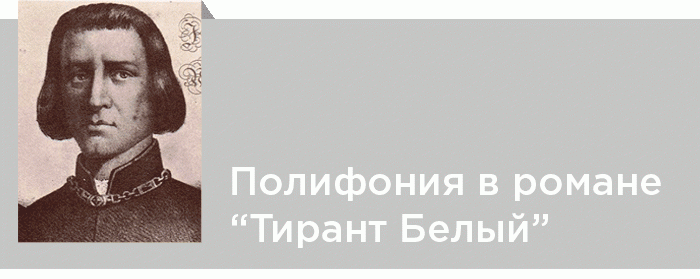
М. А. Абрамова
В работе «Слово о романе» М. М. Бахтин, характеризуя литературно-языковое сознание творцов и аудитории рыцарских романов, выделяет два конструктивных момента — «…разрыв между языком и материалом, с одной стороны, и между материалом и современной действительностью, с другой». Тем не менее подробно он развивает лишь первый из них. В результате рыцарский роман возводится к софистической, по терминологии М. М. Бахтина, романной линии, основная особенность которой — одноязычность и одностильность при существовании разноречия (полифонии) вне романа. В то же время одним из первых величайших образцов другой, «магистральной», линии жанра, которая «вводит социальное разноречие в состав романа, оркеструя им свой смысл и часто вовсе отказываясь от прямого авторского слова», М. М. Бахтин справедливо называет «Дон Кихота». При этом остается не вполне понятным, каким образом Сервантес смог именно в рамках софистического рыцарского романа осуществить подобный переход.
Это проясняется, если привлечь второй конструктивный момент (разрыв между материалом и современной действительностью), который лег в основу исследования Е. М. Мелетинского о средневековом романе. Важнейшая особенность жанра, по Е. М. Мелетинскому, — в том, что он «ориентирован не на внешние образцы, непосредственно почерпнутые из самой жизни, а на традиционные, в конечном счете архетипические образцы и отношения. Используя богатое архетипическое наследие сказок и легенд — своих, иноземных, античных, он постепенно создает и нечто вроде собственной романной художественной мифологии».
С этой точки зрения, учитывая к тому же перспективы дальнейшего развития жанра в целом, средневековый рыцарский роман полезно рассматривать как утопию, всегда предполагающую оппозицию: реальность — нереальность (идеальность). На первых этапах рыцарского романа нереальность осознавалась не столько как художественный вымысел, сколько как утопический мир, идеальный для проявления в нем лучших качеств героя, для его совершенствования.
Всегда положительный герой (черта генетическая, идущая от сказки и от кельтского фольклора), нуждающийся в согармоничном ему мире, и определил во многом «утопичность» рыцарского романа.
На протяжении всей истории существования рыцарского романа можно выделить несколько типов утопической модели мира и идеального героя, эволюция которых тесно связана с содержанием утопии как главнейшего мировоззренческого элемента. Вполне очевидно, что различие средневековых и ренессансных представлений об утопии (принципиально противоположной по конечной цели, по способу раскрытия в ней человека и, в конечном счете, по отношению к реальной жизни) явилось водоразделом и между средневековым и ренессансным рыцарским романом. Качественный рубеж наметился уже в эпоху позднего Средневековья и Проторенессанса. «Тирант Белый», написанный Ж. Мартурелем в 60-е гг. XV в., возможно, наиболее наглядный тому пример.
Однако в силу «утопичности» жанра реальность в рыцарском романе вводилась избирательно, да и в принципе не могла быть введена прямо (как, например, в плутовском романе). Поэтому географически реальное место действия и исторически псевдореальное время действия в «Тиранте Белом» оказывались постоянно окрашены, «приподняты» культурными и литературными ассоциациями, а главный герой (а вместе с ним и вся система образов) характеризовался не прямо, но с помощью стереотипов иных жанров и стилей повествования.
Каждый «регистр» по-своему расширял возможности поэтики рыцарского романа. Сочетание же их позволяло, в частности, рассматривать любую ситуацию в разных ракурсах, делая героев и их поступки более многогранными, занимательными и правдоподобными.
Прием «снижения» закономерен, когда речь идет о ситуациях и героях, заимствованных из предшествующих типов романа. Рассказывая, например, об учреждении английским королем нового рыцарского братства на манер рыцарей Круглого Стола — ордена Подвязки, один из персонажей «Тиранта Белого», Диафеб, предваряет изложение основных постулатов ордена красочным повествованием о пикантном случае, давшем идею создания ордена и его название (говорится, что дама, у которой упала подвязка, была не очень-то знатного происхождения и не очень-то хороша собой, но аппетиты у мужчин разные... Далее передаются двусмысленные намеки рыцарей, обыгрывается девиз ордена и т. д.).
Столь же показателен и рассказ о Гвильеме де Варвике, воплощающем идеал люллевской утопии. В жанр жития — его появление обусловлено представлениями Раймунда Люлля о наиболее адекватном существовании человека в земной жизни — настойчиво вклиниваются «снижающие» мотивы. Это, во-первых, мотив хитроумных уловок: Гвильем специально предусматривает все так, чтобы окружающие уверились в его мнимой смерти, т. е. его символический переход в иную ипостась земной жизни — отшельничество — осуществляется за счет хитроумной проделки и практического расчета; победы над многочисленным врагом он осуществляет при помощи остроумной выдумки с «гранатами» из извести. К числу снижающих относится также мотив переодеваний, неузнаваний и связанной с ними игры: Гвильема не узнает его супруга — графиня, которая считает его погибшим; он временно превращается в короля Англии и т. д. Кроме того, сильно расширены мотивы, противопоставленные идеалу отшельничества, прежде всего в поведении графини, которая воплощает земную, «слабую» суть человека и не скупится на доводы «здравого смысла» и бытового, практического опыта. Для доказательства своей правоты она использует не только топику поздней средневековой каталонской лирики и парафразы из Аузиаса Марка, но и пословицы, и даже прибегает к откровенно фарсовым приемам: дает пощечину трехмесячному сыну, чтобы тот заплакал и таким образом разжалобил отца, неумолимого в решении покинуть дом и уйти из мирской жизни.
Важнейший принцип смешения жанров наблюдается и в той части, где излагается изменившийся утопический идеал. В данном случае этот прием (вместе с некоторыми другими, используемыми в романе) позволяет автору в художественной форме доказать принципиальную возможность осуществления утопии, поскольку элементы сниженных жанров, корректируя, казалось бы, сухую схему, делают персонажей и ситуации менее «ходульными», оживляют их. С другой стороны, это свидетельствует о самоосознании жанра и о его «взрослении».
Основная тема романа, связывающая воедино многие линии и определяющая судьбу главного героя, — борьба христиан с неверными — сугубо эпическая и возвышенная. Эпичность расширяла сферу деятельности героя (от личных подвигов до деяний глобального масштаба), а также позволяла представить его как зрелого правителя и мудрого политического деятеля, пекущегося лишь о благе общего дела (например, в явно эпическом треугольнике: Тирант — император Константинополя, мудрый и справедливый, но бессильный противостоять врагам и внутренним распрям, — герцог Македонский, который завидует Тиранту, труслив, сеет раздоры и не случайно характеризуется как «предатель»). Вместе с тем эта основная линия, выдержанная в стиле хроник, когда речь идет о деяниях Тиранта, дополняется рассуждениями Тиранта и его собеседников об идеальном правителе и государстве: «поучительным словом» пленного турка с говорящим именем Abdal la Salamó, который дает советы Тиранту по управлению государством; назидательными новеллами на сюжеты из античной истории; рассказами других действующих лиц о подвигах Тиранта. Таким образом, теоретически обосновывается и практически осуществляется новая утопия и изображается в ней новый положительный герой.
Однако к средствам характеристики, заимствованным из указанных высоких жанров, добавляется нечто принципиально новое. Военный гений Тиранта проявляется в бесконечных хитростях и обманных маневрах, с помощью которых он только и может реально победить всегда многократно превосходящего численностью врага (в отличие от единоличных поединков, где он одерживает победу всегда честным путем, но где его превосходство объясняется также достаточно прозаически — в частности, тем, что у него было прекрасно поставлено дыхание и потому он уставал не так быстро, как соперники). Таким образом, отвергается и фантастическая мотивировка побед положительного героя-рыцаря и снимается характерная (как правило) для эпоса устремленность навстречу смерти. Изобретательность, ловкость — черты, свойственные герою «низкой» литературы, — органично вплетаются в возвышенный облик Тиранта, увеличивая его личные заслуги в победе.
Снижение эпической темы борьбы с неверными и «обогащение» облика Тиранта происходит не только за счет подобной мотивировки его побед и задолго до того, как Тирант попадает в Константинополь. Впервые он сталкивается с турками в экспедиции на остров Родос, где находится монастырь тамплиеров. И уже в первые известия о Родосе (которые приносят Тиранту посланники короля Франции) включен рассказ об одной даме, которая, имея сразу двух возлюбленных из враждующих лагерей, смогла однажды предупредить вероломное нападение турок на монастырь. Эта вставная назидательно-развлекательная новелла заранее настраивает читателя на определенный лад, доказывая, что подобную ситуацию можно интерпретировать неоднозначно. Мартурелю пока что еще необходима оговорка, что «Господь разрешает большой грех ради еще большей выгоды». Но именно достижение высокой цели при помощи «низких» средств по преимуществу и занимает автора.
В дальнейшем линия Родосской экспедиции постоянно перебивается рассказом о сватовстве комического персонажа Филипа, первым помощником которого стал Тирант. Мартурель представляет в данном случае заведомо комическую ситуацию: жених, скуповатый и простоватый пятый сын французского короля, явно не соответствует нормам куртуазии, хотя и имеет очень ценное достоинство — он искренне любит свою невесту, дочь короля Сицилии Рикоману. Тирант, ценя эту искренность, прощает Филипу его неотесанность и превращается здесь в героя-трикстера: не один раз благодаря своей находчивости он выручает жениха из затруднительных ситуаций-испытаний, которые устраивает Рикомана. (Один из наиболее красноречивых тому примеров — обед при дворе сицилийского короля, где Филип, не дождавшись, пока принесут мясо, схватил кусок хлеба и разрезал его на двенадцать частей, вызвав смех принцессы. Эту вроде бы непоправимую оплошность Тирант исправляет, объясняя, что сыновья французского короля якобы приучены первый кусок хлеба за трапезой разрезать на двенадцать частей по числу апостолов, воздавая этим хвалу богу). Кроме того, куртуазный Тирант, видя предрасположенность Рикоманы к жениху, проповедует ей чувственную любовь. В результате, как только прибывший ко двору мудрец начинает подтверждать опасения Рикоманы относительно неотесанности Филипа, она сама, желая все-таки увериться в обратном, истолковывает поведение жениха во время очередного затруднительного испытания — когда провал Филипа опять кажется неминуемым — самым благоприятным для него образом.
В результате во всем эпизоде в целом создается атмосфера, в которой казалось бы неразрешимые ситуации неожиданным образом разрешаются благодаря самой природе человека. Тирант не отмежевывается от этой сниженной ситуации, но, напротив, во многом управляет ею, стремясь увенчать дело браком Рикоманы и Филипа, что в конце концов ему и удается. Таким образом, характеристика Тиранта как «хитроумного и куртуазного» («practic i cortesa») одновременно, данная ему во время военных действий на Родосе, относится и к иной сфере, где он проявляет себя, — сфере любви.
Сочетание высокого и низкого наблюдается и во второй важнейшей линии романа — в истории любви Тиранта к дочери императора Константинополя Кармезине. Именно в этой области проявляется максимально утонченная куртуазность Тиранта, рассуждения которого о любви — верх красноречия и изысканного вкуса. Однако его поступки соотносятся, скорее, с жанрами иного плана.
Так, для признания в любви к Кармезине Тирант использует остроумную проделку с зеркалом (когда, выслушав восторженно-изысканный рассказ Тиранта о его возлюбленной, Кармезина спрашивает, кто же она, то он без слов протягивает ей зеркало, что вызывает возмущение искушенных в куртуазной любви придворных дам). Он не отказывается от возможности тайно наблюдать за купанием своей возлюбленной, хотя поначалу и не без угрызений совести. Совсем не куртуазно действует Тирант и в сцене соблазнения Кармевины. Уговорившись с придворной дамой Plaerdemavida, Тирант ложится рядом с возлюбленной. Всякий раз, когда Кармезина просыпается, его место тут же занимает придворная дама. В конце концов принцесса с удивлением обнаруживает, что та «поступает противно женской природе» и кричит, усугубляя комизм ситуации: Тирант вынужден выпрыгнуть из окна и в довершение всех бед ломает ногу.
Эти комические, фарсовые элементы в сфере высокой любви подкрепляются образами придворных дам Кармезины, в первую очередь Услады-моей-жизни (Plaerdemavida), чье имя говорит само за себя.
Именно она, как сказано в романе, «уложила Тиранта в постель принцессы» («posa a Tirant ей lo llit de la princesa») и активно помогала Тиранту в других проделках. В том же духе действует и Эстефания, проповедующая «свободную любовь» и без колебаний и куртуазной игры уступающая домогательствам кузена Тиранта Диафеба.
Не менее важен и образ Отдохнувшей Вдовы (Viuda Reposada), которая представляет собой сниженный вариант образа клеветника. Безнадежно влюбленная в Тиранта, она начинает ему мстить: именно благодаря ей, подозревавшей о присутствии Тиранта в спальне Кармезины, произошел грандиозный переполох ночью во дворце. Пытаясь посеять раздор между Тирантом и Кармезиной, она устраивает целый маленький спектакль: чтобы убедить Тиранта в том, что «бесчестная» принцесса якобы любит черномазого садовника, она заставляет его прийти ночью в сад, а сама тем временем наряжает Усладу-моей-жизни в темную маску и в костюм садовника, прося ее развлечь в саду принцессу. В результате Тирант принимает слова вдовы за правду, убивает несчастного садовника и, разумеется, ссорится с принцессой (правда, ненадолго).
Итак, взаимодействующие в «Тиранте Белом» высокий и низкий стили вбирают в себя элементы многих жанров. Они могут вводиться непосредственно в сюжет, но чаще проникают в роман во вставных рассказах различных персонажей. Таким образом, в данном произведении зарождается «специфизирующий», по уловам М. М. Бахтина, предмет романного жанра, создающий его стилистическое своеобразие — говорящий человек и его слово. Правда, пока что это понятие не раскрыто во всей его полноте, во взаимодействии с личностью, характером говорящего и прочими художественными открытиями, относящимися к позднейшим эпохам.
В целом же на примере «Тиранта Белого» видно, как появление в рыцарском романе утопии нового типа (что было обусловлено как эволюцией самого жанра, так и переменами в общей системе мировоззрения на рубеже Средневековья и Возрождения) приводит к возникновению романной полифонии. Однако для данного этапа развития рыцарского романа возможно говорить лишь о жанрово-стилевой полифонии. Ведь, хотя основной смысл новой романной утопии и заключался в большей обращенности к действительности, реальность вводилась в структуру романа не прямо, а через использование элементов других жанров. Соответственно жанрово-стилевая полифония могла быть социальной лишь в той мере, в какой были социальны используемые жанры.
Л-ра: Сервантесовские чтения 1988. – Ленинград, 1988. – С. 7-13.
Критика