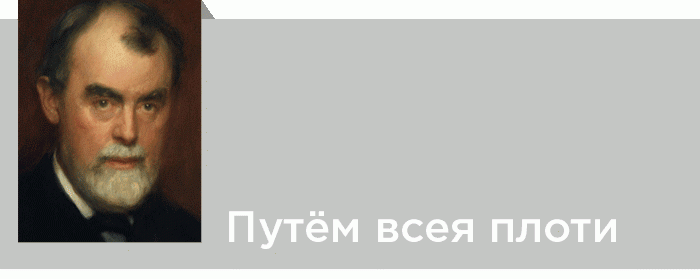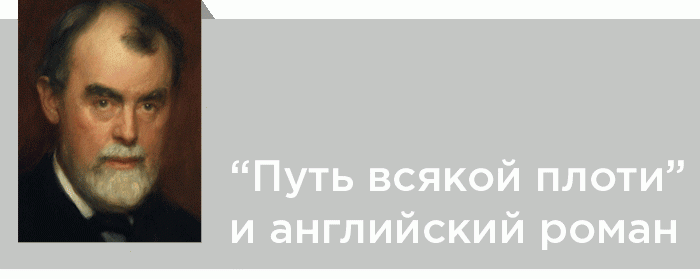Игорь Губерман: О себе. О славе. Об алкоголе. О евреях. О неприличной лексике

О себе
Любил я книги, выпивку и женщин.
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен.
Теперь уже на книги нету сил.
Теперь я тихий старый мерин.
И только сам себе опасен.
Я даже если в чем уверен,
То с этим тоже несогласен.
Несколько лет назад я неосторожно написал один грустный стишок, который положил начало новой книжке...
Нынче грустный вид у Вани.
Зря ходил он мыться в баньку.
Потому что там по пьяни
Оторвали Ваньке встаньку.
И вся книжка вышла грустная. Сейчас я почитаю вам стихи из этой книги, и вы поймете, как опасно начинать с грустного стиха.
При хорошей душевной погоде
в мире все гармонично вполне.
Я люблю отдыхать на природе,
а она отдохнула на мне.
Доволен я сполна своей судьбой.
И старюсь я красиво, слава богу.
И девушки бросаются гурьбой
Меня перевести через дорогу.
О славе
Я буду рассказывать всякие байки и обязательно буду хвастаться.
Я уже давно установил, что со сцены очень приятно хвастаться.
Свое 70-летие я отмечал в Одессе. Иду я по Дерибасовской, меня обогнал такой невысокий мужчина лысоватый, обернулся несколько раз, потом притормозил и сказал заветные слова: «Я извиняюсь. Вы Губерман или просто гуляете?»
А несколько лет назад я достиг пика своей популярности. Более известным я не стану никогда. В Мадриде в музее Прада в мужском туалете меня опознал русский турист. История немножко физиологичная, но рассказывать ее дико приятно. Стоим мы, тесно прижавшись к нашим писсуарам… Почему тесно, вы знаете, да? В старой Одессе над писсуарами часто бывало объявление: «Не льсти себе, подойди поближе». Так вот, стоим мы, значит, друг на друга не смотрим, и вдруг он наклоняется к моему уху и говорит: «Вы — Губерман, который пишет гарики?» Говорю: «Я». И он, не прерывая процесса, стал говорить мне на ухо немыслимые комплименты. Я слушаю из чистой вежливости, чуточку скосив на него глаза, и с ужасом вижу, что он в это время пытается из правой руки переложить в левую, чтобы пожать мне руку». Я ушел первым.
«Как у вас рождаются стихи? Вы становитесь в позу или ходите? Они льются потоком или вы напрягаетесь?»
Я становлюсь в позу и напрягаюсь.
«Как вы относитесь к своей известности?»
Очень серьезно. Но мне проще на этот вопрос ответить стишками:
Хоть лестна слава бедному еврею,
Но горек упоения экстаз,
Я так неудержимо бронзовею,
Что звякаю, садясь на унитаз.
Об алкоголе
Я только что был в Москве и в Питере. И два моих друга - и москвич и питерец - живы, по счастью, всегда я этому радуюсь. Мы ведь достигли такого возраста, который в некрологах называется цветущим. И поэтому я всегда очень радуюсь… А когда-то москвич питерца не знал, а я знал. Он поехал в Питер, и я ему дал телефон, он позвонил питерцу, пришел к нему в гости, и они так напились, что москвич даже не поехал в гостиницу, где он остановился, а остался в этой семье ночевать. Утром они встают, похмельно пьют кофе. А хозяин дома, питерец — интеллигентный, пижон такой…
И вот он говорит гостю: «Старина, конечно, мы вчера с вами очень здорово набултыхались, но в сущности мы знакомы весьма поверхностно, имею ли я право на интимный и, возможно, даже некорректный вопрос?»
Тот отвечает: «Спрашивайте, конечно».
«Скажите, что бы вы сейчас предпочли? Хорошую девицу или двести грамм водки?»
Москвич подумал и ответил: «Хотя бы сто пятьдесят!»
Три года назад я перенес очень тяжелую операцию...
Нет, начать надо с предоперационной.
Лежу я там, уже немножко уколотый, ожидаю своей очереди.
И тут ко мне подходит мужик в зеленом операционном костюме и говорит: «Игорь Миронович, я из бригады анестезиологов. Я пришел сказать, что мы вас очень любим, постараемся - и все у вас будет хорошо. А вы вообще как себя чувствуете?»
Я говорю: «Старина, я себя чувствую очень плохо, начинайте без меня».
Он засмеялся… Сделали мне операцию, и повалили в мою палату врачи, кто на иврите, кто на русском желают мне здоровья и уходят, а один все не уходит. Такой худенький, совсем молоденький, лет 35 ему.
Он говорит: «А почему вы ничего не едите? Надо бы есть, уже второй день. Может, вам выпить надо?»
Я говорю: «Конечно! А у тебя есть?»
Он говорит: «Ну да, у меня есть немного виски».
«Сгоняй, — говорю. — Только спроси у моего профессора, мне уже можно выпивать-то?»
А он: «Ну что вы меня обижаете. Я и есть ваш профессор».
Принес он полбутылки виски, я сделал несколько глотков, вечером пришел мой приятель, и мы с ним еще добавили, и я стал немедленно поправляться, прямо на глазах. И еще лежа в больнице, снова начал писать стишки.
Ручки-ножки похудели,
Все обвисло в талии,
И болтаются на теле
Микрогениталии.
О евреях
Вы знаете, мы народ необыкновенно поляризованный. На одном полюсе — ум, интеллект, сообразительность, быстрота реакции, смекалка, ну, словом, все то, что одни ненавидят, а другие, наоборот, уважают. Но зато на другом полюсе у нас такое количество дураков и идиотов, что любо-дорого посмотреть. Причем еврейский дурак страшнее любого другого, потому что он полон энергии, апломба и хочет во все вмешаться и все сделать хорошо. Я вам расскажу истории про оба полюса.
История первая.
Если есть в зале меломаны или музыканты, они, возможно, помнят имя знаменитого некогда скрипача Бусика Гольдштейна. В 34-м году ему было 12 лет, и этот мальчик в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, от всесоюзного старосты Калинина получал орден за победу на каком-то международном конкурсе.
Перед началом церемонии его мама говорит: «Буся, когда тебе дедушка Калинин вручит орден, ты громко скажи: «Дедушка Калинин, приезжайте к нам в гости».
Тот пытается возразить: «Мама, неудобно».
Мама уверенно: «Буся, ты скажешь».
И вот начинается церемония, Калинин ему пришпиливает орден, и послушный еврейский мальчик громко говорит: «Дедушка Калинин, приезжайте к нам в гости!»
И тут же из зала раздается хорошо отрепетированный дикий крик Бусиной мамы: «Буся, что ты такое говоришь! Мы ведь живем в коммунальной квартире!»
И что вы думаете? На следующий же день им дали ордер на квартиру.
Теперь история с противоположного полюса.
Год, наверное, 96–97-й. В Америку на постоянное жительство въезжает пожилой еврей, в прошлом полковник авиации. Он проходит собеседование через переводчика, который мне это и рассказал.
И на собеседовании чиновник из чистого любопытства спрашивает: «А чего вы уехали из России, вы ведь сделали такую карьеру?!»
Полковник отвечает: «Из-за антисемитизма».
Чиновник допытывается: «А как это вас лично задело? Все-таки вы доросли до полковника».
Еврей говорит: «Смотрите, в 73-м году, когда в Израиле шла война, наша подмосковная эскадрилья готовилась лететь бомбить Тель-Авив. Так вот, представьте, меня не взяли!»
Придя из разных дальних дальностей
В ничью пустынную страну,
Евреи всех национальностей
Создать пытаются одну.
И ведь знаете, евреи из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, - совершенно иные, чем из Семипалатинска, Бухары. Есть еще эфиопы, есть марокканские и так далее. Вот стишок за дружбу народов между евреями.
Здесь мое искомое пространство,
Здесь я гармоничен, как нигде,
Здесь еврей, оставив чужестранство,
Мутит воду в собственной среде.
Что касается отношений нашего крохотного Израиля с гигантским арабским государством, то я на эту тему не пишу. Лет десять назад я написал один стишок, и мне больше нечего сказать. А стишок был такой:
Здесь вечности запах томительный
И цены на овощи клевые,
И климат у нас изумительный,
И только соседи х..евые.
Записок на эту тему приходит много.
В Челябинске, по-моему, одна девушка мне прислала грустную записку: «Игорь Миронович, что вы все читаете про евреев, есть ведь и другие не менее несчастные».
А в Красноярске я получил замечательную хозяйственную записку: «Игорь Миронович, а правда ли это, что евреям после концерта вернут деньги за билеты?»
Очень хорошую записку я как-то получил в Самаре, очень ею горжусь.
Молодая женщина написала: «Игорь Миронович, я пять лет жила с евреем, потом расстались, и я с тех пор была уверена, что я с евреем на одном поле срать не сяду. А на вас посмотрела и подумала — сяду!»
О записках
Очень люблю записки из зала. Те, кто читал книжки с моими воспоминаниями, знают, что в каждой есть глава с записками. … Вот я в городе Харькове получил такую записку от молодой девушки: «Игорь Миронович, можно ли с вами хотя бы выпить, а то я замужем». Или как-то в Казани выступал и получил записку: «Игорь Миронович, заберите нас с собой в Израиль, готовы жить на опасных территориях, уже обрезаны. Группа татар».
Часто в записках спрашивают о переводах. Вы знаете, было много попыток переводить «Гарики» на идиш, английский, немецкий, польский, голландский, литовский... Ничего не получается. Я думаю, что нашу жизнь просто нельзя перевести.
Но у меня есть чем утешаться. Омар Хайям ждал, что его переведут, шестьсот лет. Я готов подождать. И я хочу объяснить эту мою манию величия. Был такой старый драматург Алексей Файко, может быть, кто-то помнит его пьесу «Человек с портфелем», мы очень с ним дружили, несмотря на разницу в возрасте.
Я как-то ему прочитал пять-шесть своих стишков, и он мне сказал: «Старик, да ты Абрам Хайям!»
О неприличной лексике
В моих стишках, как вы знаете, есть не нормативная лексика.
На концертах я все время напоминаю слова великого знатока русской литературы Юрия Михайловича Олеши, который однажды сказал, что он видел много всякого смешного, но никогда не видел ничего смешнее, чем написанное печатными буквами слово «жопа». Вы знаете, светлеют лица даже у пожилых преподавателей марксизма-ленинизма. Одна женщина подарила мне замечательный словарь великого лингвиста Бодуэна де Куртенэ, который сказал так: «Жопа» — не менее красивое слово, чем «генерал». Все зависит от употребления». Я думаю, он был прав. И потом, вы знаете, ведь наше ухо, привыкшее к классичности русского языка, само с удовольствием ловит любую возможность неприличного искажения слова, понятия, фамилии. Один мой товарищ, с которым мы одновременно сидели, но в разных рекреациях лагеря, старый еврей, хозяйственник, что-то украл у себя на заводе, носил фамилию Райзахер. Так вот у него была кличка Меняла.
Я вас честно предупредил, поэтому желающие могут покинуть зал. А остальным я хочу прочесть стишок, который мы совсем недавно написали «вместе с Пушкиным», когда у нас в Израиле началась:
Зима. Крестьянин, торжествуя,
Наладил санок легкий бег.
Ему кричат: Какого х…?
Еще нигде не выпал снег!
Друзья мои, я вас вижу отсюда не всех, но слышу всех абсолютно. И многие смеются нервно. Я вас очень хорошо понимаю, это такой подсознательный страх за детей, внуков: они будут знать «ненормальную» лексику. Не думайте об этом. Наши дети и внуки обречены на полное познание великого и могучего, потому что русский язык проникает в них не только через посредников, каких-нибудь хулиганов в детском саду, но иногда просто прямо из воздуха.
У меня в Америке есть знакомая семья. Там матриархат: глава семьи - бабушка, закончившая филфак Петербургского университета. Дети работают, бабушка-филологиня целиком посвятила себя внуку. Он приехал в Америку в возрасте одного года, сейчас ему лет восемь-девять, у него прекрасный русский язык с большим словарным запасом, я знаю много семей, которые завидуют русскому языку этого мальчика. И вот как-то они были в гостях. Внук читал наизусть первую главу «Евгения Онегина», все хвалили его бабушку.
Выходят из гостей, идут к машине, вторая половина декабря, гололед, и внук вдруг говорит: «Однако скользко на дворе, дай, пожалуйста руку, по крайней мере нае…немся вместе».
Меня часто спрашивают, как я отношусь к неформальной лексике из уст женщины. Это зависит от контекста. Так же, как в книге это зависит от вкуса автора, так и здесь - от вкуса произносительницы. Я знаю замечательных женщин, которые виртуозно ругаются матом, и очень вовремя.
И, кстати, именно женщины, а особенно старушки, более всего благосклонны к моим «проказам» на сцене.
Старушки мне легко прощают
все неприличное и пошлое,
Во мне старушки ощущают
их не случившееся прошлое.
Про лагерь
Сразу три российских издательства переиздали мою любимую книжку, которую я написал в лагере. Я очень дружил с блатными, и они так устроили, что, когда из санчасти уходило начальство, это было в десять вечера, они меня туда запускали, и я в таком довольно грязном полуподвальчике или в кабинете врача, где тоже нет особой гигиены, на клочках бумаги, а часто на обрывках газеты, на полях, записывал все, что услышал в лагере, все, что хотел записать. Рукопись каждый день пополнялась и очень надежно пряталась. И я ходил по зоне веселый и бодрый. Наверное, слишком бодрый, потому что как-то замначальника по режиму, молодой лейтенант, с омерзением мне сказал: «Губерман, ну что ты все время лыбишься! Ты отсиди свой срок серьезно, когда вернешься — в партию возьмут».
Вы знаете, я был уверен, что о тайне этой книжки знают всего человек пять. Но однажды меня тормознул пахан нашей зоны, а зона большая, тысячи две с половиной, и пахан был очень солидный, матерый уголовник. Я его и раньше знал, но не общался в обычной лагерной жизни, потому что по иерархии мы были слишком далеко друг от друга.
Остановил он меня, припер: ты, говорит, книжку пишешь? Ну, говорю, пишу. Он: и все про нас напишешь?
— Да.
— И напечатаешь?
— Для этого и пишу.
Он говорит: «Мироныч, я вижу, ты нервничаешь, не нервничай, если ты все про нас напишешь и эту книжку напечатаешь, сразу просись обратно на эту же зону! Потому что второй раз в том же лагере жить гораздо легче».
Когда страна — одна семья,
все по любви живут и ладят;
Скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, за что тебя посадят.
«Откуда у вас такой стойкий оптимизм?»
Вы знаете, здесь нет никакой моей заслуги, я думаю, что это у меня гормональное. Может быть, в отца… Он был советский инженер, чудовищно запуганный 37-м годом, 49-м, 52-м. И впал в такой отчаянный оптимизм...
Он шутил так. Например, когда он видел в 70-е годы, с кем я дружу и с кем я пью водку, он очень любил подойти к столу и сказать: «Гаринька, тебя посадят раньше, чем ты этого захочешь».
Несколько лет тому назад в Москве в Бутырской тюрьме с разрешения начальства была организована выставка московских художников и фотографов. Эта выставка была для зеков, была им доступна. А я был в Москве и хотел прийти на открытие.
Устроитель выставки, мой товарищ, попросил начальника тюрьмы: «У нас здесь сейчас проездом Игорь Губерман, хочет прийти, но у него израильский паспорт. Как тут быть?»
Начальник Бутырской тюрьмы сказал: «Губермана я пущу по любому паспорту и на любой срок».
Про власть и про свободу
Я не люблю любую власть,
мы с каждой не в ладу,
Но я, покуда есть что класть,
на каждую кладу.
Свобода очень тяжкая штука. Это твоя собственная ответственность, твой собственный выбор, непонятность куда идти, как поворачиваться... Свобода ужасно тяжкий груз. Насколько он тяжкий, видно по сегодняшней России.
Народа российского горе
С уже незапамятных пор,
Что пишет он *** на заборе,
Еще не построив забор.
Вы помните, как все это начиналось в марте 85-го года. И вы знаете, я целый год, наверное, не верил, что в России будет такое счастье, как свобода. И так я целый год писал стишки недоверчивые. Многие стишки того времени оказались живы.
Вожди России свой народ
Во имя чести и морали
Опять зовут идти вперед,
А где перед, опять соврали.
Я писал стишки, забыв всякую бдительность и осторожность, друзья звонили утром и вечером, стишки уходили в Самиздат. Советская власть, всевидящее око, наглости не выдержала. И в самый разгар прав человека нас с женой вызвали в ОВИР, и дивной красоты чиновница сказала замечательные слова для эпохи законности: «Министерство внутренних дел приняло решение о вашем выезде».
И вот это уже стишки израильские:
О жизни там
Я весь пропитан российским духом, и я на самом деле российский человек, и здесь уже не важно, что я еврей. Я помню, редактор журнала «Знание — сила» сказал мне: «Ты — самый русский автор, старик, куда ты едешь?» А там нас как бы и нет… Я имею в виду гуманитариев, писателей. Израильтяне нас просто не знают, разве что нескольких человек, которых переводили, или музыкантов, которые там выступают. А так мы живем в русской среде, чуть-чуть геттообразной.
«Отчего же вы не вернулись, когда стало можно?»
Я не хотел жить в России. Во-первых, это очень унизительно сегодня. И потом, при своем характере я бы тут же оказался где-нибудь на обочине, в марше несогласных. А так я и в Израиле с ними не согласен. И прекрасно себя чувствую.
Про любовь
Я отдельно прочитаю про любовь и отдельно про семью — это разные вещи.
В душе моей не тускло и не пусто,
И даму если вижу неглиже ,
Я чувствую в себе живое чувство,
Но это чувство юмора уже.
Про семью
Я в семейной жизни счастлив очень, уже 45 лет. Не знаю как жена, она у меня молчаливый человек. Во всяком случае, заполняя анкеты, я в графе «семейное положение» всегда пишу «безвыходное». Жена на меня часто обижается, но она и сама надо мной издевается.
Вот в мае прошлого года такая была история у нас дома.
В окно влетел голубь и затрепыхался по комнате, и жена мне кричит: «Гони! Гони его скорей! А то он на тебя насрет как на литературный памятник!»
О старости
В одной знакомой семье умирал старый еврей, он очень долго болел и однажды сказал своим близким, что сегодня ночью он умрет и хочет спокойно и достойно со всеми проститься. И на закате пришел к нему проститься его пожизненный друг, который на полгода его старше.
Пришел сам, обнялись, поцеловались — «прости, если что не так».
А потом пришедший так помялся и говорит: «А ты точно сегодня умрешь?»
Тот отвечает: «Точно».
Друг говорит: «Тогда у меня к тебе просьба, если ты сегодня умрешь, то почти наверняка ты завтра-послезавтра увидишь Его. И Он тебя может спросить обо мне. Так вот ты меня не видел и не знаешь».
К очкам прилипла переносица,
Во рту протезы как родные,
А после пьянки печень просится,
Уйти в поля на выходные.
Несколько лет назад была замечательная история в Лос-Анджелесе. Я выступал в зале человек на пятьсот, таком круглом, покатом, с хорошей акустикой. И я сказал: «Старость не радость, маразм не оргазм», и вот это очень редко, но бывает в небольших аудиториях, когда смех не только вспыхнул одновременно, но и погас одновременно, и в резко наступившей тишине какая-то женщина грубо и резко сказала своему мужу: «Вот это запомни!»
Время остужает плоть и пыл
И скрипит в суставах воровато;
Я уже о бабах позабыл
Больше, чем я знал о них когда-то.
Уже много лет, освежая программу новыми стишками, я читаю стихи о старости и наших старческих слабостях. И как-то в Питере на сцену падает запоздалая записка, в которой оказались дивные стихи:
«О Гарик, я в своих объятьях
тебя истерла бы в муку.
Как жаль — публично ты признался,
что у тебя уже ку-ку».
Приходит возраст замечательный
И постепенно усыпляющий,
Мужчина я еще старательный,
Но очень мало впечатляющий.
Но у меня есть и бодрые стишки, вы не думайте!
Зря вы мнетесь, девушки,
Грех меня беречь,
Есть еще у дедушки
Чем кого развлечь.
Я дряхлостью нисколько не смущен,
И часто в алкогольном кураже
Я бегаю за девками еще,
Но только очень медленно уже.
О самоиронии
«Игорь Миронович, вы выходите на сцену и смеетесь в первую очередь над собой. Человек, который смеется над собой, выглядит неуязвимым. Это кажущееся ощущение? Вы вообще обижаетесь на что-либо?»
Не обижаюсь я, точно. Да и трудно меня обидеть. Есть замечательная лагерная пословица, очень жестокая, но верная: «Обиженных еб…т». Очень хорошая штука! «На обиженных воду возят» — более приличный вариант, но менее точный. Вы знаете, дружочек, это у меня чисто национальное. Здесь все очень просто. Еврейскому народу веками было свойственно над собой смеяться, в совершенно чудовищных, безвыходных обстоятельствах, и я думаю, что это спасало народ в целом за все тысячелетия длинной истории.
Есть совершенно гениальная еврейская притча, как во время погрома еврея распяли на воротах его дома, как Христа, и, когда ушли погромщики, его сосед, который не смел помочь, потому что боялся, вышел и говорит: «Больно?», а тот отвечает: «Только когда смеюсь».
Это, пожалуй, основополагающая наша черта. Миллионы наблюдательны в отношении соседа, но не в отношении себя. А евреи смеются даже над собой, и я очень многих таких знаю и думаю, это очень целебно.