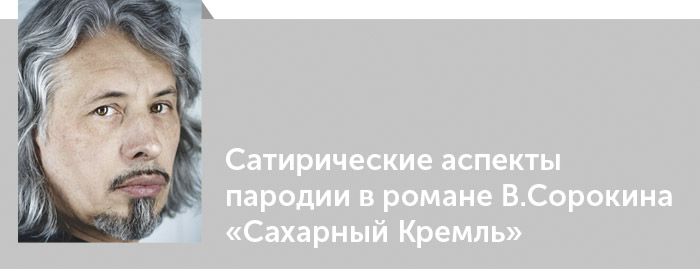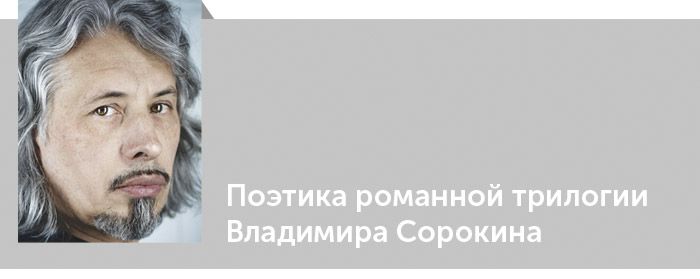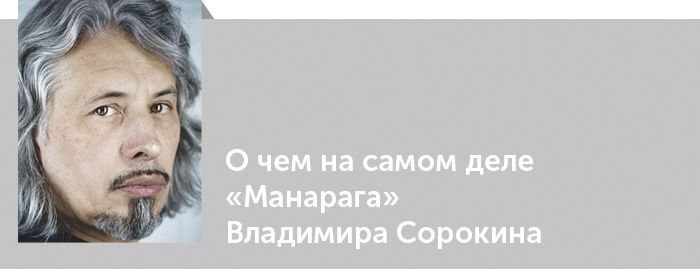Владимир Сорокин. Портретная галерея Дмитрия Быкова

1
Мы не так часто рассказываем о живых литераторах, но выход фильма «Сорокин трип» и сопутствующие ему статьи в сетевой прессе дают повод заново поговорить о Владимире Сорокине: в рекламных материалах о документальной картине, снятой в Подмосковье и Берлине, его называют единственным современным классиком, продолжателем традиции, даже единственным нашим современником, который уж точно останется в вечности. Дело не в том, что каждый настоящий писатель думает так именно о себе,— по крайней мере, в критических опусах я стараюсь заглушать голос писательского самолюбия; дело в том, что этот новый статус Сорокина нуждается в осмыслении. Тут налицо сразу несколько феноменов, заслуживающих разговора.
Интересно, что классиком в России может считаться только писатель, воздерживающийся от писательства (новый роман Сорокина вроде бы обещан, но то ли будет, то ли нет,— сам он всё чаще признаётся в растущем интересе к визуальному искусству, прежде всего к живописи, а книжной графикой он уже занимался в молодости). Пелевин был гораздо авторитетнее и, так сказать, культовее во время пятилетнего молчания. Думаю, только регулярные публикации сегодня мешают ему называться главным русским прозаиком. В России кратчайший путь к культовости лежит именно в области почти буддийского недеяния: слово — серебро, молчание — золото, смерть — лучший текст и так далее. Но это соображение не главное, как и возрастной фактор: за возраст в России прощают многое, но Сорокин ещё не вступил в советский «возраст почтения», отсчитываемый обычно от 70-летнего юбилея. 70 лет ему будет в 2025-м, а до этого многое может перемениться — правда, статус его только упрочится, тут уже и Нобелем пахнет. Пока же дело не в возрасте и не в конфликтах с властью, которых, кстати, давно не было,— да и акции «Идущих вместе» были скорее самодеятельностью не в меру ретивых братцев Якеменко; и где сейчас те идущие, куда пришли? Причина даже не в том, что пока весьма точно сбываются прогнозы, изложенные в «Дне опричника» и «Сахарном Кремле» (а Европа довольно успешно воплощает в жизнь «Теллурию»): все эти антиутопии, кажется, очень мягко и приблизительно живописуют тот бенц, к которому Россия стремительно несётся, не планируя никуда сворачивать. Все эти факторы важны, но не в них дело. Приходится признать, что нынешняя российская слава Сорокина отчасти связана с его концепцией человека, но и это слишком сильно сказано — такие понятия, как «концепция человека», сегодняшнему россиянину ничего не говорят. Впору вспомнить Владимира Соколова: «И не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Дело в том, что Сорокин второй раз волшебным образом совпал с эпохой: первая волна его славы пришлась на поздний застой с его трупными запахами, вторая — на поздний отстой с его даже более густым абсурдом. Сорокин этой эпохе в самую пору, и более того — он единственный, кого она ещё не переродила. Она гораздо радикальней всех фантазий Пелевина, её не пробьёшь здравым смыслом Акунина, а реализм или фантастика перед нею попросту бессильны. Да она и равнодушна к литературе — шаманов боится, а священники её уже не беспокоят: слишком сложны. Сорокин и есть такой шаман русской прозы, и эта практика — единственное, что ещё как-то воздействует на нынешнего читателя и ту часть власти, которая в принципе иногда читает художественные тексты.
2
Как почти всякий настоящий писатель, Сорокин имеет биографию почти бессобытийную: ничто не должно отвлекать литературного человека от литературы. Внутренних событий, вероятно, было множество, но нам о них ничего не известно, судить о них мы можем только по текстам, и слава богу. Внешняя канва — рождение в 1955 году, учёба в Губкинском институте, книжная графика, первые самиздатские публикации, «Очередь» в «Синтаксисе», книги на Западе, скандальное участие в первом букеровском списке, издание «Нормы» и «Романа» на родине автора, репутация главного русского постмодерниста, переход к совсем не постмодернистской «Ледовой трилогии» и «Метели», кремлёвские, а затем европейские антиутопии — всё это многажды описано. Оставим дискуссии о том, что такое постмодернизм и какое отношение имеет к нему Сорокин; его ранняя и наиболее радикальная проза была в основе своей пародийна — в самом высоком, тыняновском понимании пародии,— и отличалась как точностью стилизаций, так и особой жестокостью метафор. Особая жестокость эта диктовалась тем, что советский мир тогда уж очень надоел; но настоящее время Сорокина пришло только сейчас — потому что тогда ещё в социуме наличествовал процент полезных идиотов, которые верили в другие сценарии развития, а также в возможность какого-то «правильного» социализма. Тогдашний советский строй, правду сказать, ещё хоть как-то заботился об имидже, изображал миролюбие и вообще говорил приличные слова, хотя и делал монструозные дела. Эпоха по-настоящему сравнялась с текстами Сорокина только теперь, когда власть занимается уже чистой опричниной, но в софт-варианте, в формате пародии. Великому пародисту — великая пародийная эпоха, которая по отношению к сталинизму или чёрной сотне глядится именно насмешкой, только гораздо более пещерной по исполнению и потому не только смешной, а скорее именно жуткой. Это жуть не готическая, не высокая и не культурная — это жуть свалки в спальном районе. В конце концов, маньяк ведь тоже довольно страшен, но это ужас не культурный, потому что и сам маньяк чаще всего непроходимо туп; но ведь страшна бывает не только высокая готика. Страшна бывает и лесополоса, и я думаю, что лесополоса страшнее.
Сорокин — гений именно таких локаций. В лучших его рассказах эффект строится на том, что в искусственную, стерилизованную реальность соцреализма или гламура — по приёмам они почти неотличимы — врывается пещерная хтонь, иррациональная дикость, магическая архаика, кровавый ритуал: так устроены почти все тексты «Первого субботника», где оргия вырастает из партсобрания, так сделан «Падёж» — самая сильная часть «Нормы». У Пелевина в эссе «Бульдозер» есть замечательная мысль:
«Может показаться (некоторым действительно кажется), что в двадцатые годы работала какая-то секретная комиссия, отбиравшая самые иррациональные ритуалы из магического наследия прошлого, придавая им новую форму. Но, видимо, всё было проще. (...) Представим себе бульдозериста, который, начитавшись каких-то брошюр, решил смести всю эту отсталость и построить новый посёлок на совершенно гладком месте. И вот, когда бульдозер крутится в грязи, разравнивая будущую стройплощадку, машина вдруг проваливается в подземную пустоту. Ни бульдозерист, ни авторы вдохновивших его брошюр не учли, что, когда они сметут всё, что, по их мнению, устарело, обнажится то, что было под этим, то есть нечто куда более древнее. Психический котлован, вырытый в душах с целью строительства «нового человека» на месте неподходящего старого, приводит к оживлению огромного количества архаичных психоформ».
Сорокин и есть наиболее талантливый и плодовитый иллюстратор этой пелевинской мысли — пришедший к ней, скорее всего, самостоятельно и интуитивно. Но читатель вряд ли рефлексирует так глубоко. Сорокинские тексты нравятся не только потому, что совпадают с нашим тайным представлением о языческой и магической природе позднесоветской и особенно постсоветской реальности. Сорокина так приятно читать ещё и потому, что его мрачные и смешные фантазии совпадают с нашими давними желаниями: положительного героя советской прозы, которого нам вечно навязывали в качестве примера для подражания или, на крайняя, объекта для сочувствия, всегда очень хотелось расчленить, причём как можно более жестоко; заставить обосраться и жрать говно; отправить ночью на кладбище совокупляться с трупом... Именно это и делают герои Сорокина, причём чаще всего они занимаются буквализацией, овеществлением самых избитых метафор. Любовь к мёртвым оборачивается буквальным труположеством, просящий руки помещичьей дочери получает эту руку в отрезанном виде, смерть романа как жанра оборачивается смертью конкретного Романа, который предварительно поубивал всех, а потом очень долго дёргался; таким же переводом советских поэтических штампов в живые картинки занимается Сорокин в отдельной главе «Нормы», где у него ходит по улицам одинокая гармонь. Это почти всегда смешно, иногда страшно, но главное — это очень терапевтично. Нет ничего более облегчающего, даже катарсического, чем осуществление этой давней мечты — превращение соцреалистического персонажа в фарш, совокупление картонного ветерана с картонным ребёнком, поедание говна классическим положительным героем... Этой копрофаги у Сорокина действительно очень много — такие сцены наличествуют в «Сергее Андреевиче», «Сердцах четырёх», а «Норма» вся на этом построена, но что ж поделать, если обитатель данной территории большую часть жизни вынужден именно жрать говно — как в смысле буквальном, так и в метафизическом, потому что без этой привычки никто его не признает полноценным членом общества? Это своего рода инициация, и неслучайно призывнику, эмигранту или практиканту обещают, что он будет полной ложкой жрать говно. «Ешь говно, да не капь — возьми ложечку да ешь понемножечку». Этим занимается любой потребитель отечественной телепропаганды, будь то шоу Владимира Соловьёва или «Ленинский университет миллионов». Этим занимается клиент отечественного сервиса. Этим занимается пользователь осенней погоды, и в этом уж точно никто не виноват. Но с таким самоощущением читатель Сорокина живёт — и он благодарен автору за извлечение на поверхность собственных тайных мыслей. Мы все хотели прочитать, а может быть, и написать то, что написал в восьмидесятые-девяностые Сорокин. Помню, как Мария Арбатова доказывала Дмитрию Пригову, что сама легко могла бы написать, как Сорокин, а он терпеливо ей объяснял: фокус в том, чтобы написать это до Сорокина, потому что после Сорокина это могут все. Просто он был чуть более радикален в своих фантазиях — и после него уже невозможно не увидеть в слове «радикал» другого, куда более короткого и весёлого слова.
3
В описаниях всего, что заменяет собою человеческую жизнь, Сорокин не знает себе равных, и в эпоху, когда о жизни изо всех сил стараются забыть, вытесняя из сознания любую память о ней, он действительно писатель номер один. Он наиболее адекватен эпохе, о которой нельзя написать никакую сюжетную прозу. Строго говоря, сюжетом современной прозы и является бегство от сюжета, главной страстью — бегство от страстей, которые так осложняют жизнь; в современной прозе начисто отсутствуют работа, которая приносит радость, увлечения, которые имеют смысл, и отношения, которые обогащают душу. (Всё это так ужасно звучит!) Зато в избытке присутствуют стыд, тревога, ненависть и нежелание заглядывать в прошлое или будущее (прошлое, впрочем, ещё иногда допускается — если автор любит употреблять слово «травма» и рассчитывает на внимание европейских университетов).
Герои Сорокина не живут — а потому и смерть их не воспринимается как трагедия; в мире чистой физиологии, где существуют наслаждение и мучительство, но отсутствуют чувства и цели, он чувствует себя как рыба в воде. Вот почему его самые удачные тексты последних лет — утопические по своей природе и стилизаторские по методу книги «День опричника» и «Сахарный Кремль»: «Князь Серебряный», переписанный с учётом новых реалий и с большим, надо признаться, аппетитом. Для критика тут нет ничего особенно интересного, хотя для читателя — масса приятного. Но в одном предсказании Сорокин идеально точен. Пророчица Прасковья Мамонтовна на вечный вопрос «Что с Россией будет» отвечает: «Будет ничего».
Именно так оно и есть.
4
Девяностые запечатлены у Сорокина и только у него, поскольку это было десятилетие именно такой не-жизни — при очень бурной, однако, имитации её и при страстном, физиологически жадном наслаждении некоторыми новыми возможностями. Страна была уж подлинно подросток и многое пробовала, не соображая.
Аналогом производственного романа в условиях криминальной революции стали «Сердца четырёх», в которых изящество замысла несколько подпорчено физиологичностью деталей; некоторые вещи нельзя вовсе уж игнорировать, и они портят удовольствие, как слишком густая и пушистая плесень на сыре. Сама же история — набор хаотичных и ужасных действий без всякой цели, с соблюдением ритуала, но без конечного смысла,— вполне соответствует пелевинским «Числам», только у Пелевина это тройка с четвёркой, а у Сорокина 6, 2, 5, 5. Но настоящей летописью девяностых стал сценарий «Москва», который особенно удался именно как киноповесть — фильм получился длинным и нудным, и замена предполагавшегося Максима Суханова на Станислава Павлова в роли Льва никак не способствовала «Москве» к украшенью. Сюжет там, в общем, роли не играл, как и всегда у Сорокина, а вот приметы московского стиля — фальшивого гламура с предчувствием скорого краха — были уловлены безупречно, и типажи оказались узнаваемы, хотя, пожалуй, слишком анекдотичны. Но от Сорокина никто и не ждёт психологизма, психологизм вообще не был сильной стороной искусства девяностых — ни в «Бригаде», ни в сценариях Луцика и Саморядова, ни в тогдашней прозе Сорокина, Пелевина и Акунина этого добра нет вовсе. А вот некоторые диалоги оказались идеальны, и отдельные реплики — пусть шизофренические, поскольку и произносит их шизофреничка Оля, недавно покинувшая стационар,— стали самым точным диагнозом эпохе и стране:
«Если специально всё вокруг поковырять — оно всё внутри мягкое, и иногда мне страшно, что это всё некрепко и упадёт. То есть дом упадёт и ничего, а может, не упадёт, просто у него внутри, например, картошка с тефтелями, особенно если их перемешать. Вот весь из этого и состоит. Так вот внутри всего, всего вообще, ну, любого дерева или головы, она спрятана. Кавычка. Внутри всего. Всё может быть. И её нужно найти. Она как ключик, ну, или похожа на эту штучку от пива, которая железная и маленькая. Её нужно найти и дёрнуть. И тогда всё сразу обвалится, как рвота, и всё — стоит на месте».
Это немного похоже на тексты Ренаты Литвиновой, на которую тоже сильно повлияли, по собственным её признаниям, записи шизофренических бредов на гибких грампластинках, прилагавшихся к учебникам по психиатрии (особенно к любимому чтению советских школьников — «Психиатрии» И.Ф.Случевского 1957 года издания). Но Рената Литвинова слишком сама персонаж, а Сорокин на свои тексты совсем не похож. Это многих и раздражает в «Сорокин трипе» — такой себе барин, благообразный, даже респектабельный. Но ведь там внутри ужас, сплошная детская травма, кровавое мясо — просто к своей кавычке он никого не допустит, он сам с ней работает, персонально. При этом он человек действительно очень здоровый, то есть травма отдельно, а жизненная практика отдельно. Травма может стать источником благосостояния, даже процветания, и это лучшее, что с ней можно сделать. Поэтому Сорокин своими душевными болезнями распорядился, пожалуй, наиболее эффективно. Именно поэтому его Оля стала главной героиней «Москвы» — наименее банальной, наиболее убедительной. Понятно, что с точки зрения золотой молодёжи семидесятых, у которой не было никаких иллюзий в девяностые и которая всё понимала насчёт КГБ,— люди девяностых не выдерживают никакой критики, это именно картошка с тефтелями; такой взгляд на них выражал в этом сценарии Марк, в некотором смысле сорокинское альтер эго (хотя Сорокин-то к золотой молодёжи никогда не принадлежал, московские концептуалисты жили скромнее). Оля — душа Москвы и душа картины, и лучшее, что в ней было,— советские песни, исполняемые механическим кукольным голосом под страшную и жалобную музыку Десятникова. И этот звук, страшный и печальный, немного напоминающий «Песни Гретхен» Локшина (почему многим и кажется, что у Локшина в душе был самый настоящий ад),— как раз и остался от всех девяностых годов. Можно сказать, что это единственная тайная эмоция сорокинской прозы, вообще-то безэмоциональной; это проза ощущений, а не чувств, физиологии, а не психологии. Но в некоторых сочинениях Сорокина есть именно этот чрезвычайно чистый звук, мироощущение довольно детское, как у Пелевина в «Онтологии детства», но иррациональнее и мучительнее.
5
Сорокин — прежде всего новеллист, мастер рассказа, на рассказы распадаются все его романы (кроме «Тридцатой любви Марины», которая, в сущности, и есть большой рассказ с несколькими необязательными, но технически безупречными флэшбеками). И несколько его сравнительно поздних рассказов — «Метель», «Лошадиный суп», «Красная пирамида» — образцовые триллеры, пронизанные не только иррациональным ужасом советской лесополосы или пригородной электрички, но ещё и чистой печалью, высокой тоской, чувством безнадёжной утраты. Это не утрата советских времён или советских ценностей, боже упаси; это ощущение, что когда-то на этом месте была жизнь, а теперь её нет.
«Красная пирамида» скомкана, потому что писать классический триллер Сорокину стало неинтересно — он написал обычный рассказ для глянцевого журнала, но очень хороший рассказ, с замечательно придуманными опорными точками. Этот белый толстяк на пустой платформе «Зелёный бор», знающий всё, подмосковный шестикрылый серафим с лицом, совершенно ничего не выражающим,— очень точен, каждый его хоть раз видел, и пирамида красного рёва, про которую он говорит, тоже придумана почти по стивен-кинговски, она запоминается. Это и есть, в общем, вполне стивен-кинговский рассказ, в духе «Крауч-энда», доказывающий, что Сорокин умеет абсолютно по любому, в любой чужой манере, аккуратно и умело перенесённой на русскую почву. Пожалуй, ему одному было бы по силам написать настоящий русский триллер, да он и написал их несколько — «Путём крысы», например; построены они все более или менее одинаково, как и рассказы вроде «Смирнова» или «Моноклона»; писал же Андрей Архангельский, что вместо «Сорокин написал новую книгу» правильней было бы сказать: «Ещё одну книгу». Думается, и у него, и у Пелевина, который вообще поставил творчество на поток, периодическое выпускание этих книг — уж никак не заработок, а именно выполнение ритуала, поскольку в наше время числа и шаманизм надёжнее прочих духовных практик; повторение устойчивых приёмов в сорокинских книгах не эксплуатация уже открытого, а что-то вроде наложенной на себя епитимьи или обсессии, исцелить которую можно только одним способом — сдаваясь ей на милость.
Но среди этих одинаковых по композиции, неизменно хорошо написанных текстов есть у Сорокина несколько сочинений, которые ни под кого не стилизованы и больше всего похожи на личный опыт; герой этих рассказов, как правило, ребёнок, который глубоко заглянул в непостижимое и насмерть перепугался. Мне представляется, что лучший рассказ Сорокина — «Чёрная лошадь с белым глазом», действительно страшный, но это не те поверхностные страхи из «Сердец четырёх», не натуралистические кошмары из «Первого субботника», а настоящий, тихий, тоскливый подземный ужас, который бывает только в канун большой войны.
«Даша заглянула в лошадиный глаз. Она была уверена, что в глазу у лошади всё белое-пребелое, как зимой. Но в белом глазу совсем не оказалось белого. Наоборот. Там всё было какое-то красное. И этого красного в глазу напхалось так много, и оно всё было какое-то такое большое и глубокое, как омут у мельницы, и какое-то очень-очень-очень густое и жадное, и как-то грозно стояло и сочилось, подымалось и пухло, словно опара. Даша вспомнила, как рубят курам головы. И как хлюпает красное горло. И вдруг ясно увидала в глазу у лошади Красное Горло. И его было очень много. И Даше стало так страшно, что она застыла, как сосулька».
Это очень просто сделано, но здесь есть самое распространённое чувство XX века (а он ведь не кончился, по крайней мере в России),— ужас ребёнка, который впервые понял, что мир устроен вот так, что под оболочкой в нём вот это, что оболочка уже треснула.
Эта единственная подлинная эмоция в прозе Владимира Сорокина сильней и серьёзней всех его стилизаций, всех фельетонных прозрений и пародийных пыток.
И только она делает его безусловным писателем — не единственным и не первым среди многих, но принадлежащих к весьма достойному ряду; и это одно — уже очень много.
Дилетант №11, ноябрь 2019 года