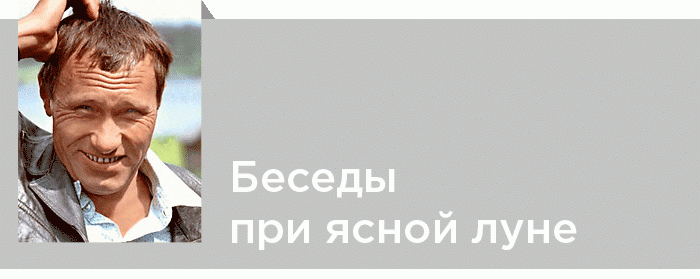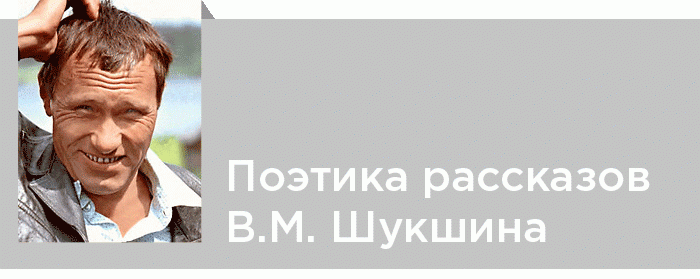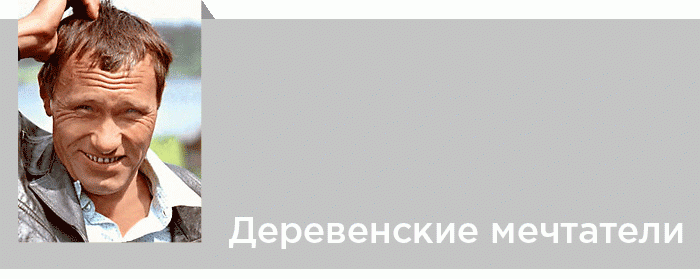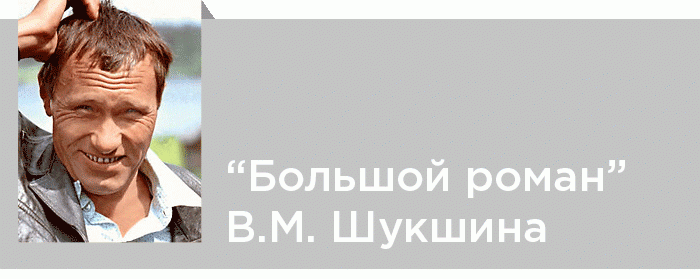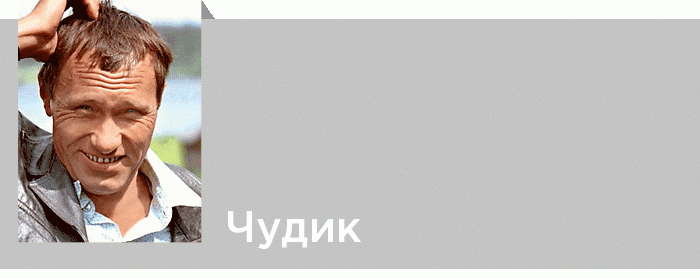Кинематограф Василия Шукшина: вочеловечение притчи

УДК 7.01
ББК 85.37
Михеева Юлия Всеволодовна,
кандидат философских наук,
заведующий отделом междисциплинарных исследований киноискусства,
ФГБОУ ВПО «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С. А. Герасимова»,
ул. Вильгельма Пика, д. 3, 129226 г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: Фильмография российского режиссёра Василия Макаровича Шукшина является экранным воплощением трудного духовного пути автора. Кинокартина «Калина красная» (1973) стала не только его последней режиссёрской работой, но и исповедальным словом, духовным завещанием. Этот фильм — не только психологическая драма, но пример интуитивной религиозности автора в творчестве, проявления в его кинодраматургии христианизированного сознания человека русской культуры. Сюжет картины, благодаря духовной устремлённости личности автора, поднимается с бытового уровня на уровень бытийный. Автор статьи анализирует и интерпретирует фильм «Калина красная» как художественное воплощение новозаветной притчи о блудном сыне, соединяющее в себе реалистичность сюжетного материала и надсюжетность семантики. При этом особое внимание обращается на то, какие изменения претерпевает литературная основа сценария (киноповесть Шукшина) при её аудиовизуальном «переводе» на язык кинематографа.
Ключевые слова: кинематограф Шукшина, кинопритча, кинодраматургия, аудиовизуальное решение кинофильма, христианские мотивы в кинематографе.
Mikheeva Julia Vsevolodovna,
PhD in Philosophy, Head of the Department for Interdisciplinary Research, Institute of Film Art, VGIK Gerasimov All-Russian State University of Cinematography, Vilgelma Pika str., 3, 129226 Moscow, Russian Federation
THE CINEMA OF VASILY SHUKSHIN; EMBODIMENT OF THE PARABLE
Abstract: Filmography by Russian director Vasily Shukshin is the screen embodiment of the difficult spiritual way of the author. The film Kalina krasnaya (Red Snowball Tree) by Russian outstanding director Vasily Shukshin became not only his last work as a director, but it also stayed as his confessional word and spiritual testament. This film is not a simple psychological drama, but it’s an example of intuitive religious sense of the author and appearance of Russian Christianized consciousness. Due to spiritual aspirations of the author, the film story rises from everyday life level to ontological area. The article analyses and interprets this film as an art manifestation of New Testament parable about return of the prodigal son connecting both a realistic story and over- realistic semantics. The special attention is dedicated to changes of film’s literary base that took place during its audiovisual «translation» to cinematographic language.
Keywords: Vasily Shukshin, film parable, screen drama, audiovisual film conception, Christian motives in cinematography.
В 1960-1970-х гг. в отечественном кино всё более нарастало понимание необходимости поиска нового художественного языка, новых художественных форм для выражения на экране тем и образов, находившихся под гласным или негласным запретом цензуры. Архивные документы тех лет красноречиво свидетельствуют о том, как безжалостно вытравливались из кинопроизведений не только христианские (библейские) образы, виды церквей и храмов, но даже намёки на религиозную тематику. Если от Андрея Тарковского требовали «устранить концепцию Бога» в «Солярисе», а из «Зеркала» убрать «несоветскую» музыку Баха и «библейский характер» разговоров, то Элема Климова уличали в использовании «религиозных мизансцен» в «Прощании»; Ларисе Шепитько предписывалось убрать «библейские ассоциации» образов и «торжественную религиозную музыку» Альфреда Шнитке из «Восхождения» [4, с. 21-26].
Режиссёры отстаивали свои творения сверхусилием воли и характера, ценой потери здоровья. И поэтому совершенно оправдан был тот факт, что многие важные для авторов темы переводились ими на иносказательный язык притчи. Но одновременно «притчевость» высказывания отвечала и духу времени, когда прямое, декларативное художественное высказывание теряло свою актуальность. Особенно интересными и важными были случаи (хотя случайными такие события не бывают), когда кинокартина, не представавшая в изначальном замысле автора как иносказание, вполне жизненная, бытовая в своём сюжетном материале, вырастала до библейской притчи, поднимаясь с уровня бытового на уровень бытийный. Такое поразительное явление мы можем увидеть и почувствовать в кинематографе Василия Шукшина. Но к этой кульминации режиссёр шёл на протяжении всей своей творческой жизни, его фильмы стали воплощениями исканий и страданий его беспокойной души.
Уже в ранних произведениях Шукшина нет комфортной успокоенности, и состояние этого неспокойствия (а точнее, растревоженности сознания) передают три основных выразительных и очень материальных образа: человек, дорога, дом. Но человек (герой) у Шукшина — не состоявшаяся, законченная, цельная личность-характер-судьба, а — при всей простоте внешнего облика — личность- в-становлении. Это скорее проявление внутреннего ощущения (слышания) героем связи Человек-Мир как нечто большего, чем кажется всем остальным. Не случайно почти в каждом произведении Шукшина возникает, а точнее, рождается из потребности души песня—как высказывание более подлинное, чем говорение. И в каждом произведении — устремлённость в неведомое (дорога) и поиск пристанища (дом).
Шукшин выводит своих героев на экран, как бы боясь, чтобы его не уличили в фальши, актёрском наигрыше, неуместном пафосе. И поэтому все эти люди показаны с большой долей иронии — добродушными чудиками, народными героями с народной же хитрецой, но всегда с открытой миру душой, без лживого многоличья и многоречья. И на этом квазилубочном фоне вдруг звучит фраза (зачастую одна единственная фраза!), освещая всё вокруг совершенно иным светом, и зритель понимает, что весь этот «народный театр» был выстроен, возможно, ради этих нескольких слов (выпадение из игры). Простой парень-шофёр, весельчак и балагур Пашка Колокольников («Живёт такой парень», 1964), совершивший «по дурости» подвиг (увёз горящую машину от бензохранилища), лёжа в больнице, задаёт вопрос соседу — пожилому учителю:
— Вот вы принадлежите к интеллигенции.
— Ну, допустим.
— Книжек, наверно, много прочитали. Скажите: есть на свете счастливые люди?
— Есть.
— Нет, чтобы совсем счастливые.
— Есть.
— А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так...
Шукшин в первых своих киноработах как бы подбирается к действительно серьёзному разговору о мучивших его вопросах. Проблемы смысла существования, самопознания, взаимоотношения с миром и «тем, что за миром» («Meta ta physika»), образ Матери, образ Дома — всё это возникает в его работах сполохами сознания, прорывается лучами света сквозь плотную завесу повседневности. В картине «Калина красная» (1973) вся эта душевная работа собирается воедино и становится мощным исповедальным высказыванием человека страдающего.
В целом, можно сказать, все предельные (проклятые, по Достоевскому) вопросы собираются в повествование, являющееся современным воплощением притчи о блудном сыне, известной нам из Евангелия от Луки. Потрясающую по Шубине интерпретацию этого эпизода Священного Писания изложил в своё время митрополит Антоний Сурожский [3, с. 75-90], и именно к ней всё время обращаешься мыслью, когда смотришь фильм Шукшина.
«Эта притча чрезвычайно богата содержанием. Она лежит в самой сердцевине христианской духовности и нашей жизни во Христе; в ней человек изображён в тот самый момент, когда он отворачивается от Бога и оставляет Его, чтобы следовать собственным путём в “землю чуждую”, где надеется найти полноту, преизбыток жизни. Притча также описывает и медленное начало, и победоносное завершение пути обратно в отчий дом, когда он, в сокрушении сердца, избирает послушание».
В своей последней режиссёрской работе Василий Шукшин показывает человека, вставшего на трудный путь: от осознания своего отчаянного состояния к попытке найти твёрдую почву под ногами, найти дом для своей души. Но как же мучительны первые шаги по этому пути, какой щемящей болью отзываются они в душе зрителя!
Осознание своего отчаянного положения начинается у Егора Прокудина с чувства неправды (игры), из которой состоит его жизнь. Новое, по сути религиозное чувство Егора пробуждается из ощущения диссонанса внутреннего голоса души и «надрывного стона» наличного существования. Ведь в начале фильма этой разделённости ещё нет. Егор выходит из тюрьмы, отсидев очередной срок за ограбление магазина, и направляется к некой женщине по имени Люба, о которой он может сказать только то, что она «хорошие письма пишет». Теплота отношения к нему далёкой «знакомой по переписке» уже даёт ему ощущение дома, места, где тебя ждут. В этот момент его чувство внешнего физического освобождения полностью тождественно его внутреннему ощущению обретённой свободы. Шофёру попутки, на которой он добирается до города, Егор говорит:
— А ты радоваться умеешь?
— Чё радоваться-то?
— Это я, брат, не знаю... Умеешь радоваться — и радуйся.
Было бы у него три жизни, говорит Егор, одну бы он — так и быть — просидел в тюрьме, вторую отдал бы... да хоть тому же шофёру, ну а третью — прожил бы сам, как говорится, «на всю катушку». Его душе, которая для него пока лишь вместилище жизненных удовольствий, «нужен праздник». Но что это за праздник, в чём он должен выражаться, чтобы его душа действительно «отдохнула»? Он сам не знает. Реальная жизнь противится его желанию просто радостно жить. Люди из другой, «свободной» жизни никак не хотят разделить с ним радость вольного существования, отворачиваются, сторонятся его, не пускают в дом. И в его сознание уже закрадывается мысль, что «праздник» в этой его жизни вряд ли состоится. Вынужденный зайти на воровскую «малину», чтобы переночевать, Егор попадает в очередную облаву и снова должен бежать, спасаться. Но от чего действительно он бежит? «Уходить, уходить... Когда приходить-то буду?» — говорит он сквозь зубы. В этот момент, возможно, в первый раз Егор ощутил неправду своей жизни. Как пел наш великий бард, «И ни церковь, ни кабак, ничего не свято! Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята...».
Но ещё долго он избегает всякого рода неприятных моментов, которые могут омрачить его радостное настроение. Для этого ему приходится врать и выкручиваться, да ведь ему не привыкать. В первом же разговоре с Любой Егор представляется бывшим бухгалтером, жертвой преступления, совершённого другими. Избегая неприятных расспросов, он «переходит в наступление» в разговоре и с родителями Любы, и с её братом Петром. Напряжение постоянного противопоставления себя другим, постоянной готовности к защите своего Я прорывается в итоге исповедальными словами в разговоре с Любой: «Я бы хотел не врать. Но я всю жизнь вру. Я должен быть злым и жестоким. Но мне жалко бывает людей. Так тоже жить нельзя! Так тоже жить нельзя! Я вот не знаю, что мне с этой жизнью делать. С поганой жизнью. Может, мне добить её вдребезги? Веселей бы как-нибудь только, с музыкой бы! Ни о чём бы не думать под конец...». В этом словесном излиянии самая важная фраза, сказанная вроде бы вскользь, — о жалости к людям, к другим. В этой фразе—интуитивное чувство необходимости какого-то другого существования в мире людей, желание сближения с ними, предощущение возможности выхода из своей неправды к свету через людей, с помощью ближних. И чувствует Егор, что не получится у него «ни о чём не думать под конец». Думать придётся, и думы его будут мучительны. Но всё-таки он устраивает самому себе последнее испытание, можно сказать, «самоискушение»: «Я останусь один и спрошу свою душу: как мне быть?»
Егор выходит «в люди» с самыми прекрасными, как ему кажется, намерениями. Но окружающие его намерений не понимают, девушки шарахаются от его «ухаживаний». И тогда он озлобляется: «Ладно, подождите. Я вам устрою. Я поселю здесь разврат. Я опрокину этот город во мрак и ужас. В тартарары!» Он покупает себе «выходной» костюм. Берёт в кафе шампанское. Картинно трясёт перед официантом пачками денежных купюр и заказывает «разврат». Опять врёт Любе по телефону, что «задержался в военкомате». Но... когда он видит эти помятые, некрасивые, тупые лица, собравшиеся на его (его!) праздник, до него, наконец, доходит, что лживое не может быть прекрасным и «праздник души» за деньги не купишь. Он остаётся стоять в коридоре у репродукции картины Крамского «Незнакомка»[I] (кулон с этим же портретом был на Любе во время их первой встречи). «Нет, Михалыч, это не праздник, — говорит он уже после всего официанту-распорядителю. — Слушай, а он вообще-то есть в жизни, праздник-то?»
В киноповести Егор ведёт себя иначе, чем в фильме. «Михайлыч распахнул дверь... И Егор в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошёл развратничать». Речь Егора (в литературном варианте), начавшись с предложения всем выпить, нарастает как снежный ком и летит под откос: «Вот вы все меня приняли за дурака — взял триста рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд! Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда она отелится... Люди!.. Давайте любить друг друга! — Егор почти закричал это. И сильно стукнул себя в грудь. — Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирают?! Я не понимаю вас... Не понимаю! Отказываюсь понимать!.. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, я... не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит — но страшно. Мне страшно! Вот штука-то...» [5, с. 423].
Что же осталось от этого страстного монолога в фильме? Егор делает только один шаг навстречу «народу, собравшемуся для разврата», и, поражённый, останавливается со словами: «О Господи, боже мой. Прямо девочки с персиками!» Вопрос одного из «гостей», что же они всё-таки празднуют, Егор будто не замечает: «Ну, дяди и тети! Давайте будем начинать кушать. Не торопитесь, мечите пореже». Шукшин, тонко чувствуя специфику кадра, постарался избавиться от пафоса в этой сцене, максимально усилив иронический и саркастический колорит, в основном при помощи крупных планов лиц гостей и всё говорящей мимики лица самого Егора.
«Оставленный друзьями, отверженный всеми, блудный сын остаётся наедине с самим собой и впервые заглядывает в свою душу. Освободившись от всех обольщений и соблазнов, лжи и приманок, которые он принимал за освобождение и полноту жизни, он вспоминает детство, когда у него был отец, и он не должен был, словно сирота, скитаться без крова и пищи. Ему становится ясно, что нравственное убийство, которое он совершил, убило не отца, а его самого, и что та беспредельная любовь, с которой отец отдал свою жизнь, позволяет ему сохранять надежду. И он встаёт, оставляет своё жалкое существование и отправляется в дом отца с намерением пасть к его ногам в надежде на милость. Но не только воспоминание картины домашнего уюта — огня в очаге и накрытого к обеду стола — заставляют его возвратиться; первое слово его исповеди не “прости", а “отец"».
После несостоявшегося «праздника» Егор возвращается в деревню к Любе. Но сразу пойти к ней в дом он не может, потому что уже не может врать. «Где же мои вороные-то? То ли они пропали, то ли их вовсе не было? Сорок лет живу, а сказать нечего». С этого момента жизнь Егора Прокудина обращена к правде, к поиску, выкапыванию и очищению этой правды в своей душе. И здесь опять появляется идеальный образ Дома, связанный с детством, родной деревней, матерью — всем, что указывает (вызывает в памяти) на изначально чистый образ человека и что безвозвратно утрачено вследствие неправильной (неправедной) его жизни. «Я из своего детства только мать помню и корову». Корове кто-то из деревенских вспорол тогда вилами живот. Мать он не видел почти два десятка лет. Да и деревни его, Листвянки, вроде бы уже не существует на карте района. И вот мы подходим к смысловой кульминации всей картины. Егор находит свою старенькую мать, но боится не только заговорить с ней и назваться сыном, он боится даже взглянуть на неё! Говорить с матерью (в спаленке) он посылает Любу, сам же остаётся сидеть в сенях. И чёрные очки он надел не для того, чтобы мать не узнала его раньше времени, а для самого себя, как защиту от той правды, которая ослепляет и оглушает, поражая в самую душу. Если встреча с людьми (беспокойство) постепенно отвела его от неправды, то встреча с матерью (катастрофа) обратила его к Богу. Егор несётся в грузовике прочь от лучистых глаз своей матери-старушки, улыбающейся на прощанье из окна своим нежданным гостям. Выехав в чисто поле, где среди редких берёз лишь заброшенная белая церковная колокольня, Егор бросается наземь (похоже, этот холмик — заросшая могила на старом погосте) и, зарывая своё лицо в траву, вгрызаясь в землю, отчаянно призывает Господа в своём покаянии'. «Не могу больше, Люба! Тварь я последняя, тварь! Подколодная тварь! Не могу так жить! Господи, прости меня, Господи, если можешь!»
Теперь каждое его слово — правда.
«Ох, как тяжело... Дай мне время, дай мне срок».
И опять: экранная версия этого кульминационного эпизода с его предельным эмоциональным накалом «стояния на краю» очень отличается от его литературной основы, но уже в совершенно обратном направлении. В киноповести этот эпизод дан в гораздо более сдержанной тональности:
«Выехали за деревню.
Егор остановил машину, лёг головой на руль и крепко зажмурил глаза.
— Чего, Егор? — испугалась Люба.
— Погоди... Постоим... — осевшим голосом сказал Егор. — Тоже, знаешь... сердце заломило. Мать это, Люба. Моя мать.
Люба тихо ахнула:
— Да что же это, Егор? Как же ты?..
— Не время, - почти зло сказал Егор. — Дай время... Скоро уж. Скоро».
Это сравнение двух версий одного события очень важно. Мы можем видеть, насколько сильно режиссёр Шукшин передумал и переработал внутреннюю суть этого эпизода, вырастив его до экзистенциального события. Известный киновед Валерий Фомин, бывший свидетелем процесса съёмки картины, в разговоре с автором этой статьи вспоминал, как чуть было не погубил кадр в попытке прорваться к Егору Прокудину — Шукшину, у которого, как казалось, в этой сцене сейчас разорвётся сердце.
«...из глубин его вырывается слово “отец”, оно подгоняет его и окрыляет надеждой. И в этом он открывает истинную природу раскаяния: в настоящем раскаянии сочетаются видение нашего собственного зла и уверенность, что даже для нас есть прощение, потому что подлинная любовь не колеблется и не угасает. При одном только безнадёжном видении наших проступков раскаяние остаётся бесплодным; оно исполнено угрызений совести и может привести к отчаянию».
Режиссёр Шукшин вышел за рамки литературной сдержанности, поднявшись в звукозрительном экранном раскрытии образа Егора Прокудина до выражения человеческого предела, когда в полном самоуничижении, покаянии открываются глубины человеческой личности, о которых он, возможно, не подозревал до этого момента, но прозрение которых знаменует начало новой жизни, возрождения подлинно человеческого в человеке.
Это потрясение, которое сообщается зрителю, созвучно чувству, вызываемому образами Ф. М. Достоевского. Разве не те же по сути события происходят с Дмитрием Карамазовым? Тот же «праздник». Тот же «разврат». То же отчаяние и душевная катастрофа. И та же внезапно нахлынувшая любовь ко всем, когда даже «Бога жалко». «Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех — пусть уж так будет решено теперь — из всех я самый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить его внешней силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!» [2, с. 567] Несправедливо обвинённый в убийстве отца, сознающий, что проведёт долгие годы на каторге, что говорит заключённый Митя своему брату Алеше? «Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась!» И хотя речь Мити граничит с истерической экзальтацией (естественной, впрочем, в силу его характера и сопутствующих обстоятельств), мы должны уловить главное: рождение из бездны душевного отчаяния понятия радости, связанной с образом Бога\ «О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость, это его привилегия, великая... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землей без Бога?» [2, с. 567]
У Дмитрия Карамазова ещё есть время — долгие годы — для жизни в открывшейся ему божественной радости. У Егора Прокудина такого времени для перерождения души уже нет. Прошлое настигает его в лице бывших дружков. Он знает, что конец близок, и сам идёт ему навстречу как к неизбежности. Новая жизнь, которая могла бы состояться, вспыхивает только в коротких внутренних вопросах к самому себе: «Это хорошо, что мы живём? Может, уж лучше было не родиться?» У Егора Прокудина нет времени на вопрошание, нет возможности задать те вопросы, которые помещаются между понятиями жизни и смерти. Умирая от бандитской пули, он сам себе отвечает: «Надо жить! Надо бы только умно жить. Я ведь много повидал на веку, даже устал. Душа моя скорбит. Дай время, всё будет хорошо». Егор Прокудин нашёл только один ответ: что такое смерть — и что такое не-жизнъ. Было бы у него ещё время...
«Как только мы соглашаемся, чтобы Бог и совесть были нашим единственным судьёй, пелена спадает с наших глаз; мы становимся способны видеть и понимаем, что такое грех: действие, отрицающее личную реальность Бога и тех, кто нас окружает, сводящее их до положения предметов, которые существуют лишь постольку, поскольку мы можем пользоваться ими без ограничений. Осознав это, мы можем вернуться в себя, освободиться от всего, что крепко держит нас, словно в плену, можем войти в себя и очутиться лицом к лицу с блаженством, которое для этого юноши представляло его детство, время, когда он ещё жил в отчем доме».
В архиве Госкино сохранилось редакторское заключение 1973 г. по картине Василия Макаровича Шукшина «Калина красная». Вот некоторые выдержки из этого «приговора»:
«1. Внести исправления в текст рассказа матери героя, оставив в нем только разговор о судьбах сыновей.
2. Полностью изъять сцену “разврата”.
3. Изъять из сцены домашнего застолья исполнение одним из гостей песни «Это многих славный путь…».
4. Снять отдельные эпизоды и планы, заостряющие предметный мир фильма: обнимающаяся пара в “малине”, поломанные доски карусели, женщина у телеги с собакой, толстая женщина в сцене в чайной, весь эпизод около бильярдной, заключительный план матери Егора в окне...» [1, с. 17].
Вот так образ Матери в восприятии чиновников стал ненужным «предметным миром» фильма...
После окончания съёмок «Калина красной» жить её автору оставалось всего несколько месяцев. Месяц из этого отведённого судьбой времени Шукшин, уже давно страдавший от тяжелейших болей, потратил на переделки фильма по чиновничьим замечаниям. Но разве можно было переделать, «перекроить» такую картину? Фильм всё же вышел на экраны. Автор, ненадолго выпущенный из больницы, успел увидеть её грандиозный успех на премьере в Доме кино. А уже в октябре 1974 г. к тому же Дому кино тянулся нескончаемый поток людей, чтобы проститься с великим русским режиссёром. Снимать на камеру эту «толпу» власти не разрешили.
Список литературы
- Архив Госкино СССР. Ф. 48. Оп. 4/2. Д. 114. Л. 35. // Фомин В. И. Кино и власть. Советское кино: 1965-1985 годы. Документы, свидетельства, размышления. М.: Материк, 1996. 371 с.
- Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 1991. Т. 9. 674 с.
- Митрополит Антоний Сурожский. Притча о блудном сыне // Антоний, митрополит Сурожский. Духовное путешествие: размышление перед Великим Постом. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2012. 128 с.
- Фомин В. И. Христианство и отечественное кино (очерки) // Христианский кинословарь. 1909-1999 / авт.-сост. В. Семерчук; ред. В. Антропов, Е. Барыкин; руководители проекта В. Малышев, В. Дмитриев. М.: Госфильмофонд России, 2000. 279 с., ил.
- Шукшин В. М. Калина красная. Киноповесть // Шукшин В. М. Собр. соч.: в 3 т. М.: Молодая Гвардия, 1985. Т. 3. 680 с.
References
- Arhiv Goskino SSSR [Archive of the USSR State Committee for Cinematography], F. 48. Op. 4/2. D. 114. L. 35. In: Fomin V. I. Kino i vlast. Sovetskoe kino: 1965-1985 godyi. Dokumentyi, svidetelstva, razmyishleniya [Cinema and Power. Soviet Cinema: 1965-1985 years. Documents, Attestations, Reflections]. Moscow, Materik Publ., 1996. 371 p.
- Dostoevskiy F. M. Sobr. soch.: v 15 t. [Collected works in 15 vol.] Leningrad, Nauka Publ., 1991. Vol. 9. 674 p.
- Mitropolit Antoniy Surozhskiy. Pritcha о bludnom syine [Parable of the Prodigal Son]. Antoniy, mitropolit Surozhskiy. Duhovnoe puteshestvie: razmyishlenie pered Velikim Postom [Spiritual Joumeyæ Meditation before Lent]. Moscow, Fond «Duhovnoe nasledie mitropolita Antoniya Surozhskogo» Publ., 2012. 128 p.
- Fomin V. I. Hristianstvo i otechestvennoe kino (ocherki) [Christianity and the National Cinema (Essays)]. Hristianskiy kinoslovar. 1909-1999 [Christian Cinema Dictionary. 1909-1999], author-composer V. Semerchuk; ed. V. Antropov, E. Baryikin; rukovoditeli proekta V. Malyishev, V. Dmitriev. Moscow, Gosfilmofond Rossii Publ., 2000. 279 p., il.
- Shukshin V. M. Kalina krasnaya. Kinopovest [Red Snowball Tree]. Shukshin V. M. Sobranie sochineniy v 3-h t. [Collected Works in 3 vol.} Moscow, Molodaya Gvardiya Publ., 1985. Vol. 3. 680 p.
[I] Версия о том, что на картине Крамского изображена куртизанка, видимо, была неизвестна Шукшину. В фильме изображённая женщина воспринимается лишь как символ возвышенной женственности в тазах простого человека, потому и показывается многократно в виде современного китча (репродукции, настенные календари, дешёвые кулоны и тому подобное массовое производство).