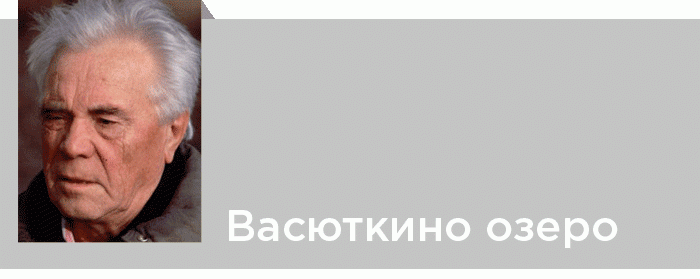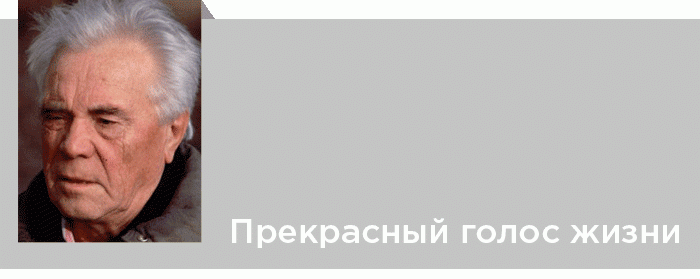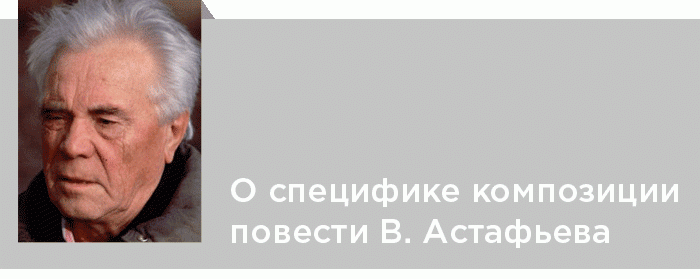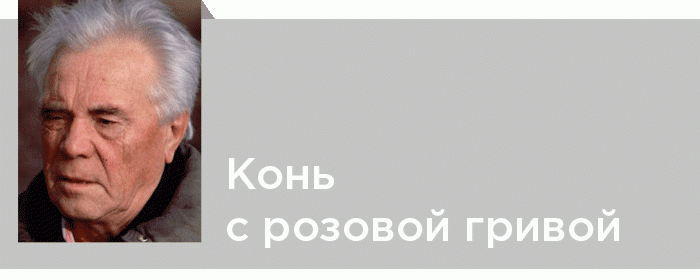«Его характер, его дела и страсти, его поиск смысла жизни»: человек и человеческое в публицистике Виктора Астафьева 1960-х начала 1980-х гг

УДК 82-4
П.П. Каминский
В статье проанализирована концепция человека в публицистике В. Астафьева 1960-х - начала 1980-х гг. Прослежены отправные точки и логика ее формирования, когда писатель исходит из идеи об уникальности каждого человека, который не может быть редуцирован к универсальным законам и схемам, и одновременно выделяет в многообразии феноменальных проявлений человека общие, типические начала, свойственные всем людям. Тривиальность некоторых идей, высказанных в публицистике, объясняется ее риторической природой, а усложнение авторской концепции человека связывается с усилением эссеистического начала.
Ключевые слова: Виктор Астафьев, публицистика, мировоззрение, проблема человека.
Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 173-182.
Kaminskiy Pyotr P., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
"HIS CHARACTER, HIS DEEDS AND PASSIONS, HIS SEARCH FOR THE MEANING OF LIFE": UNDERSTANDING OF MAN IN THE ESSAYS OF VIKTOR ASTAFIEV IN 1960 - EARLY 1980S.
Keywords:Victor Astafiev, essays, outlook, issue of man.
The paper presents an analysis of the views of Victor Astafiev on man, their nature and being in the world expressed in the essays of 1960 - early 1980s. The analysis shows an unexpected result - the triviality of the author's conception of man in comparison with the artistic expression known to us. This paradox is explained, first, by the originality of the thought of the writer who acts at this stage primarily as an artist; second - by the didactic purpose of his essays. The increasing complexity of the concept of man by the 1980s is associated with increased essayism when works gradually become a full-fledged form of ideological reflection.
Understanding of man in Astafiev's essays is based on the idea of the uniqueness of each person. Simultaneously, the writer realized people's general similarity. On the one hand, each person has character, feelings and thoughts, makes acts, and is conceptualized as a unique entity that cannot be reduced to universal schemes and laws. On the other hand, when understanding the phenomenon of individuality in the aspects of the structure of its attributes and genesis factors, Astafiev is forced to address the issue of human nature. In the phenomenally unique, the general and the typical features common to all people are traced.
The main basis of man's nature is feelings. This is the primary - unconscious, natural - form of man's attitude to the world which determines all the other, directs the thoughts and actions of a person. Obviously, Astafiev idealizes human feelings and does not consider negative emotional conditions. At the same time, in the reflections of the early 1960s, he sets the opposition of feelings and reason, emotions and consciousness, notes the dramatic non-integrity of a person which hinders their harmonious existence in the world. Man's thinking is directed at overcoming the contradictions of human existence.
«Человек» - фундаментальный концепт культуры, центральная проблема в истории философии и смысловой центр любой мировоззренческой системы. Сущность человека и его бытие в мире, постигаемые в художественной литературе, всегда образуют свой план и в писательской публицистике. Представления художника здесь выражены напрямую и необходимы для целостного понимания его эстетики.
Концепция человека в публицистике В. Астафьева основывается на идее о том, что «...каждый человек неповторим на земле» [1. С. 132]. Одновременно осознается и наша всеобщая похожесть[1]. Как рассуждает писатель в 1967 г., оценивая достижения русской новеллистики в познании человека, каждого конкретного человека раскрывают «… его характер, его дела и страсти, его поиск смысла жизни» [2. С. 21].
Характер дан человеку от природы - как свойство уникальности: «. все живое, в особенности человек, имеет или назначено ему природой иметь свой характер» [1. С. 132]. При этом если сама возможность иметь неповторимый характер предусмотрена филогенетически, то закономерности его формирования - специфически человеческие. Во-первых, он развивается в ходе социализации, «... под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей...» [1. С. 132]. Во-вторых, под влиянием социально-исторических условий: «… есть какие-то закономерности в движении общества на том или ином этапе жизни, продолжающие себя и в отдельной личности, потому что, как давно известно, никому еще не удавалось жить от общества отдельно» [3. С. 29]. В-третьих, в ходе активного саморазвития человека. Последний фактор - определяющий для формирования цельного характера. Этот процесс не самопроизвольный, требует от человека, с одной стороны, «непрестанного поиска и движения» - постоянного познания и самопознания, с другой - «приложения сил его и знаний», поступков [1. С. 135].
В основе «дел» человека, его этических поступков, лежит «душевная необходимость» в помощи ближнему. Ее мотивирует жажда гармонии, которой лишено узкоиндивидуальное существование - ограниченное, неполное, но требующее восполнения: «... помогающий человеку добром, сам становится добрее душой, и ему открывается прекрасный мир, полный добрых людей, яркого солнца, дивной поэзии, чудесной природы» [4. С. 223]. Принципиально, что потребность в сотрудничестве, альтруизме также природная - бессознательная, проявляется на уровне «страстей», сильных, устойчивых чувств и эмоциональных состояний. Наконец, четвертый атрибут человека, выделяемый В. Астафьевым, - «поиск смысла жизни». Понимание конечной цели индивидуального существования, своего места и предназначения в мире - главное содержание сознания и самосознания, в которых формируются идеалы и ценности, а нравственные и волевые качества характера приобретают осмысленность.
Таким образом, индивидуальность, в представлении писателя, составляет единство рационального и эмоционального, сознательного и бессознательного, которое образует в целом «сложнейший внутренний мир» человека и выражается в его поступках. Она рождается во взаимодействии природного и социального начал и воплощает в себе как феноменально неповторимое, так и социально типическое.
Понимая всю сложность человека, его характера и личности, В. Астафьев выделяет в качестве главного родового признака человеческого существа чувства. Это первичная форма отношения к миру, которая определяет все остальные, направляет человеческие мысли и поступки: «Может быть, всем, что есть вокруг нас и в нас, и прежде всего мыслью, движет чувство» [5. С. 182].
Природа чувств осмысляется еще в 1962 г., в эссе «Нет, алмазы на дороге не валяются», когда писатель обозначает их понятием «нежность». Составляя «истинное содержание души человеческой», нежность имплицитно присуща каждому человеку, заложена в нем от рождения и не определяется внешними, преходящими условиями.
В представлении писателя, «… чуткость, доброта, умение быть ласковым - это лишь продукт затаенной в нас нежности» [6. С. 43]. Именно это «неоценимое человеческое качество» лежит в основе широкого спектра жизнеутверждающих чувств и эмоциональных состояний - любви, дружбы, привязанности, сострадания и т. д. Проявления нежности обеспечивают бессознательный механизм, который способствует установлению гармонических отношений между людьми, их сосуществованию. Нежность обусловливает и эстетические чувства - чувства прекрасного (как гармонии), составляя исток любого искусства: писатель убежден, что без «нежности» «... мы не имели бы трепетной музыки, прекрасной живописи, книг, стихов, поэм, при чтении которых закипают в горле слезы» [6. С. 43].
При этом нежность - качество, которое, как правило, тщательно скрывается людьми: «…сверху <...> только оболочка, самое же ценное глубоко упрятано, и его мы почему-то стыдимся и выказываем лишь своим детям, да и то пока они ничего понимать не умеют» [6. С. 43]. Человек не решается на проявление нежных чувств, поскольку стыдится их. Стыд - социально обусловленная эмоция. Она формируется в процессе онтогенеза, в ходе сознательного усвоения им норм и правил поведения, принятых в данном социуме. Поступая в несоответствии с ними, человек испытывает страх социального неодобрения, потери уважения со стороны окружающих. Эти негативные переживания, в которых акцентирован момент самосознания, свидетельствуют о повышенной чувствительности каждого к оценкам других людей. Стремление избежать переживаний стыда становится одним из мотивов социального поведения.
Писатель констатирует предосудительность демонстрации чувств в современном обществе, которое требует от человека иного - твердости. Нежность, напротив, подразумевает душевную мягкость. Следовательно, выражение тонких чувств делает его внутренне уязвимым, заставляя скрывать их за показной, внешней грубостью. Нежность подавляется рассудком, и свои чувства человек открывает только детям, которые еще не усвоили социальных норм и от которых не исходит угрозы осуждения.
Условие, при котором потенциальное, т.е. способность человека к проявлению чувств, переходит в актуальное, определяя его действительные состояния, - в доверии: «… нет большей награды, коли показываешь дорогое тебе сокровище человеку и чувствуешь душу отзывчивую, понимающую…» [7. С. 154]. «Награда» - дар сочувственности, понимания, который человек получает, открываясь другому, доверяя ему самое сокровенное, запрятанное глубоко в душе. Другой открывается ему в ответ, обнажает собственную душу. Добровольные и бескорыстные, эти отношения взаимно обогащают души обоих. Так же актуализирует чувства в душе человека, выводит их из потаенности искусство: «Прекрасное, оно способно воскресить человека, оно проникает в самое сердце, где и хранятся настоящие чувства…» [6. С. 43].
Очевидно, что В. Астафьев идеализирует человеческие чувства, негативные эмоциональные состояния пока не входят в поле его зрения. Одновременно уже в размышлениях начала 1960-х гг. устанавливается оппозиция чувства и разума, эмоции и сознания, фиксируется драматическая нецель- ность человека, которая препятствует его гармоничному существованию в мире.
К концу 1970-х гг. эти представления усложняются, когда писатель впервые говорит о слабости и беспомощности человека в мире: «Увы, земля рождает людей вообще маленькими и беспомощными» [8. С. 486]. Даже взрослея, человек остается беззащитным перед обстоятельствами жизни: «... она (жизнь. - П.К.) задает загадки, пробует на прочность… <…> она в любой миг любого человека может испытать на излом» [9. С. 181]. В свете этой идеи уточняется иное значение понятия страстей в приведенной цитате 1967 г. - страдания. Они составляют горький удел человека, неотъемлемо присущи его жизни, поскольку он подвержен болезням, старению и смерти, испытывает состояния боли, горя, страха и т.д.
Претерпевая собственное страдание, человек выступает один на один с ним - сущностно одинок. Компенсировать это одиночество он может только со-страданием, соучастием в страданиях другого, такого же одинокого и беспомощного человека. Поддерживая друг друга в страдании, двое не преодолевают его, но обретают опору, чтобы жить с ним. Для писателя это иллюстрирует близкая ему биографически ситуация смерти ребенка в романе Ю. Бондарева «Берег», когда родители, «сильные современные люди», «...в горе остаются вдвоем на свете, становятся вдвойне необходимыми друг другу…» [10. С. 14]. Конечный смысл индивидуального бытия человека теперь определяется как преодоление и преуменьшение страданий других людей - от простого соучастия и поддержки до полного самоотречения, самопожертвования: «… она, личность, на то и существует, чтобы облегчить страдания другим людям, отдать им все свое, вплоть до жизни» [1. С. 135].
Если есть страдания, физические и душевные, объективной природы, связанные с непреодолимыми жизненными обстоятельствами, то есть и такие страдания, природа которых имманентна, отражает субъективную сущность человека. Эти душевные страдания открывают его внутреннюю противоречивость, когда порывы и убеждения, желания и ценности вступают в конфликт друг с другом. В этом контексте в публицистике В. Астафьева с конца 1970-х гг. развиваются представления о природе мышления.
Как размышляет писатель в ключевой работе 1978 г. - «незаконченной статье» о творчестве Ю. Нагибина «Под тихую струну», жизнь человека наполнена множеством противоречий: «Глянь, вокруг и сплошь и рядом обнаружишь странное отношение к своим детям, к миру, к искусству - все состоит из видимых и невидимых противоречий, все и вся живет вечным усилием одолеть эти противоречия» [11. С. 467].
Речь - о противоречиях субъективной реальности сознания, которые, охватывая разнообразные отношения человека с миром, препятствуют достижению гармонии. На их преодоление направлено мышление, его природа раскрывается через функцию: «Только мысль человеческая пытается объять необъятное, постигнуть глубину произошедшего и бездонность будущего, только мысль способна защитить человека от беспомощности перед окружающим его миром, перед страшным смыслом бытия, только память дает ему радость и горечь воспоминаний» [11. С. 467].
«Необъятное», которое стремится «объять» мысль, - характеристика пространства человеческого присутствия, огромный мир. Поскольку объять необъятное нельзя, это стремление разума - незавершимое. Значимым оказывается не результат мышления, а сам его процесс.
«Произошедшее» и «будущее» - категории, характеризующие существование человека во времени. «Глубина» («произошедшего») - пространственная метафора, выражающая сложность событий прошлого, их внутреннее содержание, скрытый смысл, недоступный непосредственно. Постижение этого смысла предполагает погружение, преодоление поверхностного взгляда. При этом «глубина» - конкретная величина. Эту переменную характеризует наличие дна, определенного предела - как обладает определенностью само «произошедшее», события, которые завершились к моменту настоящего.
«Бездонность» (будущего), напротив, величина абстрактная. Выражая отсутствие предела (дна), она фиксирует неопределенность, открытость грядущих событий, бесконечное множество возможных сценариев их развития. Писатель отрицает идею судьбы, предопределенности будущего. «Постижение» смысла прошлого, причин и корней уже свершившихся событий служит не предвидению будущего, а его подготовке, когда человек сам, своими поступками определяет грядущее.
Все это позволяет характеризовать мышление, высшую форму отношения к миру, как «... вечное, неостановимое, не имеющее границ и не знающее пространств явление» [10. С. 10]. Способность мыслить - постоянная и неизменная, она расширяет пределы существования, преодолевает локальность присутствия человека в пространстве и времени бытия, обеспечивая осмысленность его существования.
«Страшный смысл бытия», составляющий главное противоречие сознания, - конечность человеческого присутствия в мире: «В одном из рассказов Юрий Нагибин удивится, казалось бы, близко лежащему открытию: человек знает о своем конце, животное - нет. И в этом знании самое страшное человеческое противоречие...» [11. С. 467]. Однако, продолжает писатель, «... в этом же знании его спасение от тьмы, безвестности, от покорности и забвения» [11. С. 467]. Так же беспомощный перед окружающим его бытием, как и животное, человек отличается от него тем, что способен противостоять смерти: «Человек сопротивляется, ищет спасения от смерти, стремится к бессмертию, животное - лишь предчувствует смерть, но неспособно осмыслить его и, следовательно, и бороться за него» [11. С. 467-468].
Осознавая неизбежность своего ухода, человек непокорен - сопротивляется этому фатальному обстоятельству, не принимает «тьму» - небытие, борется против забвения. Речь не о физическом выживании во внешних обстоятельствах, угрожающих жизни, поскольку они лишь приближают неизбежный конец, а о стремлении к духовному бессмертию. Противостоять смерти, исчезновению позволяет память. В. Астафьев говорит о возможностях и индивидуальной, и коллективной памяти людей. Индивидуальная память - феномен сознания, дающий «радость и горечь воспоминаний», в которых человек сохраняет ушедшее для себя. Сам же человек, уходя, сохраняется в памяти других людей.
В свете этих представлений уточняется понимание «дел», деятельностноконструктивной природы человека, чей труд выступает одним из способов преодоления конечности существования, предотвращения забвения в ситуации неминуемого ухода. В творении человек воплощает самого себя, оставляет след в пространстве, который сохраняет его присутствие в мире: «... дома, построенные своими руками, всегда были похожи на “созидателя”» [12. С. 130].
Если импульс созидательного труда, как и любых проявлений человека, мотивированных чувством, - бессознательный, то мышление наполняет его осознанным смыслом - создание условий для последующей жизни людей. Так, возвращаясь в Чусовой, писатель с удовлетворением видит, что в доме, построенном им когда-то, продолжается жизнь: «Давно я не живу в этом городке. Давно хозяйствует в моей избушке другой человек, но ни о чем так сладко не печалится мое сердце, как о домике, построенном своими руками, и, когда я бываю на Урале, непременно уж пройду мимо “своего домика”, подивлюсь, как выросли посаженные мною деревья, порадуюсь тому, что в домике, совершенно уже перестроенном, на “мой” почти непохожем, живет обиходный, заботливый хозяин, говорят, знатный сталевар» [12. С. 130].
Несмотря на усилия мысли, противоречия сознания фатально непреодолимы и только множатся в необратимом потоке жизни: «Порой глыбы противоречий как бы дробятся на мелкий камешник, и лежит он, омытый водою по берегам реки жизни, приманивая разноцветьем, пугая холодностью, тяжестью и множественностью своей» [11. С. 467]. Непреодолимый характер противоречий связан как с текучестью, изменчивостью бытия, так и с изменчивостью, подвижностью самого человека, вступающего во взаимодействие с ним. Жизнь человека определяется как процесс (становления, изменения), когда, даже обладая сознанием и чувствами, он не может достигнуть гармонию, внутреннее единство и равновесие личности во взаимодействии с миром - не совершенен, т.е. не завершен.
В 1960-х - начале 1980-х гг. В. Астафьев выражает гуманистическую веру в человека, в его способность «возвыситься до идеала», «поступательное движение» к внутреннему совершенству и гармонии с миром. Функция мышления - «познание мира и себя» - выступает как функция развития, движения к идеалу: «Один путь у человека, во все времена открытый к самоусовершенствованию, - это неустанное пополнение знаний, расширение жизненных интересов» [1. С. 134]. «Поиск и познание себя и мира окружающего» составляет глубокую внутреннюю «потребность» человека, которую мотивирует «жажда о вечном мире на земле» [10. С. 18] - сильное стремление к гармонии, согласию между людьми и их общностями. Социальное согласие при этом выступает и как следствие, и как главное условие реализации всех задатков человека, его свободного, всестороннего развития.
О противоположном модусе существования человека, его деструктивных проявлениях В. Астафьев начинает говорить еще с начала 1970-х гг., в ходе анализа произведений художественной литературы: «Убийство, насильственная смерть противоестественны человеку. <...> Человек не создан для того, чтобы убивать и проливать кровь», - говорит В. Астафьев, рассуждая о повестях А. Якубовского в рецензии 1971 г. [13. С. 230]. Убийство, уничтожение жизни, как и вообще любое насилие, осмысляются как «противоестественные», поскольку деструктивность противоречит существу человека, нацеленному на утверждение жизни, ее сохранение и воспроизводство. Деструктивность, направленная вовне, на Другого, всегда проявляется и как саморазрушение, что иллюстрирует судьба героини повести «Дом»: «Убившая живого человека хозяйка “Дома” и сама погибает в страхе, пьянстве, полной опустошенности» [13. С. 230-231].
О природе деструктивности, происхождении ее импульса пока не говорится прямо, но представления о ней реконструируются в рефлексии атрибутов человеческого существа, чувства и разума. Поскольку социальное поведение детерминировано бессознательным, проявления деструктивности иррациональны, представляют собой эмоциональные реакции на поведение среды: происхождение человеческой агрессии также понимается как природное. Разум, напротив, составляет начало, которое способно контролировать деструктивные эмоции, противопоставляя им осознанные мотивы деятельности, ценности.
Проведенный анализ демонстрирует неожиданный результат: концепция человека, высказанная в публицистике В. Астафьева 1960-х - начала 1980-х гг., основывается на совершенно тривиальных, по сравнению с известным нам художественным выражением, идеях. Объяснимо это, с одной стороны, своеобразием мышления писателя, с другой стороны, риторическими особенностями его публицистики. На данном этапе В. Астафьев выступает в первую очередь как художник, а не как мыслитель, его концепция мира и человека выстраивается не рационально-логически, а интуитивно, воплощаясь в художественном образе [14]. Публицистика при этом служит другим задачам и представляет собой, по существу, периферийный материал, вторичный для понимания мировоззрения и художественной системы писателя.
Значительно позже, в конце 1990-х гг., В. Астафьев высказывает скептическое отношение к своей ранней публицистике: «В молодости я горазд был потолковать, погорячиться, иногда и побушевать в прессе, особенно насчет природы, литературы и морали. Поскольку природе мои буйные словеса не помогли, мораль, сами видите, где и как существует, а литература, такое серьезное дело, понял я после сорока лет работы в ней, что никакой трепотней, даже очень ловкой и красивой, ей не поможешь...» [15. С. 604].
Такое отношение объясняется не только безрезультатностью публицистического слова, но и собственной молодостью - наивностью, незрелостью. Поэтому из ранней публицистики, определяемой не иначе как «словеса» и «трепотня», т.е. бессодержательное говорение, пустая болтовня и вранье, писатель отбирает в двенадцатый том собрания сочинений лишь несколько, «для образца».
Кроме того, необходимо учитывать и предназначение каждой из работ, в которых ставится проблема человека. Так, письма «Строителям БАМа» и «Ответ в “Пионерскую правду”» имеют своей целью нравоучительное обращение к молодежи. Эстетико-философские статьи «Нет, алмазы на дороге не валяются», «О любимом жанре», «Наши большие заботы», «Сюжеты и судьбы» обращены к вдумчивому читателю, ориентируют его в эстетических процессах современной литературы и пишутся в пику официозной критике, обслуживающей «секретарскую» литературу. Наконец, это рецензии на творчество других писателей, как правило, «периферийных» - живущих и работающих в провинции и незаслуженно обойденных вниманием широкой публики (К. Воробьева, О. Фокиной, Б. Никонова, Р. Солнцева, Е. Носова, А. Якубовского и др.). «Признаться, я не то что горжусь этими материалами, - отмечает писатель в 1998 г., - но радуюсь и доволен тем, что знал в литературе многих людей, дружил с ними и смог в меру сил моих помочь им, душевно откликался на их сердечный порыв ко мне, а то и просто помог книжку напечатать, литератором себя почувствовать, приучал к работе тяжкой, всепоглощающей, да не к прогулкам по цветками поросшему литературному лужку» [15. С. 605].
Социальные задачи, которые ставит перед собой писатель в публицистике, а также подчеркнутая дидактическая установка заставляют его говорить на языке, понятном предполагаемому адресату, до времени намеренно взвешивая и упрощая свои мысли2.
Одновременно с риторическими рассуждениями о генезисе человеческого характера, соотношении в человеке личного и социального, индивидуального и типического в публицистике выражены и тонкие, проникновенные размышления о чувствах, неожиданные для эпохи 1960-х с их гражданским пафосом и культом дерзкого разума, и актуализирующие национальную традицию миропонимания, традицию чувствующей культуры. В дальнейшем, к концу 1970-х гг. («Под тихую струну»), именно апология чувств формирует в публицистике В. Астафьева эссеистический план, существующий помимо риторического. Обращение к себе-как-другому в акте интуитивной рефлексии открывает глубину и реальную противоречивость человеческого существования. Рациональное осмысление этих противоречий становится внутренней потребностью писателя и составляет основной мотив его публицистических работ конца 1980-х-1990-х гг.[3]
Литература
- Астафьев В. Ответ в «Пионерскую правду» // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 132-137.
- Астафьев В. О любимом жанре // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 19-28.
- Астафьев В. Наши большие заботы // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 29-34.
- Астафьев В. Самородок // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 223-225.
- Астафьев В. Чувство звука и слова // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 182185.
- Астафьев В. Нет, алмазы на дороге не валяются // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 34-49.
- Астафьев В. Как тот заречный огонек // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 146154.
- Астафьев В. Боль: О повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» // Собр. соч.: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 485-488.
- Астафьев В. Вглядываясь вглубь // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 180-182.
- Астафьев В. Жизнь - великое движение вперед // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 10-19.
- Астафьев В. Под тихую струну. Из незаконченной статьи о творчестве Ю. Нагибина // Собр. соч.: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 467-472.
- Астафьев В. Строителям БАМа // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 129132.
- Астафьев В. Доброе слово // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 228-231.
- Каминский П.П. Природа в публицистических очерках Виктора Астафьева // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 1 (27). С. 150-158.
- Астафьев В. Комментарии // Собр. соч.: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 602-605.
- Астафьев В. [Валентину Распутину - 60 лет!] // День и ночь. Красноярск. 1997. Апр. - май. С. 82-84.
References
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 132-137.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 19-28.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 29-34.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 223-225.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 182-185.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 34-49.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 146-154.
- Astafiev V.P. Sobranie sochineniy: V 15 tomakh [Collected Works. In 15 vols.]. Krasnoyarsk, 1998. Vol. 12, pp. 485-488.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 180-182. П.П. Каминский
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 10-19.
- Astafiev V.P. Sobranie sochineniy: V 15 tomakh [Collected Works. In 15 vols.]. Krasnoyarsk, 1998. Vol. 12, pp. 467-472.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 129-132.
- Astafiev V. Vsemu svoy chas [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 228-231.
- Kaminskiy P.P. Nature in the publicistic essays of Victor Astafiev of 1960s – 1990s. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2014, no. 1 (27), pp. 150-158. (In Russian).
- Astafiev V.P. Sobranie sochineniy: V 15 tomakh [Collected Works. In 15 vols.]. Krasnoyarsk, 1998. Vol. 12, pp. 602-605.
- Astafiev V. [Valentinu Rasputinu – 60 let!] [Valentin Rasputin is 60!]. Den' i noch', 1997, April – May, pp. 82-84.
[1] «Нет, алмазы на дороге не валяются» (1962), «О любимом жанре» (1967), «Доброе слово» (1971), «Самородок» (1974), «Как тот заречный огонек», «Наши большие заботы» (1975), «Песня добра и света» (1976), «Строителям БАМа» (1977), «Вглядываясь вглубь. О повести Валентина Распутина “Живи и помни”», «Жизнь - великое движение вперед», «Под тихую струну. Из неоконченной статьи о творчестве Ю. Нагибина» (1978), «Чувство звука и слова. О стихах Романа Солнцева», «Боль. О повести Василя Быкова “Пойти и не вернуться”» (1979), «И все цветы живые» (1983), «Ответ в “Пионерскую правду”», «Сюжеты и судьбы. Монолог о времени и о себе» (1984) и т.д.
[2] Эти мотивы дают основание предполагать даже определенную степень «конъюнктурности» публицистики В. Астафьева, когда за внешне банальными мыслями старательно сокрыто нечто более глубокое. Так, вспоминая в 1997 г. свое предисловие, написанное к публикации повести В. Распутина «Живи и помни» в «Роман-газете» в 1978 г. («Вглядываясь вглубь»), В. Астафьев говорит, что «…изо всех сил старался подстроиться к хору критиков, не повредить повести и автору, городил что-то насчет верности Родине и долгу, осуждал отступничество, отдавал должное страданию и величию русской женщины. И в повести все это было и есть…». Подлинная оценка повести уходит в подтекст и адресуется напрямую герою рецензии: «...но мне-то хотелось заглянуть и за борт ее, подумать и потолковать о том, о чем и сам автор, быть может, не подозревает, что почувствовал, нащупал интуитивно» [16. С. 83].
[3] «С карабином против прогресса», «Хомо технократус» (1988), «Вечно живи, речка Виви» (1989), «Лес не шумит, лес стонет» (1992) и т.д.