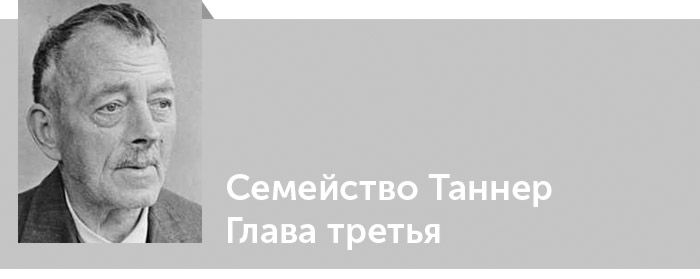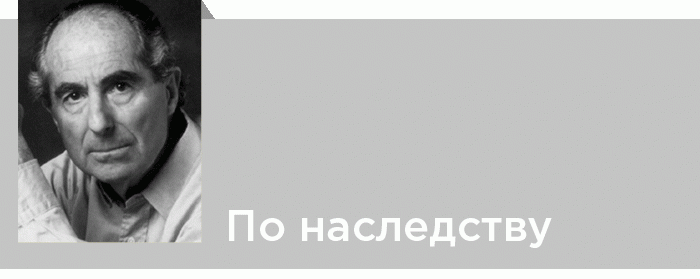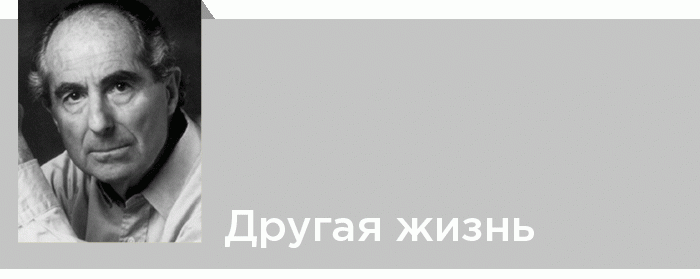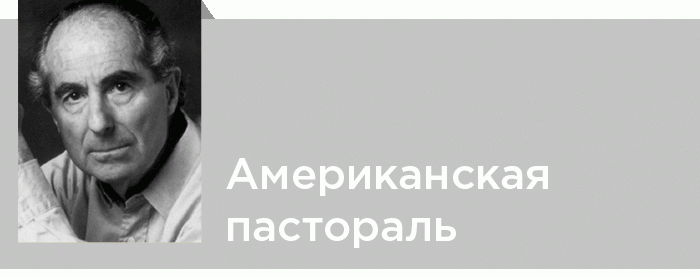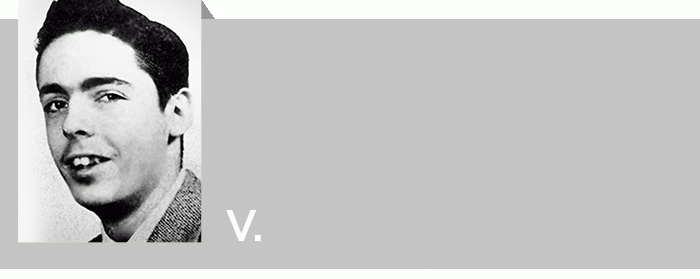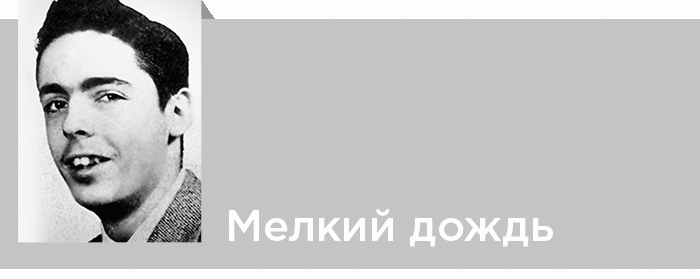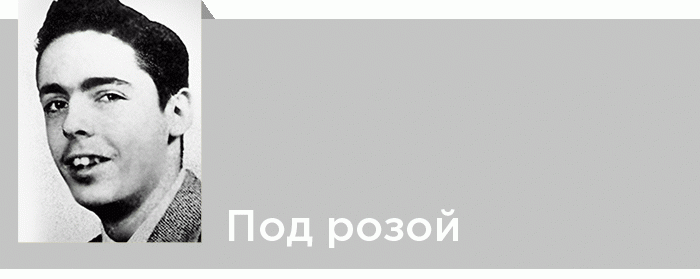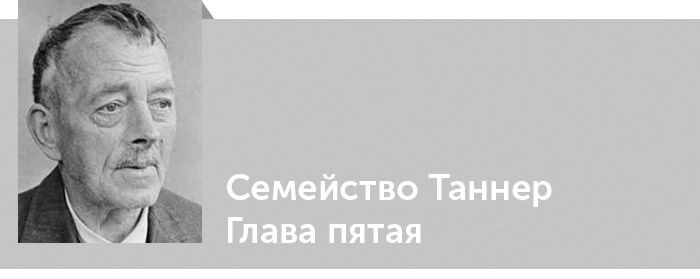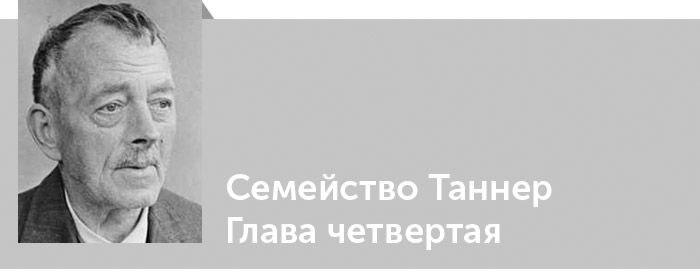Постмодернизм versus гуманизм? (Трансформация поэтики американского постмодернизма)

Н.Г. Перетокина
Постмодернизм, возникший в середине XX в., и в начале третьего тысячелетия по-прежнему является ведущим феноменом литературного процесса. Еще недавно исследователи были очень критичны в оценке открытий постмодернизма, заявляя об антигуманности его как искусства «отрицания» традиционных человеческих ценностей и даже связывая с антигуманизмом. Но в последнее время наблюдается противоположная тенденция: ученые все чаще пишут об изменениях в литературном процессе XX в., о формировании так называемой неосентиментальной эстетики, связывая эти новые явления с возрождением эмоциональности, лиризма, искренности. Так, М. Эпштейн характерной чертой современной литературы считает акцентирование аутентичности, новизны, искренности, хотя и не связывает это с трансформацией внутри литературной системы постмодернизма. Однако в новейших произведениях американских писателей - Д. Барт «Жили-были: одна плавучая опера» (Once Upon the Time: A Floating Opera), P. Кувера «Нора» (Hole), Т. Пинчона «Вайнлэнд» (Vineland), тех самых писателей, которые считаются авангардом и стержнем («hard-core») американской литературы постмодернизма, - наблюдаются сложные процессы возрождения гуманизма в наш «дегуманизированный» век.
Исследователи пытаются объяснить изменения в литературном процессе, предлагая определять эти явления по-разному. Так, А. Уайльд характеризует литературу конца XX ст. как литературу «средней полосы» - midfiction, где особое значение приобретает ориентация на вечные человеческие ценности. А. Уайльд отмечает, что писатели «средней полосы» рассуждают о проблеме основ, исследуют пути и средства разрыва с традиционным способом мышления и восприятия, более нацелены на открытие отдельных, определенных условий, в которых создается личность. Ударение делается на приоритете индивидуума, на его отклике и реакции на жгучие проблемы бытия (дружбу, любовь, семейные отношения, воспитание детей): «The midfictional writers are less systematic than either, more intent on discovering the separate and distinct ways in which the self creates, in time and through its acts, its existential definition. The emphasis on the individual’s priority over, and dialogic response to whatever collectivity he or she is inevitably part of, intimates in its rejection of all received opinion, the unsettled ground where the humanistic values of these writers locate themselves. Однако в таком определении разница между постмодернизмом и «мидфикшн» (midfiction) исчезает, хотя А. Уайльд и предлагает свой алгоритм для разграничения мидфикшн и других современных форм искусства. Важный параметр отличия - эстетика необычного в обычном. Так называемая экстраординарность обычного признается главной эстетической категорией мидфикшн. Указывается, что в этом случае внимание писателей, как правило, сосредоточено на «внешнем» сюжете действий и той реальности, которая воспринимается через призму средств массовой информации - «остраненно» и дистанцированно. Исследователь также выделяет ироничную модальность как главную определяющую черту мидфикшн, которая, как известно, прочно закрепилась за искусством постмодернизма с момента его возникновения. По мнению исследователя, мидфикшн имеет свои собственные предпосылки и художественные приемы, несмотря на «случайное» сходство с реализмом и метафикшн (metafiction), с которыми это явление находится в постоянном противостоянии. Предлагая новую концепцию литературного процесса, А. Уайльд пытается теоретически осмыслить новые тенденции в литературе последних десятилетий. Изменения, произошедшие в американской литературе конца XX ст., привлекли внимание другого видного американского ученого, Д. Беллами, который утверждает, что новейшую литературу отличает от постмодернизма тенденция к превалированию страдания или чувств над интеллектом, к смещению акцентов с интеллектуального на эмоциональное. Он считает, что писатели новейшей литературы адресуют свои произведения более широкой аудитории, чем авторы суперфикшн (superfiction). Представляется, что есть больше оснований рассматривать постмодернизм, основные характеристики которого А. Уайлд переносит на мидфикшн, а Дж.Д. Беллами на «новейшую литературу» как литературный феномен, возникающий в середине XX в., активно развивающийся и пребывающий в состоянии радикальной художественно-эстетической трансформации.
В связи с изучением литературы конца XX ст. остро встала философская проблема «нового» гуманизма, который исследователи не рискуют соотносить с постмодернизмом, за которым закрепились негативная характеристика. Так, Уайльд высказывает мнение, что сегодня гуманизм не противоречит даже религии, которой его всегда противопоставляли. Видный ученый Мерели-Понти говорит о том, что в современном гуманизме нет антагонизма между духом и телом, разумом и языком, ценностями и фактами.
И. Липина-Березкина, проанализировав недавно опубликованные произведения Дж. Барта и Т. Пинчона, пишет о том, что «postmodernism does not mean dehumanization and the immorality of art. Intrinsic humanistic values are ingrained in any real art, and will be present until an author, a human being, creates literature» (постмодернизм не означает дегуманизацию и аморальность искусства. Важные гуманистические ценности пронизывают любое подлинное искусство и будут ему присущи до тех пор, пока автор - человек).
Важная особенность американского постмодернизма конца XX ст. заключается в том, что гуманистическая идея произведений зачастую замаскирована, подана как «культурный шок» и спрятана на глубину текста, который выстраивается по законам постмодернистской эстетики: двойное кодирование, эпистемологическая неуверенность, ироническая игра с читателем.
Так, Т. Пинчон, создатель знаменитой постмодернистской эпопеи «Радуга земного притяжения» (Gravity’s Rainbow), после 17 лет молчания опубликовал роман «Вайнлэнд» (Vineland) (1990), который, по мнению исследователей, значительно изменил координаты и раздвинул границы постмодернизма как явления культуры конца столетия.
Этот роман Пинчона, вызвавший пристальный интерес исследователей, зачастую характеризуется как пародия на стереотипы массового сознания. К сожалению, без внимания остается важная особенность этого произведения, связанная с возрождением «человеческого вещества» в литературе постмодернизма. Это новое свойство почувствовали некоторые исследователи, но связали его не с процессами возрождения гуманизма, а с «безобидной сентиментальностью, окрашенной иронией». Не замеченным остался ключевой эпизод романа, где главный герой Зойд Вилер пытается понять суть происходящего (после возвращения из тюрьмы он находит свой дом совершенно чужим) и недоумевает «Кто был спасен?» В контексте всего романа этот вопрос приобретает судьбоносный подтекст: речь идет о спасении человечности в период всеобщего кризиса гуманности. Пинчон обращается к глубоко человеческой теме семейного счастья, и его главный герой Зойд, хотя и покинутый женой, не одинок. Жизнь Зойда осмыслена и оправдана любовью и нежной дружбой с дочерью-подростком Прэри, которая отчаянно стремится к самоопределению. Образ Зойда сложен и многозначен. В начале романа это эксцентричный чудак, стремящийся сохранить социальную пенсию. Он идет на сделку с государственным чиновником, соглашается каждый год демонстрировать свою якобы умственную недееспособность ради того, чтобы сохранить свою семью, дочь Прэри. Зойд, не имея других родственных связей, включается в семью Фрэнэзи, приходит к соглашению с Сашей (матерью Фрэнэзи), и они разделяют ответственность и любовь к ребенку, оберегая ее от государственной системы, поглощающей людей. Государство в романе представлено как антигуманная, античеловечная сила, стремящаяся подменить семью. По сравнению с «Радугой земного притяжения» этот роман Пинчона сориентирован не на «космос», а на микрокосм человечности. По наблюдению Н.К. Хайлз, изменился самый масштаб проблемы: отчетливо проявилось «человеческое» лицо вместо «нечеловеческого», которое довлеет в «Радуге земного притяжения». Прошлое и настоящее становятся в романе главными локусами человеческого счастья и безысходности. Счастье в романе имеет ярко выраженную темпоральность: оно дано в прошедшем времени. Это то время, когда Зойд и Фрэнэзи были счастливы. Образ времени 60-х годов предстает как образ чистоты, сентиментальной романтичности, как время еще не разрушенных надежд. Пинчон выстраивает сюжетный параллелизм - настоящего и прошлого, постоянно смещая, сталкивая и накладывая друг на друга эти два плана. Поиск счастья и образ прошлого - два взаимосвязанных сюжетных пласта романа. Прэри стремится найти мать, которая для нее существует как легенда. Этот поиск - возможность вернуться в дни счастья, которых она никогда не видела. Но получает она первую информацию о своей матери из компьютерного банка данных, предоставленную ей Диэл, компьютер дает не только цифры и знаки, но и зрительные образы. Эти образы создают представление о матери. Позже Прэри смотрит фильмы, снятые Фрэнэзи, и, глядя на эти кадры, думает, что найдет путь к сердцу матери («...the person behind the camera was her mother,... the girl would find a way, some way, to speak to her...»). Образ Фрэнэзи, матери Прэри, - прямая противоположность миру Зойда и Прэри. Фрэнэзи - символ освобожденности от привязанностей, чувств, семейных уз. Фрэнэзи с юности мечтала стать filmmaker, неэмоциональным, беспристрастным фиксатором жизни. Она становится им, и тогда происходит утрата человечности. Фрэнэзи, оператор, воспринимает мир через объектив камеры. Она снимает Вида Атмана, а потом «выстреливает» в него, причем глагол «to shot» сознательно двусмысленен: не ясно, является ли это намеком на убийство или лишь описывается процесс съемки. Но это не так важно, так как камера уже «украла» дух Вида. А годы спустя Вид появляется как Танатоид.
Образ Танатоидов (Thanatoids), как продуктов mass media, неотделим от проблемы кризиса человечности. В романе говорится о том, что Земля - не преддверие рая, а преддверие ада. Танатоиды - блуждающие души, чье существование как смерть, только другая («like death, only different»), это не жизнь, а «пребывание» («not living but persisting»). Жизнь стала тривиальна, а значит мертва. Для Танатоидов нет различия между предопределенностью жизни и предопределенностью смерти («it finds no difference between the weirdness of life and the weirdness of death»). Обсуждение темы смерти по телевидению с точки зрения врачей, полицейских и убийц делает тривиальной большую смерть (Big D) саму по себе. Танатоиды машины, а не люди, порабощенные телевидением, для них не существует иной реальности, кроме холодной синевы экрана. Образы Танатоидов изображены комично, пишет Е. Сэйфер, но наш смех захлебывается, когда мы начинаем понимать, что мы действительно смотрим на микрокосм нашего общества. Несомненно, образ Танатоидов - это художественно сложно выстроенный образ утраченной человечности. Эти зомби, живая смерть (living death) описаны как бессонное население («insomniac population»). Для Танатоидов и многих других жителей Вайнлэнд телевидение - это сила и мощь, которая знает все твои мысли («It knows your ev’ry thought»).
На первый взгляд, «Вайнлэнд» представляет собой коллаж из стереотипов массовой культуры: здесь и романтизированный образ 60-х г. (rock and roll, «Polka Dots and Moonbeams», «In the Mood», «Moonlight Serenade», Billy Barf, The Vomitones), и бездуховный век Таблоидов, media-продуктов, опасных своей апатичной бездуховностью. Двойное кодирование постмодернистского текста видится в том, что роман может быть прочитан и как роман-симулякра - как продолжение диалога с Бодрийаром, где реальность исчезла в потоке медиасимуляций (язык, образы, ситуации романа - лишь производные массовой культуры), и как роман-ностальгия об утраченной человечности, любви, дружбе, тех вечных ценностях, которые так дороги и герою, и писателю. Гуманистическая мысль писателя обращена и к читателю: кто был спасен? Может ли любовь нести спасение? Роман Т. Пинчона «Вайнлэнд» - ответ на этот вечный вопрос.
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 5. – С. 264-268.
Произведения
Критика