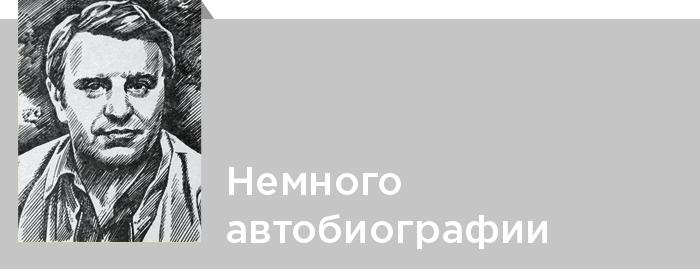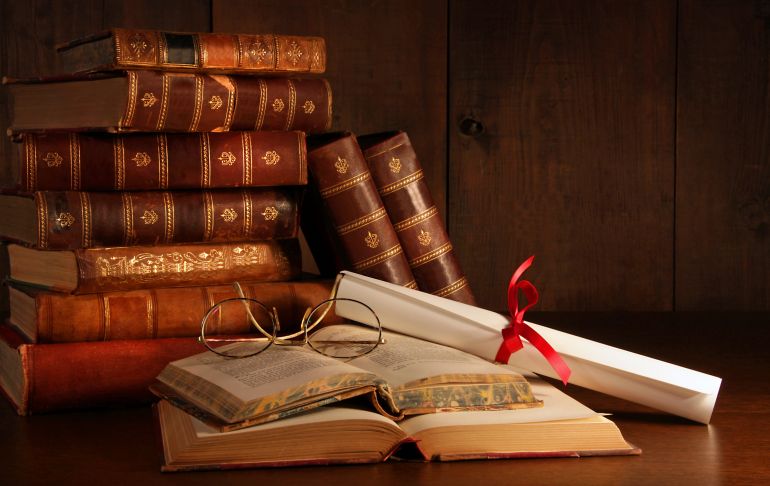Сказочная Русь Алексея Ремизова

Михайлов А.И.
Из всех образов России, созданных русскими художниками, одним из наиболее национально-самобытных (в силу своей фольклорности) является его воплощение в творчестве А.М. Ремизова доэмигрантского периода. Это образ России, лишенный даже малейшего признака рассудочности или декларативности, без чего не обходились некоторые писатели. Свое глубоко интуитивное, исключающее какие-либо объективно-логические определения, восприятие он выразил словами, высказанными в период разлуки с родиной: «...какая она такая Россия, чем живет и куда путь держит, как по-людски ответишь!»
Не обладая способностью «рассуждать» о России, Ремизов зато сумел изобразить ее настолько самобытно, что созданный им образ по праву вошел в отечественную литературу как ремизовская Русь. Относится это прежде всего к той сказочной, мифической Руси, которая была воссоздана художником из неисчерпаемых сокровищ глубинного моря народной поэзии. О ней и пойдет речь в настоящей работе.
Как в волшебном мире билибинской сказки эта ремизовская Русь статична и полна загадочной прелести. Кажущаяся, что называется, «нерукотворной», она является не столько созданием художника, сколько мозаикой, собранной им из многочисленных источников народной поэтической культуры. Впрочем, Ремизов был не только собирателем драгоценных крупиц этой культуры, но и, по своему происхождению и воспитанию, ее носителем, а в силу этого и проводником, что не замедлило проявиться во влиянии глубинно-национального мироощущения писателя в творчество его современников, например Александра Блока. Понятно, что влияние это в советском литературоведении долгие десятилетия истолковывалось исключительно отрицательно. Так, справедливо отмечая, что интерес Блока к ремизовскому творчеству был основан на поиске «народной почвы» в «фольклоре, сказках и поверьях», самого Ремизова — как знатока этой «почвы» — литературовед рапповской ориентации Ж. Горбачев в 1933 году назвал «примитивным мистиком и реакционным «народником», окуровцем». Подобным же определением сопровождается и упоминание о Ремизове в примечаниях к собранию сочинений Блока в восьми томах: «...писатель-символист, прозаик и драматург, особенно плотно разрабатывавший темы и мотивы сказочного фольклора, истолковывая их в мистическом, реакционном духе». Правда, в более поздних публикациях и исследованиях литературного наследия Блока, приближающихся уже к нашему времени, эта оценка начинает существенно меняться, — здесь уже указывается «на бесспорную роль Ремизова в становлении «такой кардинальной поэтической темы зрелого Блока, как тема России».
Ремизовская глубинная Русь, хотя ее и постигла судьба погрузившейся на дно океана Атлантиды, вопреки политизированному литературоведению, не канула окончательно в лету. Интерес к ней никогда не пропадал у советского читателя, как ни предостерегали его от православных и языческих корней прошлого. Уже к концу 70-годов, правда со старательными оговорками во вступительной статье, выходит первый советский томик произведений Ремизова, еще осторожно названный «Избранное». Постепенно назревавший и, наконец, к последнему десятилетию XX века разразившийся в России очередной катаклизм поднял, можно сказать, целую издательскую бурю вокруг ремизовского наследия. С 1988-го по 1994 год вышло более десяти весьма содержательных по жанровому многообразию книг писателя. На обложках они говорят о себе уже не поджатыми губами «Избранного», а по-народному красочным языком самого автора, названиями его произведений.
И несомненным центром внимания нынешнего читателя, с таким запозданием открывающего для себя ремизовский мир, является заманчивее и ярче всего проступающая из него глубинная сказочная Русь, которую и сам писатель неизменно видел перед собой на протяжении всех лет эмиграции. Да этот мир и действительно является самобытным и воздействующим на духовную память соотечественников писателя, благодаря чему он в ней и останется.
Однако поначалу литературный путь отверженного пасынка купеческой Москвы начинался отнюдь не с тропинки, уводящей в сказочную Русь. Увлечение идеями социал-демократии, участие в политической демонстрации, стоившее Ремизову (бывшему тогда вольнослушателем Московского университета) пятилетней высылки в Пензу, а затем на Русский Север, — все направлялось, казалось бы, к тому, чтобы пробуждающийся дар писателя развивался в русле критического реализма с доминирующим в последнем мотивом социального протеста. Так оно, впрочем, отчасти и получилось. В ранних повестях «В плену» (1903) и «Эмалиоль» (1909) жизнь арестантов изображается в духе Достоевского. В своем первом большом романе «Пруд» (1905), этой, по словам И.А. Ильина, «эпопее зла», Ремизов, сгущая краски, рисует картину безысходной русской действительности. В этой же тональности написаны повести «Часы» (1908), «Пятая язва» (1912) и «Канава» (1918). Все они представляют собой ту часть творчества писателя, которая, по определению исследователя, «развивалась под знаком декадентско-бунтарского неприятия окружающей действительности, отвращавшей его своим антигуманным характером, навязанным ей, как мнил Ремизов, свыше — некоей злой надмирной волей».
Но вместе с этим художественный дар Ремизова проявился и в совершенно ином направлении, учитывая которое М. Горький поставил его позже рядом с Лесковым как равным ему «обладателем сокровищами чистого русского языка», которые он собирал, по свидетельству современника, не только из редких старинных книг, но и «подбирая и записывая каждую кроху в деревне ли, в вагоне ли железной дороги или в городе». Эти-то «сокровища чистого русского языка» и стали материалом для воссоздания Ремизовым мира мифической Руси, нашедшего свое яркое воплощение в первых двух книгах этого направления «Посолонь» и «Лимонарь» (обе вышли в свет в 1907 году). За ними следует целая вереница книг, созданных на основе народных сказок, легенд, преданий.
Приступая теперь к рассмотрению этой воплощенной в творчестве Ремизова «второй стихии жизни», представляющей собой языческую, таинственную и дикую, фантастическую «волшебную Русь», необходимо задаться вопросом, могла ли выявить себя во всем своем богатстве ремизовская народно-поэтическая сокровищница в произведениях, изображающих современную жизнь русского человека, придавленную «злой надмирной волей»? Разумеется, нет. Эта жизнь потому и была безысходной, что не имела выхода к стихии национального бытия, уже запечатленного в творениях народного духа, в его самобытном, глубинном слове. Народные сказки, легенды, апокрифы и являлись теми творениями, в которых отобразился идеал народа, его вера, правда и суд. Разуверившись в возможности победы добра над злом в исторической действительности, Ремизов обращается к той области человеческой деятельности, где эта победа осуществляется в сфере непреходящих духовных ценностей, в образах народной поэзии, символике и мифах.
Сопричастность писателя этим ценностям была глубоко органичной. Неоднократно упоминает он свою кормилицу, калужскую крестьянку, песенницу и сказочницу: «...и меня не отделить от нее... образ моей кормилицы — Евгении Борисовны Петушковой — живет для меня в моих книгах-сказках: Докука и балагурье и Русские женщины. А с ними неотделим образ: Россия». И далее Ремизов признается, что его интерес к апокрифу пробужден семейными преданиями и детскими впечатлениями от общения с выходцами из народной среды. Ясная же русская речь, помимо кормилицы, няньки, в нем еще и от «Найденовских фабричных, Всехсвятских огородов, Андрониева монастыря и московских улиц». Еще с античности живет образ поэта не только как вдохновенного богами избранника и счастливца, но и как неутомимой пчелы, собирающей по капле свою взятку с цветов народной поэзии. Таков был Ремизов, умевший ощущать живой отзвук давно, казалось бы, окаменевшего словесного памятника. О книге «Житие протопопа Аввакума» он пишет: «Склад ее речи был мне, как столповой распев Московского Успенского Собора...» Так определял он свои художественные истоки, имея полное основание отметить: «И когда уж в Петербурге я очутился в литературных кругах, меня поразила и бедность словаря и неправильность речи. И это обернулось против меня».
Ремизов очень тонко определил своеобразие своих фольклорных интерпретаций. Когда, по словам писателя, он читал сказочные тексты в том или ином этнографическом сборнике, ему казалось, что где-то рядом звучит голос его кормилицы. Ремизовский вариант народной сказки — не что иное, как попытка воспроизвести этот едва уловимый, слышанный когда-то в детстве неповторимый голос. В своих интерпретациях Ремизов стремился восстановить некую первоначальную «правду» искаженного за давностью времени легендарного «события», каким бы мифическим оно ни казалось, свидетельствовать о нем с позиции очевидца. В соответствии с этим упор в ремизовских пересказах делается не на сюжет фольклорного или апокрифического текста, ана воспроизведение сопутствующего ему особого, можно сказать, интимного поэтического настроения.
Так, в книге «Посолонь», основанной на разработке фольклорных мотивов, автор как бы ставит цель «воплотить», «вочеловечить» все те малопонятные существа и образы, которые неотчетливым, как бы случайным штрихом промелькнули на поверхности безбрежного моря народной поэзии. К их мимолетности художник добавляет штрихи собственной фантазии, в результате чего возникает целый мир, которому Ильин дал следующее определение: «Русская сказка, да и вообще настоящая народная сказка всегда хочет выразить что-то своими образами; она имеет некий эпически-предметный заряд; она никогда не порывает окончательно с некоторым правдоподобием. Тогда как у Ремизова можно найти такие прихотливые вихри полусобытий, такие оборванные гирлянды невообразимостей, такое нагромождение неправдоподобия, что читателю остается только диву даваться. И тем не менее его фантастика близка русской народной сказке, именно тем образным узлам, тем сгусткам химерического видения, в которых миф приближается к галлюцинации, а галлюцинация навязывается читателю раз на всю жизнь».
Делая попытку доискаться психологических корней ремизовского сказочного мира, Ильин далее пишет: «Может быть, вернее и лучше всего подходить к фантастике Ремизова не от других авторов, а от долитературных богатств докультурного человека, от того „материала” образов, которым полна испуганная и колдующая душа первобытного существа, склонного олицетворять всей не знающего потом, как заклясть жуткое детище своего собственного олицетворения. Сказки, мифы, легенды; апокрифы христианские и особенно византийские; смутные, недорожденные образы, скрытые в „цветущих садах народного словотворчества” (фольклор!); чуть видная нежить примет, обычаев, обрядов, бытовых преданий, шуток, поговорок, пословиц, поверий, суеверий, ведовства и колдования — словом, все то, что живет в подполье всенародного сознания в неоформленном виде и то грезится в сумерках, то снится по ночам, то зрится в страшных мороках, то тревожит душу поэта, — вот скопище и обиталище ремизовских видений и повествований. И чем чуднее обитатели этого жилища, тем они ему милее. И то, что ему мило, — цветет у него во всей неуемно бродящей, играющей, поющей и творящей силе русского литературно грамотного, а подчас и долитературно безграмотного языка. Ремизов не только напитан, но и пропитан всем этим. Этим бродящим и вечно не перебродившим вином — он упился допьяна. Он „пьян” иррациональной стихией русского мифа, русского воображения, русско-сказочного небывалого быта и русского языка».
Вся языческая и христианская мифология в книге «Посолонь» предстает отчасти и как достояние детского воображения. Не случайно сами же дети выступают здесь в качестве действующих лиц. Проводы Костромы, сочетающиеся с проводами русалок (перед Петровым днем — 29 июня по ст. ст.), когда-то представляли собой аграрный праздник, о котором исследователь писал: «Под этим названием в некоторых местностях России (...) в старину совершалось целое народное празднование, отличавшееся различными народными играми, а в настоящее время (...) превратившееся уже в скромную детскую игру...» В соответствии с порядком детской игры Ремизов строит композицию своего «игрового» рассказа «Кострома», наделяя образ малопонятного уже персонажа чертами привлекательного для детей лукаво-обаятельного существа: «...брюшко у Костромы мяконькое... На то она и Кострома-Костромушка... лежит, лежона-нежона, нежится, валяется... — Дома Кострома? — Дома. — Что она делает? — Померла... И вдруг раскрывает Кострома свои мертвые глазыньки, пошевеливает желтеньким усиком, — ам!»
Существенно также и то, что художник пытается воссоздать этот ушедший, окружавший когда-то тот или иной фольклорный персонаж мир в цельности, представляя его, например, в неразрывном единстве с природой. Чаще всего эти образы подобны наивным представлениям патриархального человека о мире.
Заботясь о том, чтобы не исказить, не отпугнуть этот как бы волшебством заполученный в наш век из прошлого сказочный мир излишней литературностью его изображения, Ремизов старается насытить духом народного мироощущения саму словесную ткань своих интерпретаций, для чего в изобилии вводит в нее элементы живой крестьянской речи. Следит он также и за тем, чтобы изображение, например, пейзажа, не разрушало понятную детскому воображению иллюзию сказочности: «...там за болотом, за лесом Егорий кнутом ударяет... А над полем и полем, лесом и лесом прямо над Костромушкой — небо — церковь хлебная, калачом заперта, блином затворена».
Наряду с увлекательным сюжетом, пейзаж составляет самую значительную сторону сказочных зарисовок этой книги. Ремизов не описывает, а показывает картинку природы, сопровождает ее как бы невольно оброненными словами, скажем, какой-нибудь вышедшей погреться на крыльцо или завалинку деревенской старухи: «Теплынь-то, теплынь, благодать одна!» (С. 6; «Кострома»); или, если бы она рассказывала о чем-нибудь, случившемся с нею лично: «Темь, ни зги не видать... А дождь так и сеет и сеет... Вольному воля, спасенному рай...» (С. 36-37; «Троецыпленница»). Интонация бабушкиного рассказа или сказки неизменно отзывается во всех ремизовских пейзажных зарисовках: «С горки на горку, с ветлы до ветлы примчался ильийский олень, окунул рога в речке, — стала вода холоднее» (С. 26; «Борода»), «Стукнул последний красный денек» (С. 30; «Бабье лето»). И даже там, где изощренная метафора явно выдает художника-модерниста, все-таки в целом образ соотносится с поэтикой загадок и картинной звукописью народной речи: «И дикая кошка — желтая иволга — унесла на клюве вечер за шумучий бор» (С. 21; «Купальские огни»).
Ремизов не столько описывает какой-нибудь обрядовый или игровой эпизод, сколько воссоздает его поэтическую атмосферу, которую не могли донести скупые строки фольклорной записи. Что переживали, например, девушки, совершая обряд кумления, какой окружал их пейзаж, как гармонировал он с их настроением? — «Ушли обнявшись девочки с речки, закатилось солнышко. Вышла из бора старая старуха Ворогуша, пошла с костылем по полю. Преклонялось поле, доцветал хлеб. Перехожая звездочка перешла к горе-круче, заблистала синим васильком. Плыли веночки, куковала кукушка» (С. 14; «Кукушка»). Своим художественным зрением писатель как бы пытается пробить некую толщу, сквозь которую тот или иной фольклорный образ просвечивает неясно, тускло. Что такое, например, в своем живом воплощении «водяники»? А вот: «Вылезли на берег водяники, поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли» (С. 12; «Гуси»).
А то есть еще в заговорах на детский плач какие-то «криксы-вараксы». Что это такое? Изображая буйную купальскую ночь, художник находит и для них уголок: «Криксы-вараксы скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород» (С. 22; «Купальские огни»). А что может в такую ночь делать леший? Он «крал дороги в лесу да посвистывал» (Там же). Как выглядел оставленный на поле жницами последний символический пучок колосьев («велесова борода»), вокруг которого начинался обрядовый хоровод? — «Село за орешенье солнце, тучей оделась заря. А Борода в васильках разгорается». И тут же проходит рефреном через всю зарисовку заклинание: «Нивка, отдай мою силу!.. Горит борода, горит хоровод» (С. 27; «Борода»). А вот Кикимора, которую народная фантазия наделила чертами неприятными и страшными. Ремизовым же она увидена по-своему, — как существо проказливое и озорное: «На петушке ворот, крутя курносым носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо Кикимора уселась и чистит бережно свое копытце... — Тьфу! ты, проклятая! — отплевывался прохожий. — Га! ха-ха-ха! — и только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, причуды сеять, и до умору хохотать».
При всем глубоком внимании Ремизова к фольклору, последний интересовал его не в полном жанровом составе. В стороне оставался, например, героический эпос и, за незначительным исключением, жанры сатирические. Вероятно, в силу представления о них как об отображающих преходящие явления национальной жизни. Большее же внимание было обнаружено к тем направлениям народной словесности, в которых находили выражение ее наиболее универсальные, незыблемые формы, а также раздумья русского человека о вечных противоречиях бытия. Отсюда интерес писателя к языческой мифологии с ее поэтической демонологией и земледельческой магией, что уже отмечалось нами в «Посолони», и к сказкам, легендам, народному театру, апокрифам.
Последние с их остродраматическими библейскими сюжетами, основной темой которых является борьба добра со злом (в христианском понимании), представляли собой особенно благодатный материал для писателя. Они привлекали и своими богатейшими национально-образными, словесными ресурсами. Им посвящена вторая, изданная вслед за «Посолонью» в том же 1907 году, книга Ремизова «Лимонарь, сиречь Луг духовный».
Примечательнейшей стороной апокрифов является то, что библейские и евангельские легенды (о рае и аде, Христе, святых и конце мира), отрываясь от далеких и темных для крестьянского уразумения первоисточников, наивно и непринужденно переносятся на русскую национальную почву. Пространный авторский комментарий к «Лимонарю» свидетельствует о повышенном интересе художника именно к этой стороне жанра апокрифа. О собственно назидательной его сущности, равно как и о первохристианских источниках, почти не говорится. Но зато приводятся сведения о вертепном воплощении апокрифа «О безумии Иродиадином» в Сибири, о вольных домыслах народа относительно крещения Христа (крестила его, де, сама Богородица, а Иван Креститель был только кумом, а то еще поначалу кандидатом в крестители предполагался Никола Милостивый), о соединении в народе двух календарных Иванов (летнего «Крестителя» и зимнего «Богослова») в одно лицо и многое другое, обнаруживавшее глубокое знание писателем именно народной версии христианских сюжетов. Не без явного удовольствия он комментирует: «Пьют и едят в Иродовом дворце по русскому. Обычаи в корне „русские”; не русские — западные — вводятся для выделения Иродовой поганости-чужеземства...»
Интерес Ремизова именно к национальной стороне апокрифа подкрепляется постоянными ссылками на капитальные труды исследователей русской этнографии, народного мировоззрения и фольклора: летописи, словарь Даля, исследования Терещенко, Снегирева, Щеголева, Потебни, Аничкова, Владимирова, Шейна, Тихонравова, Буслаева, Афанасьева, Мансветова, Бессонова, Потанина. Заботясь о лингвистических аргументах, он пускается в объяснение этимологии слов «овсень», «корочун», проникает в историю скоморошества на Руси и еще глубже, — в византийскую праздничную обрядность.
В стилистическом отношении все шесть апокрифических текстов «Лимонаря» представляют старо- и новозаветные сюжеты, наделенные русскими реалиями. При этом то, что в свое время являлось для народа следствием наивного незнания подлинных источников христианских сюжетов, Ремизов использует как специальный поэтический прием.
Предавая забвению религиозную основу христианской легенды, народное воображение, по Ремизову, сохраняет для себя только обобщенно-этический смысл, конфликтно-драматическую канву легендарного сюжета. Так, в апокрифе «О проклятии Иродиадином» обыгрывается известный эпизод усекновения главы Иоанна Крестителя. На русскую почву и далее на ремизовский «луг духовный» он переносится с существенными изменениями и дополнениями. Наряду с евангельскими персонажами — Иродом, Иродиадой, Иоанном и Магдалиной — в повествовании участвует и весь рождественский колядовочный штат: скоморохи, глумцы, кони, волки, старухи, козлы, туры, турицы, береза-коза, медведи; слышится игра гуслей, сопелей; Иродово обиталище описывается как златоверхие терема с железным тыном — реалии русской волшебной сказки. Да и сами евангельские персонажи наделены эдесь теми или иными эпитетами, заимствованными из национального фольклора: Ирод — он же и «поганый козар», Иродиада — как, вероятно, отзвук проклятой в народе Марины Мнишек и одновременно героини гоголевской «Страшной мести» — «красная панна».
Ремизову, несомненно, была хорошо известна драма О. Уайльда «Саломея» на эту же евангельскую тему. Но какое различие в ее интерпретации этими двумя художниками! Как бы отталкиваясь от «христианской фантазии, всегда жестокой и всегда мстительной» (К. Бальмонт), английский символист, певец рафинированной красоты, превращает эпизод Нового завета в знакомый западной литературе трагический сюжет о неразделенной демонической любви. И совсем другое у Ремизова. Народ и лукаво присоединяющийся к нему художник даже толком и не знают, по чьей просьбе, жены деспота или его падчерицы, отрубают праведнику голову. Но завершается апокриф в духе народных представлений о победе добра над злом как установлении высшей нравственной справедливости, а именно карой Ирода, которого живым съедают черви, и Иродиады, превращенной в буйный снежный вихрь.
Но не только этические, а и, так сказать, космогонические интересы патриархального крестьянства учитывает автор, интерпретируя христианский сюжет в духе мифологического мышления народа. Вот; оказывается, каким образом возникли зимние послерождественские метели: бог проклял Иродиаду и превратил ее в вечную «плясовицу», поскольку, прельстясь именно ее пляской, отважился неразумный царь на святотатство: «Несется, неудержимо, навек обращенная в вихорь — буйный вихорь — плясовица проклятая и пляшет по пустыне, вдоль долины, вверх горы, — над лесами, по рекам, по озерам, по курганам, по могилам, по могильным холмам, по могильникам». Мысль об объяснительном значении апокрифов подчеркивал современник писателя Е. Аничков: «...народные легенды о святых возникли и развивались на русской почве в связи с народным календарем, отвечая потребностям олицетворения. Отвлеченное представление становилось конкретным образом... Над обрядовым сознанием строился миф, как украшение, как додаток, как объяснение».
Л-ра: Русская литература. - 1995. – № 4. – С. 50-67.
Произведения
Критика