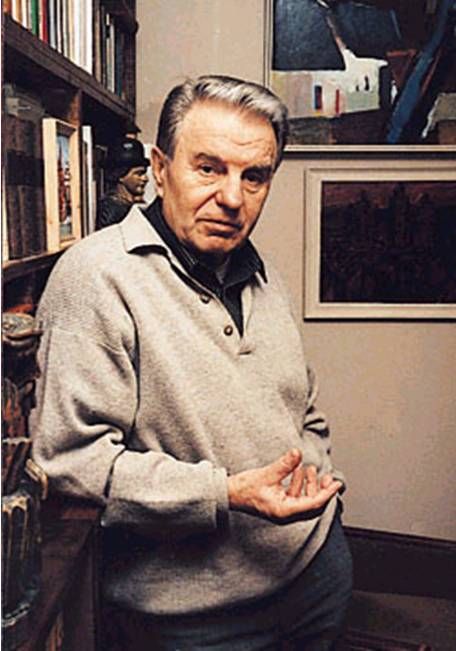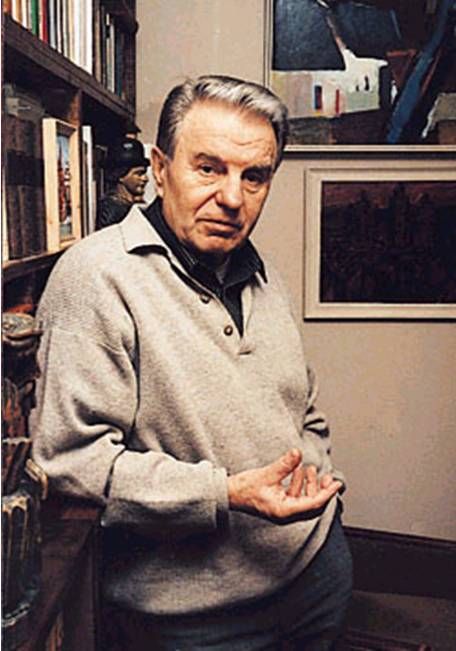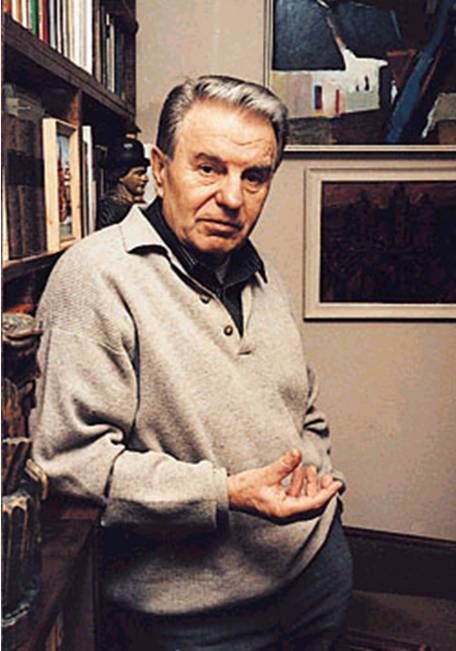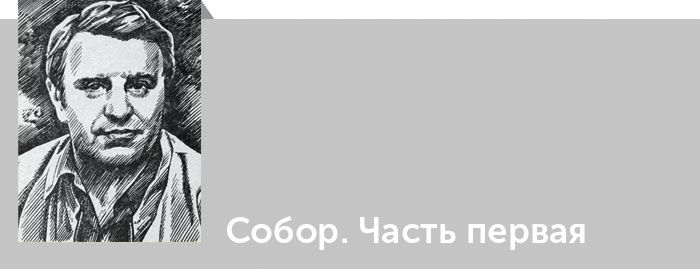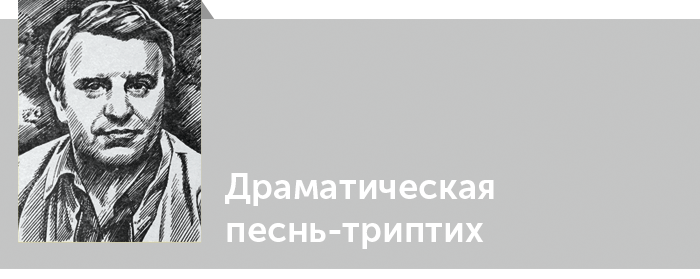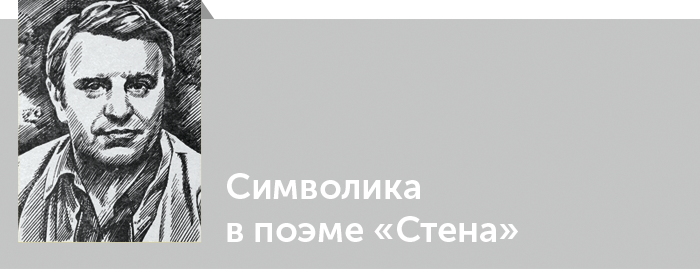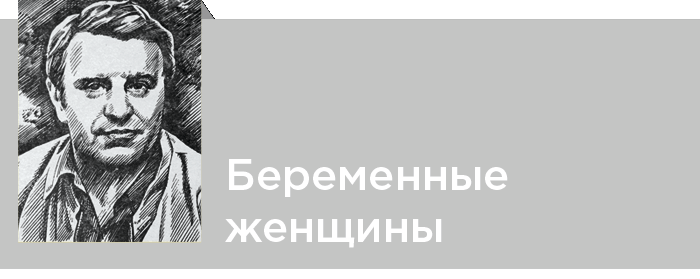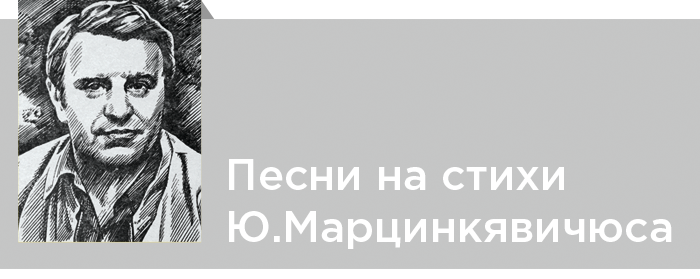Поэма героических стремлений
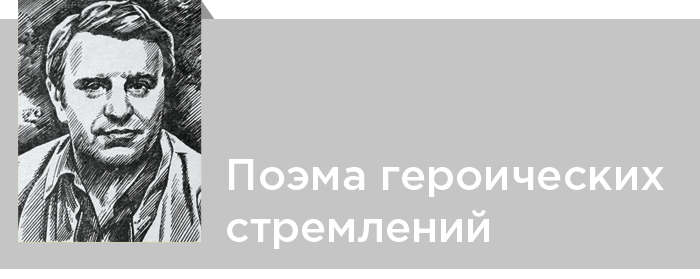
Юстинас Марцинкявичюс широко известен как автор поэтической повести «Сосна, которая смеялась», мастер большой поэмы, лирик интеллектуального направления. Его поэтическая индивидуальность поражает нас целеустремленностью художественных поисков. Поэт как бы обновляется с каждым новым произведением. В поэме «Кровь и пепел» его интересовали существенные связи человека со своим народом. К историческим судьбам литовского народа он обращается и в поэме «Донелайтис» (1964).
В новой поэме «Стена» Ю. Марцинкявичюс, на мой взгляд, стремится идти еще дальше, от синтетических обобщений к более конкретному исследованию мира чувств своего современника, определяя одновременно наиболее общие идеи нашего времени. Это поэма героических усилий и стремлений в истинном смысле слова.
Показательна даже сама история создания «Стены». Пока автор искал вдохновения в самом материале, стремился поэтизировать городскую жизнь или иронизировать над парадоксами бытия, лелея замыслы «городской поэмы, баллады, сатиры...» («Ненайденный переулок»), до тех пор его поэтическая мысль скользила по поверхности явлений. Новая поэма родилась лишь тогда, когда поэт задумался над тем, каким образом обыкновенный человек (героиня поэмы Марцеле) и он сам могут цельными ненадломленными бороться с силами зла. Поэт действительно вступил в борьбу со злом, которое укоренилось в противоречиях человеческого существования, постоянно проявлялось в истории общества и вместе с тем приобрело особые формы в наше время — будь то угроза атомной катастрофы, комплексы неполноценности, страха, подозрительности. Необходимо было бы во что бы то ни стало преодолеть инерцию приспособления к однодневным ценностям, привычку вечно оглядываться по сторонам. Необходимо было выразить накопившуюся автоиронию, столь характерную для нашей зреющей литературы. Это была борьба, достойная поэта, вызов, который потребовал от него крайнего напряжения духовных усилий и, говоря словами поэта, «титанического порыва в новое состояние».
Так родилась поэма нового типа. И не случайно она сразу же вызвала споры: одни читатели заметили в ней слишком высокий слог, трудновоспринимаемые мысли, другие же поняли ее как поэму о нашем времени. Для одних это был «эксперимент нагих символов», «погоня за формой ради самой формы», а для других — «поэзия воображения», «значительный документ нашей эпохи». К сожалению, критика, как мне кажется, еще недостаточно глубоко раскрыла индивидуальный замысел, идею поэта. В одной из своих статей Й. Ланкутис интерпретирует «Стену» всего лишь как «стремление проникнуть в существенные проблемы всеобщности, осмыслить в философском аспекте важнейшие процессы эпохи (социалистическую революцию, борьбу классов, разгром фашизма, угрозу атомной войны и т. д.)» («Пяргале». N9 12. 1966).
Разумеется. «Стена» так или иначе затрагивает эти важнейшие идеи и проблемы. Однако она не является всего лишь поэмой всеобщих эпохальных идей. Поэт проникает все глубже в личность, а через нее — к сути времени. По мысли Ю. Марцинкявичюса, все проблемы века концентрируются в личности. Человек должен столкнуться с великими проблемами, найти свое место в их решении, должен идти навстречу жизни, не отступая перед злом. Пафос поэмы — в Прометеевом вызове человека тому, что враждебно его натуре.
Поэтическая личность автора в «Стене», как и в предыдущих произведениях осталась цельной, масштабной, но теперь она стремится последовательно, до конца заглянуть правде в глаза, выразить такие внутренние проблемы, которые раньше поэт словно обходил стороной. Трудно объяснить, почему для некоторых читателей поэма эта всего лишь форма или философия нагих символов; на мой взгляд, она заключает в себе целый мир эмоций, наполненных всеобщим смыслом.
Суть поэмы заключена в ее увертюре. Стена старого дома, едва лишь прикасаются к ней «годы и эпохи», приобретает значение символа. Начертанные на стене указатель и слово «УБЕЖИЩЕ» напоминают войну, вызывают ассоциации о человеке и звере, рождают впечатление, словно мир вернулся в доисторическое прошлое, словно еще придется все создавать заново. Зло в представлении поэта невыразимо одними лишь социальными категориями (хотя и включает их в себя). Его воображение создает Динозавра — мифологический образ зла:
Рисуй на черной стене пещеры
свой страх —
Фантастическое Животное —
или выйди и его убей.
Подстрочный перевод.
Невежество, тьма, страх, трусость — все вбирает в себя этот многозначный символ, который то приобретает конкретный социальный подтекст, то возвращает человека в первобытное общество или детство, то выражает подсознательные комплексы и видения. Может быть, это отчасти переосмысление символов зла христианской религии, соединение их с силами социального зла и разрушительными стихийными силами природы.
Издавна стремится человек познать то, что враждебно ему, рисует на стене зло в виде Фантастического Животного, борется с ним. Символы борьбы возвращают читателя в сферу активного социального действия: на той же стене старого дома выведено другое, Но уже «спокойное И белое слово — РАЗМИНИРОВАНО». Это хрупкое слово напоминает ребенка, который на той же стене учится писать букву А — первую букву познания. Здесь же коряво начертана «пятиконечная звезда», видны следы «короткой автоматной очереди». Таким образом, мир социальных явлений при помощи «скупых современных средств» приобретает смысл всеобщих символов добра и зла, а столкновение двух планов (социального и символического) обогащается глубокой исторической перспективой.
Поэт выходит на битву с Динозавром с высоко поднятым знаменем любви. Любовь — это новое открытие мира, зенит человеческой жизни, через нее люди постигают суть драматических проблем бытия.
Наконец, на экране стены — Марцеле, бабушка, присматривающая за младенцем в детской колясочке. Словно клубок ниток, разматывает она свои воспоминания, вновь и вновь возвращаясь к «началу веков». И в то же время во дворе мальчик из лука стреляет в Фантастическое Животное, нарисованное на теневой стороне стены, а вернувшийся из школы маленький Эйнштейн кусочком мела вызодит алгебраические формулы. Человек побеждает хоть раз в жизни, и поэтому, говорит поэт, его жизнь не бессмысленна.
Свою философию бытия, всеобщую коллизию великих символов — Динозавра и Знамени стремлений — автор раскрывает в воспоминаниях старой женщины Марцеле, сидящей пополудни во дворе старого дома. Марциикявичюс не превращает образ Марцеле в нагую аллегорию своих идей, однако и не раскрывает более детально ее индивидуальности. Вместе с ней автор переживает ее драму, не забывая психологически оправдать полубессознательные воспоминания женщины, одновременно озаряя их, словно со стороны, необыкновенным внутренним настроением, напряжением необыденных мыслей. Поэта интересует судьба простой литовской женщины или даже вообще образ женщины из народа в XX веке. Однако образ этот создается так, что на первом плане поэмы мы непрерывно ощущаем столкновение самой поэтической личности с Динозавром, напряженную мысль и чувство самого поэта.
Марцеле еще в детстве сумела побороть страх перед неизвестностью. Ее первая любовь была первым порывом к счастью, к существованию, достойному человека. Однако гармоническое счастье Марцеле словно о стену разбивается в досоветские годы о социальную нищету, личные катастрофы, повседневную борьбу за «воздух, воду и хлеб». Именно здесь над своеобразной пропастью, которая вечно готова поглотить человека, поэт призывает человеческую волю подняться, как кажется с первого взгляда, даже над собственными реальными возможностями:
Стремление есть и есть мечта —
ты можешь
как знамя их воздвигнуть над Стеною:
и человек,
идущий мимо,
голову обнажит.
Ты можешь
поднять себя
над городом как знамя.
Ты можешь...
Подстрочный перевод.
Война в поэме предстает, как тягчайшее социальное зло, которое ускоренными темпами разрушает гармоническое мироощущение человека, стремится свергнуть его в небытие. И поэт бросает вызов темным силам разрушения. Когда «прекрасные, чуткие ноги» Марцеле не находят рядом «сильных и мускулистых» ног своего Адама, инвалидом вернувшегося с войны, и когда эти ноги мечутся «по кровати — как две белые рыбы, выброшенные на берег», мы глубоко ощущаем драматизм смертельного поединка между социальным злом и внутренне непокоренным, цельным человеком. Это именно не драматизм внутренней дисгармонии, а борьба человека с враждебными ему силами.
Эмоционально-драматические перипетии этой борьбы образуют ядро всей поэмы. И как удивительно ожесточенна эта борьба, требующая крайнего напряжения волн, когда с криком души выявляются внутренняя суть человека, его глубочайшие убеждения. Жестоко, изнурительно столкновение Марцеле с судьбою, с Динозавром, похитившим у нее любовь, счастье, спокойствие. Она терпит поражение, однако она отступает победительницей, ибо остается сама собою, цельная, ненадломленная, и как вызов темным силам — рождает сына.
Трагично само по себе постепенное сгорание Марцеле, однако оно не имеет ничего общего с модными экэистенционалистскими концепциями отчуждения, медленного отмирания. Марцеле «должна была сгореть, чтобы в пепле... засиял... скромный кристалл — радость верности», чтобы выстояла и обогатилась человеческая личность. Правда, и Марцеле неизбежно теряет многое. Во-первых, она вроде бы подчиняется коварной философии здравого смысла — головой стену не пробьешь, но подчиняется чисто внешне, ибо все «мы устаем... и ошибаемся. Но не отворачиваемся от Стены, а пытаемся ее понять».
«Здравому смыслу», злу поэт противопоставляет идеалы социалистического гуманизма, свет которых пронизывает наши дни. Он утверждает необходимость неустанной борьбы с тем, что мешает расцвету человека. Идея эта особенно подчеркивается «тяжелым словом ПОЧЕМУ», которым словно знаменем прикрыта вся жизнь Марцеле. Ее не победили, однако в ней сгорели, рухнули «фантастические и прекрасные города», и уже она ничего не могла в себе восстановить, разве только передать Сыну свою непорабощенную волю и стремление, чтобы он снова и дальше продолжил борьбу. Таковы они, непобежденные, обогатившиеся, все потерявшие «простые и скромные, в ожидании похудевшие матери. Грустные, пустые, как древки знамен»! Даже смертельный противник Динозавр — «огромный, черный, фантастический, страшный» — становится на колени перед благородной матерью и «лижет ей руки», а сыновья матерей,
молодые и красивые,
все еще борются
и стремятся к победе.
К большей.
нежели победа живых.
Поэтому
Мы должны
им помочь
и в себе подготовить место для
знамени.
Подстрочный перевод.
Такова героическая идея этой поэмы. Ю. Марцинкявичюс решил необыкновенно трудную задачу: он конкретизировал эмоцию, заставил ее образно и лаконично выразить глубокое содержание. Он как бы по-брехтовски активизирует мышление и волю читателя для дальнейшей борьбы и усовершенствования мира. Вся поэма ярко своеобразна по настроению, ее лиризм приобретает в символическом плане особенно широкое звучание и одновременно сохраняет национальный литовский характер. Поэт обнаруживает свои корни в старых, литовскою деревнею взращенных традициях, обогащенных, однако, зачатками городской культуры. В минуту несбывшейся радости Марцеле приснилась деревня, луга, конь... И не случайно образы города в поэме приобретают деревенскую окраску: «камни во дворе» то «теплы, словно буханки хлеба», то похожи на овечье стадо, а в трагический час становятся окаменевшими птицами.
Вместе с тем в поэме нет обычной литовской атрибутики. Истинно национальное и общечеловеческое начало поэт находит, говоря его же словами, не в этнографических деталях, а в «самой форме» национального сознания, в «его внутреннем состоянии и вытекающем отсюда образе взаимоотношений с миром».
Ю. Марцинкявичюс в каждом отрывке своей поэмы сумел создать целый мир образов, а путешествие к «началу веков» повторить в каждом эмоциональном и сюжетном повороте. Скажем, в эпизоде бани женщины, не ощущая грани «между телом и водой», испытывают «изначальную радость», а возродившееся старое и вечное право тела — жажда ласки — вновь возвращает нас не только к непосредственным столкновениям страстей и эмоций, но и к драматизму человеческого бытия. Труднее, может быть, понять увертюру поэмы, а кроме того, в некоторых местах ослабевает конфликтность образа и тогда, как заметил критик К. Настопка, «мелькает тень рационалистической аллегории», возникает одноплановый иллюстративный образ (например, мотив Сына). Однако поток свободных, систематически осмысляемых эмоций, просторный самораэвивающийся мир образов не только покоряет читателя, но и пробуждает в нем благороднейшие стремления, активную решимость... Это большое, выдающееся достижение литовской поэзии.
Р. ПАКАЛЬНИШКИС
Поэма героических стремлений. Р. ПАКАЛЬНИШКИС // Дружба народов. - 1967. - № 3. - С. 259-262