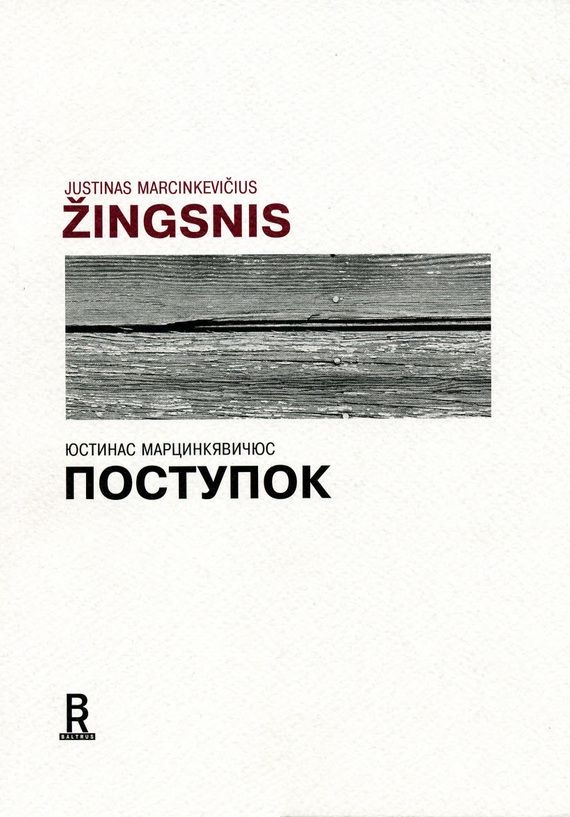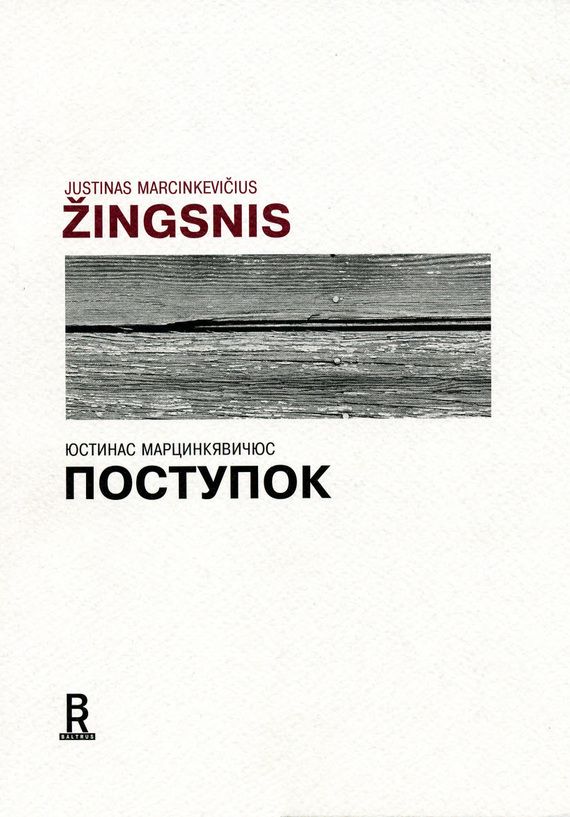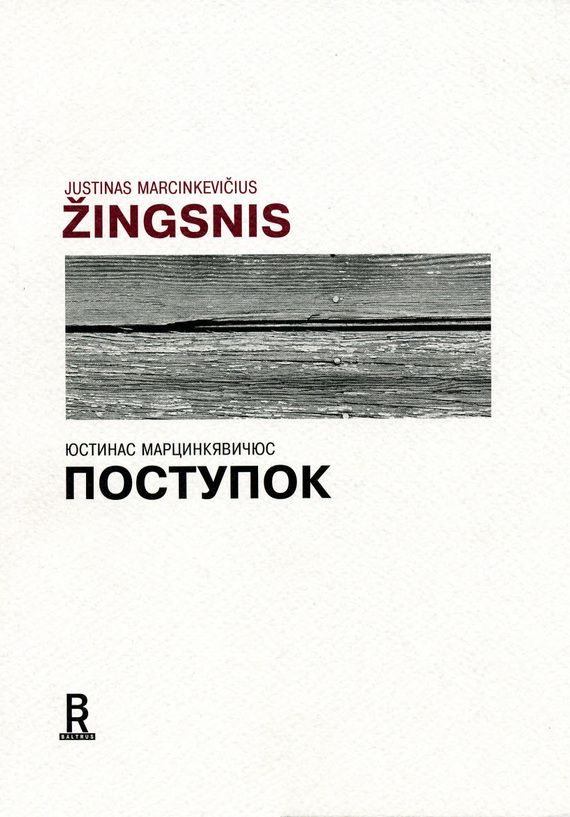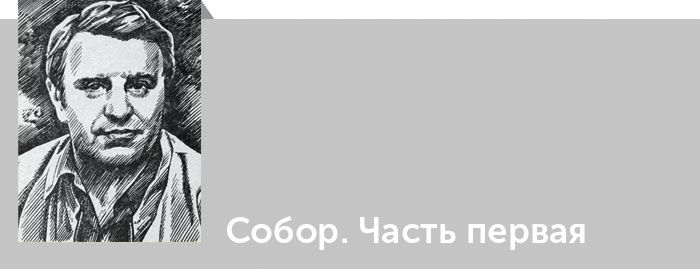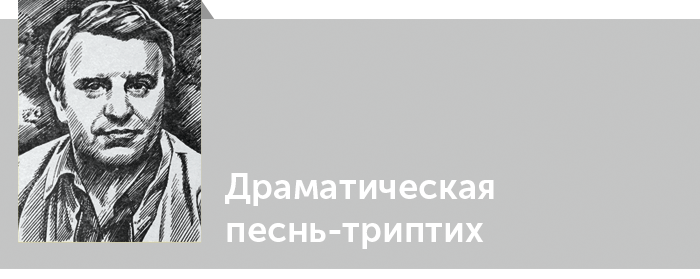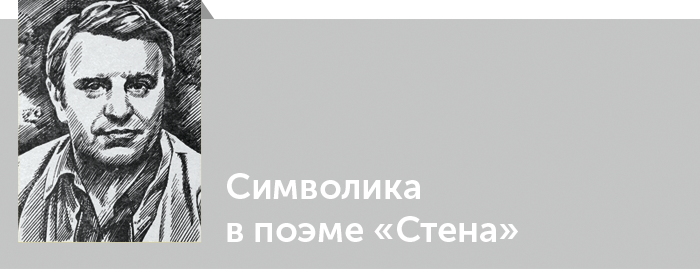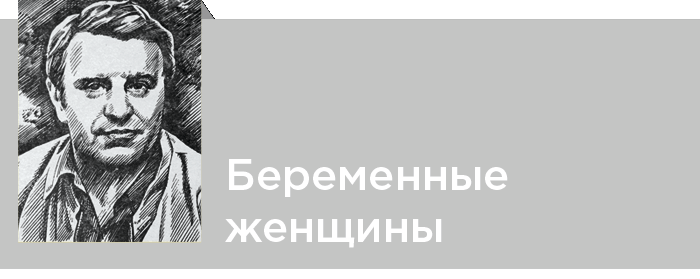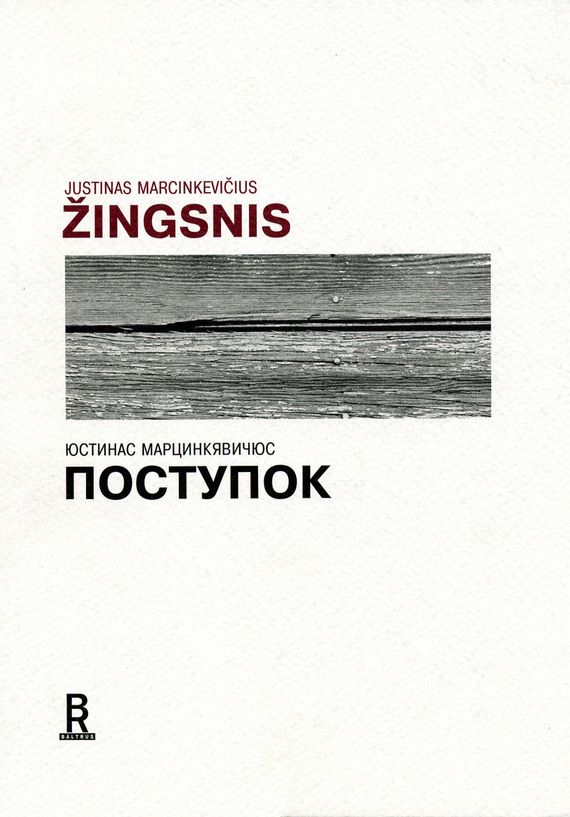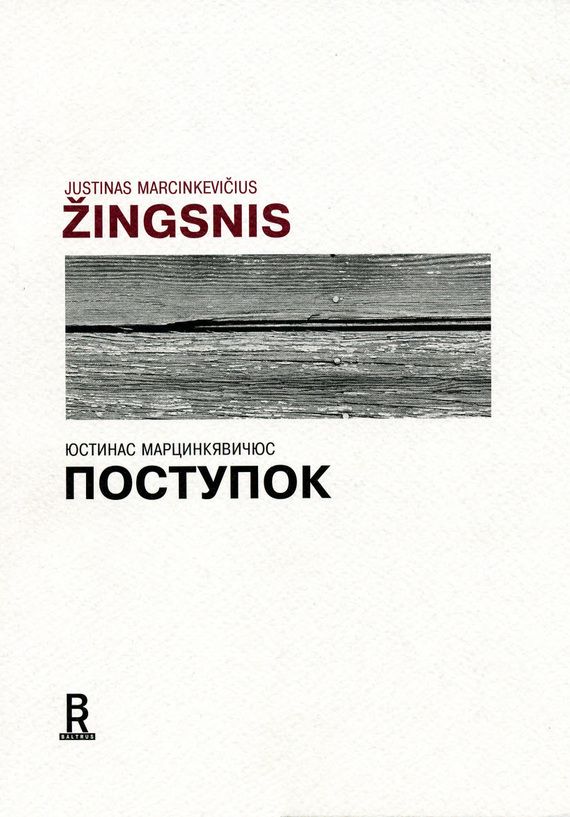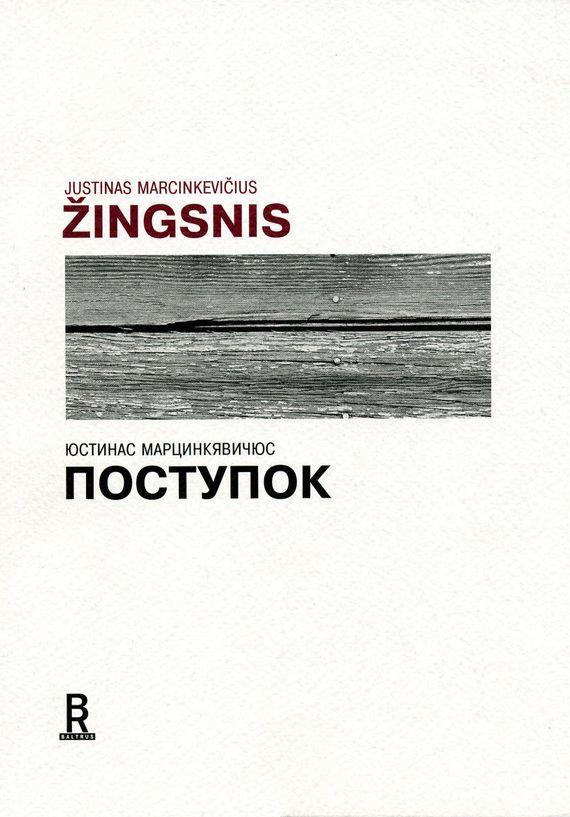Постижение Литвы. Заметки переводчика

Павло Мовчан
Юстинас Марцинкявичюс был для меня поэтом-эпиком, однако в его драматических поэмах я всегда ощущал сильное лирическое начало и предполагал, что он необычайно тонкий лирик. Не могу объяснить, в чем именно это сказывалось, однако в его произведениях всегда чувствовалась сквозная лиричность. Поэтому я с радостью взялся переводить его лирику, и она оказалась чрезвычайно близкой мне. На моментах сближения я и остановлюсь подробнее. Именно они стимулировали мою переводческую работу. Постигая поэзию Юстинаса Марцинкявичюса, я постигал его страну. Его слово обогащало меня.
В духовной биографии поэта каждое движение души сопровождается излучением, и разнятся они между собой лишь силою вспышки, лирического озарения. Лирика хотя и отталкивается от текущего мгновения, но выхватывает из него момент вечного, бессмертного, то, что объединяет. Обращенная к текущему моменту, к сегодняшнему дню, истинная лирика далеко выходит за временные рамки. Это та актуальность, которая и в каждое новое мгновение становится актуальной. Другое дело эпос. Он в плену у времени, у прошлого, он обязан подчиняться его приметам, событиям, последовательности их развертывания...
Имя поэта перекликается с именем его родины, его земли, потому что он — часть ее, маленькая росинка, вобравшая в себя земные просторы и небесную высь. Имя Юстинаса Марцинкявичюса ассоциируется с именем его отчизны. Он — поэт Литвы, ее певец и летописец. Летописец, потому что постигает прошлое своего народа, знает все изломы, все перипетии его судьбы. Он старается в полной мере сохранить объективность в освещении давних событий, но, как истинный поэт, страстно полемизирует с временем, обнаруживая в нем преходящесть, и одновременно воспевает его, ощущая его неповторимость.
Для того, чтобы сказать: «Я подобен словарю, открытому на букве «л» (имеется в виду Литва), надо на самом деле быть равновеликим своей земле — ведь ты же питаешься ее соками — и в то же время ощущать себя песчинкой того природного и общественного массива, имя которому — Литва.
Поэмы Ю. Марцинкявичюса — это истинный эпос, насыщенный историческими реалиями и событиями, это своеобразная попытка обозначить контуры духовной географии и истории Литвы. Поэт погружается в историческое прошлое своей земли ради конкретного выявления и художественного укрупнения черт национального характера, актуализации самой проблемы национального в литовской поэзии, для обоснования вывода о том, что движение истории и жизнь человеческая — неразделимы, что судьба народа и судьба отдельной личности — взаимосвязаны, что «человек и народ ощущают биение всечеловеческого пульса тогда, когда осознают свою жизнь как историю рукотворную и вечную». Поэт испытывает на прочность, на жизнестойкость народные идеалы. Испытывает их и на социальную действенность, и на моральную ценность.
Поэмы Ю. Марцинкявичюса — полифоничны, многоплановы, художественно совершенны, они обладают глубинным философским подтекстом. Проницательная и многомерная мысль поэта-исследователя, поэта-летописца, поэта-историка проникает в самую глубину изображаемого, исследуя свой предмет в различных плоскостях морального, психологического и исторического опыта. Так возникает эпопея борьбы литовского народа, вырастает монументальный в своей суровой правдивости образ Родины. В художественном мире поэм и поэтических драм Ю. Марцинкявичюса все дано крупным планом: и проблемы, и этические идеалы, и время, и пространство, и человек.
Однако после каждого поэтического паломничества в далекое прошлое, которые материализовались в его высокоталантливом и своеобразном эпосе, Марцинкявичюс непременно возвращается к лирике, ибо лирика исследует и то, что вечно, и то, что преходяще. И в ней он предстает как самобытный, необычайно проникновенный поэт, мастер тонкого лирического рисунка. Обладая сдержанным поэтическим темпераментом, он избегает девальвированных тропов, отбрасывает устаревшие лирические формы, не допускает торжественных жестов и эмоциональных завихрений, способных лишь затуманивать содержание. Он то задает вопрос, то спокойно, как бы про себя рассуждает, то отмечает для себя же что-то важное, но он очень редко утверждает. Патетика и экзальтация глубоко чужды поэту, так же, как риторика и морализаторство. Лирические анаморфозы колеблются между достоверностью и символичностью. Слух насторожен, зрение обострено, ведь в зеркале вечности, кроме реальных вещей, можно заметить еще и нечто неуловимое, то, что можно назвать дыханием времени, его течением, то, что раздвигает границы каждого предмета, объединяет их и роднит, наполняя весомым содержанием. И вот ведь нет здесь ни метафоры, ни обобщения, а магия — в каждой строке. Тайна жизни открывается в самых обыкновенных явлениях, которые поэт, саморастворяясь в них, объединяет любовью и светом своей души, очистившейся от всего мелочного, наносного, временного.
Водой, воздухом, огнем уже был. Настала очередь быть землей.
Уже принимаешь все, потому что все хорошо понимаешь — с глаз словно повязка спадает, и время подходит поближе, чтобы его угасающий взгляд видел ты:
видишь, а верить не умеешь,
думаешь, что то, что еще смотрит
и видит тебя, — тебе принадлежит.
Поэтому так приникаешь к
дрожащему
листу, нашептывая ему:
не бойся, не бойся — на самом деле
ты мой сын. Я ни одного
не оттолкнул. В самом деле, только
тени
поднимаются в небо, а все
остается во мне —
ведь я все время вижу
один живой и вечный огонь.
Это и лист, и дерево,
и целое, и часть.
(Подстрочный перевод)
Лирическая проникновенность сочетается с точностью воссоздания психологических состояний. Слово у Ю. Марцинкявичюса весомо: словесная оболочка настолько глубоко просвечена взглядом, что за ней видится уже и сама сердцевина, вся материальность слова. Именно такой взгляд на мир необходим поэту — взгляд как бы изнутри, когда видишь не глазами, а памятью. Вот камень. Тот самый камень, который был добыт из земли руками крестьянина и положен на межу; на нем сидела куропатка, на нем отдыхал в летний зной пастушок; а каким теплым он бывает в прохладную августовскую ночь, когда за день вбирает в себя столько тепла и света, что прямо-таки светится в темноте!
Это путь изнутри, из сердцевины своего слова, своей памяти, а значит, из памяти своего рода-племени. И нас поражает не нечто внешнее, а то напряженное, сокровенное чувство, та внутренняя необходимость видеть мир и человека так глубоко во времени и так далеко в перспективе, как будто бы разъятый на части, распавшийся на бесконечное множество элементов мир собирается в единство, в целостность. Благодаря тому, что поэт, стремясь познать эту многоликость мира, неохватность и разнообразие его проявлений, пропускает все это через свое сердце, через свою жизнь и, отсеяв все мелочное и несущественное, оставляет вниманию нашего сердца и ума самое главное, дарит нам родниковую чистоту чувств, видения, осмысления.
Это ощущение и миропонимание человека, который занят не самим собою, а погружен в размышления о сущности бытия, который тратит свою энергию не на жест, не на динамику, а на духовное постижение мира в себе и себя в мире. Энергичный жест, резкий громкий голос — признаки самоутверждения. Ю. Марцинкявичюс говорит без всякой аффектации, так же легко и естественно, как дышит:
Лес благоухал дождевым небом.
По радуге шла божья коровка.
И кто-то шел с жаворонком в горле,
быстро углубляясь в Литву.
Сила голоса здесь зависит от силы чувства, эмоциональной вспышки: удивление порождает восторг, и голос возносится, печаль снижает его, а медитация как бы выравнивает, делает протяжным. Взгляд поэта не только проницателен, но и детски непосредствен, он способен видеть мир как бы через своеобразный оптический прибор, который одно увеличивает, а другое уменьшает.
— Хорошая! (Так пел сам себе.)
О тебе скажу — и мир становится
добрее.
Дай в твоих вечереющих глазах увидеть
твою высокость,
дай твою боль отыскать губами.
И выучив тебя наизусть, тебя
окликать
В твоем огоньке уснуть
и лечь ложкой на стол
или же щепочкой лечь
под ножку стола,
чтобы, когда все соберутся за ним,
он не качался от тяжести хлеба.
Эхо, возвращаясь к человеку из дремучего леса или из глубокого оврага, несет в себе тревожащую неузнаваемость, незнакомость... Голос за краткое мгновение вобрал в себя прохладу, влажность, тенистость, и слух уже фиксирует новые оттенки. Вот так и наши чувства, отозвавшись на голос литовского поэта, вбирают в себя духовные горизонты и живые ландшафты Литвы, и река Неман для нас уже не географическое понятие, а нечто родное, близкое... Это не речка уже, а что-то более широкое, емкое: тут и история, и пейзаж, и характер. Пейзажи с Неманом выполнены и акварелью, и маслом. Зеркало воды отразило все краски неба и всю гамму чувств поэта, который твердо знает, что химический состав его крови и воды в Немане одинаков, поскольку их полнят одни и те же источники родной земли.
Смотри, расцвели камни — не сорву,
пусть поет неприкосновенная
благодать.
Сломанная ветка яблони срослась.
На нее опять вешают люльку.
Разве я не говорил: мир безбрежен.
Сидят под рябиною боги,
усталые, — ты у них спроси о том,
чего не знаешь.
А потом открой сундук,
отрежь полотна им на рубахи.
Цветет рябина им в благодарность.
И сосет палец своей ножки
проснувшийся младенец.
Кто-то незримый покачивает его
колыбель
и разговаривает с ним, — младенец
радостно что-то лепечет,
ему видно, как отворяется небо,
как все ласково накопленное
улыбается ему.
О горенько!
Какая это благодать — жизнь!
Какая благодать!
Яблоня, рябина, колыбель. Что заключено в этих словах, находящихся возле самого понятия, и в нем самом, и вне его (в словаре, например)? Надо ощутить терпкость рябины, дурманящий запах цветущей бузины, скрип старой люльки под яблоней, где засыпает младенец, увидеть старых дедов на меже, напоминающих древних богов, и сказать обо всем этом так просто и мудро.
Вот она, чистота и точность поэтического выражения. Мир отражен не через копирку, а через самое чуткое и тонкое — через воздух. И воздух этот — поэтический. Посмотришь, перечитаешь один и другой раз и дивишься: все просто, естественно, все на месте — и какая глубина! А воздух вокруг того или иного слова насыщенный, плотный, поэзоактивный, заряженный... Потому что между словом и предметом нет никакого зазора, и, будто зеркало в зеркале, слово отражается в предмете, а предмет — в слове. В этом и состоит высшее мастерство.
Лирическое слово Ю. Марцинкявичюса весомо и достойно представляет современную литовскую поэзию, продолжая ее традиции, расширяя ее эстетические и этические горизонты. Традиция в поэтическом мышлении Ю. Марцинкявичюса — безусловна. Художественная целостность и органичность Ю. Марцинкявичюса обусловлены его поэтической ориентацией на конкретность времени, его материальность, на предметность слова. Слово ищет свои истоки и находит их в народной песне, в пословице, в реальном событии, в строке летописца, в поэтических текстах Кристионаса Донелайтиса, Балиса Сруоги. Слияние слова и предмета в поэзии Ю. Марцинкявичюса настолько полное, что между ними невозможно просунуть даже острие иголки, и эта наполненность, емкость слова порождает глубину поэтического мира.
Духовная сила, формирующая поэтическую идею, — это магнетическая сила, которая притягивает к себе и будничный факт, и драматическое действо, и яркую праздничность летних красок. Как железные опилки в магнитное поле, в поэтическое поле Ю. Марцинкявичюса попадают и предметы сельского быта, и фрагменты родного пейзажа, и воспоминания детства, и свадебные песни, и руки пахаря, и краюха хлеба, и добрые глаза матери, обыкновенная травинка, божья коровка на цветке, просто песчинка и праздничный деревенский стол, под ножку которого (какая деталь!) подложена маленькая щепочка (именно ею хочет быть поэт в родном жилище). И все это в поэтическом воображении высвечивается, одушевляется, занимает такое место, что и твое духовное зрение становится более сосредоточенным, внимательным, и ты чувствуешь, что сердце твое сладко щемит, и в тебе рождается печаль об утраченном или еще пока не сбывшемся. И тогда щепочка под ножкой стола и травинка на меже превращаются в истинные поэтические метафоры, перерастают в высокоэмоциональные символы. Поэт обращается к понятиям чисто национальным, но они поднимаются над этническими границами и становятся эмблемами вечного поэтического познания. И происходит узнавание, которое возвращает нам ощущение причастности ко всему сущему в мире. Мы жаждем этого космического чувства, которое помогает нам разомкнуть узкие сферы повседневности, нарушить механические привычки, освободиться от затверженности рефлексий. Это чувство, извлеченное поэтическим словом, выводит нас на новые просторы, где мы глубже осознаем себя и видим, что литовский лес или нива близки нам точно так же, как Кошевой лес под Киевом или Белокняжье поле возле моей Вильшанки.
Мовчан Павло. Постижение Литвы. Заметки переводчика / Павло Мовчан // Литва литературная. - 1985. - № 6. - С. 157-161