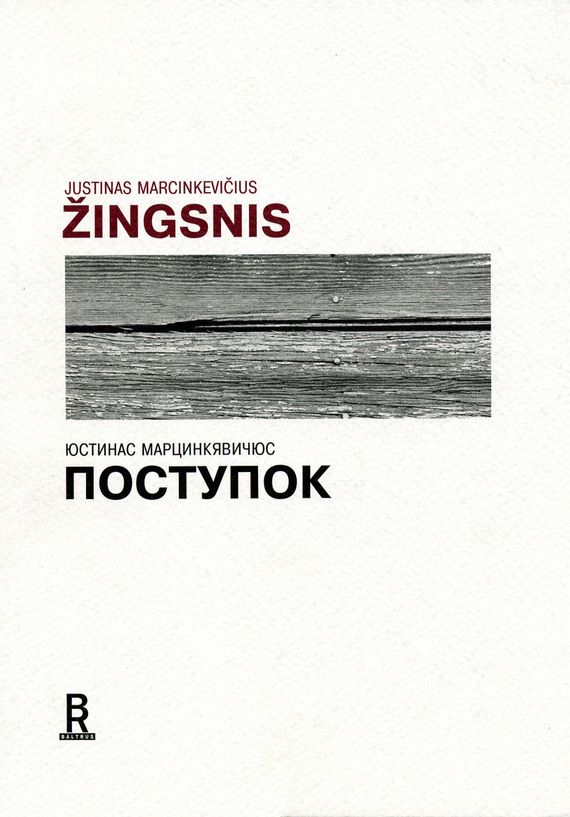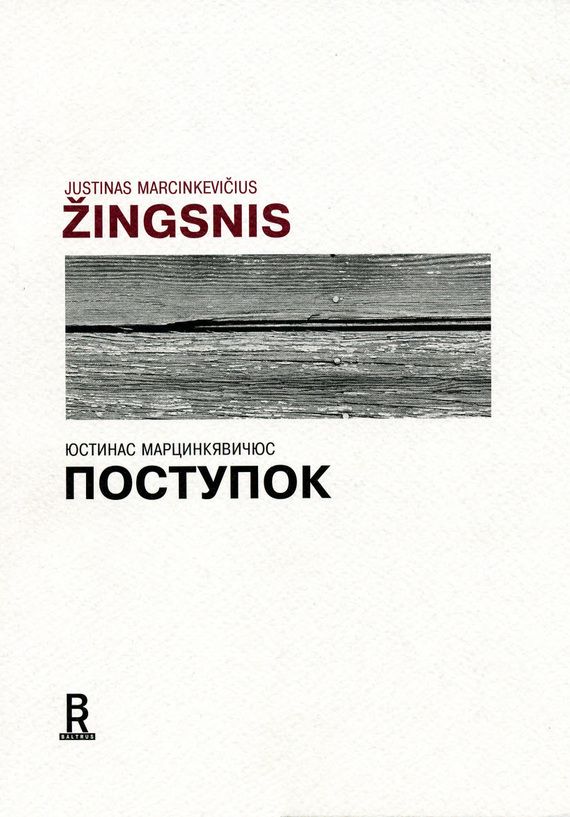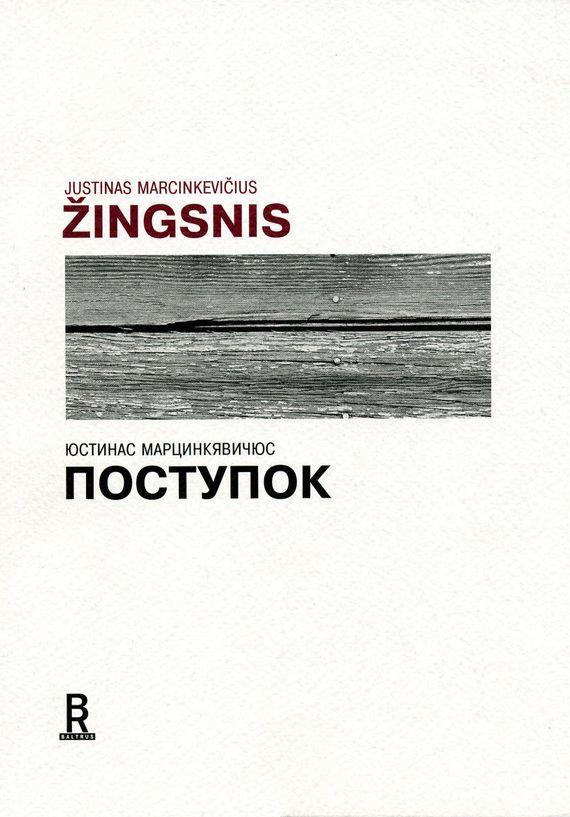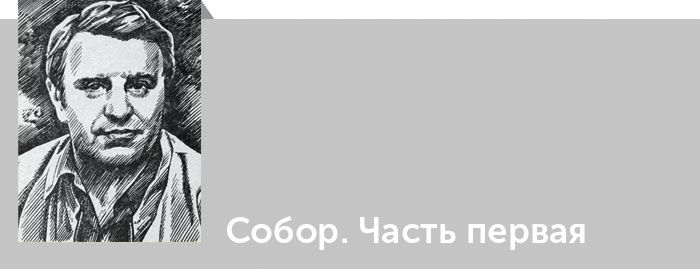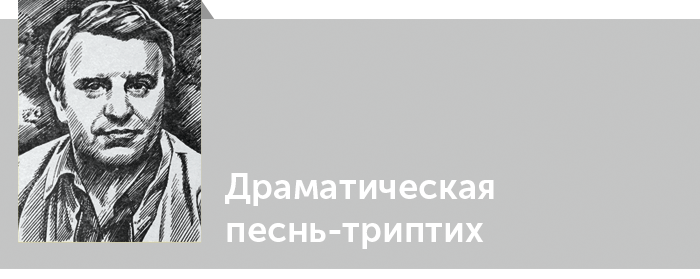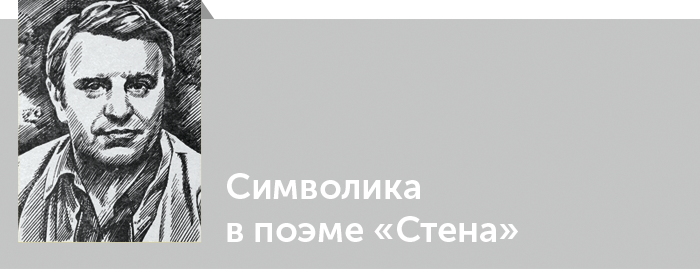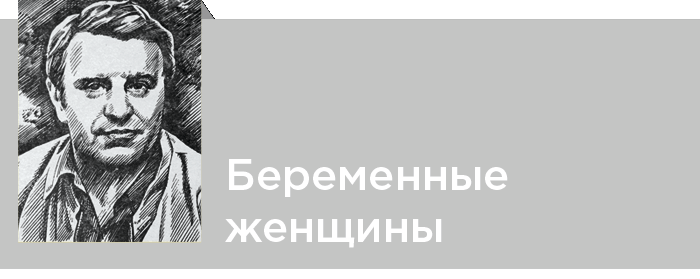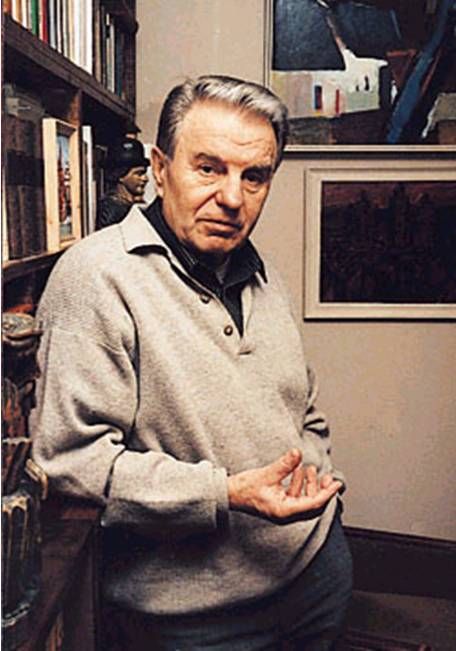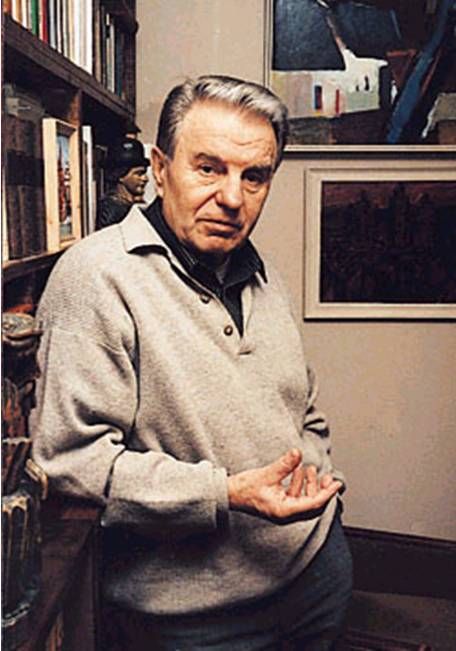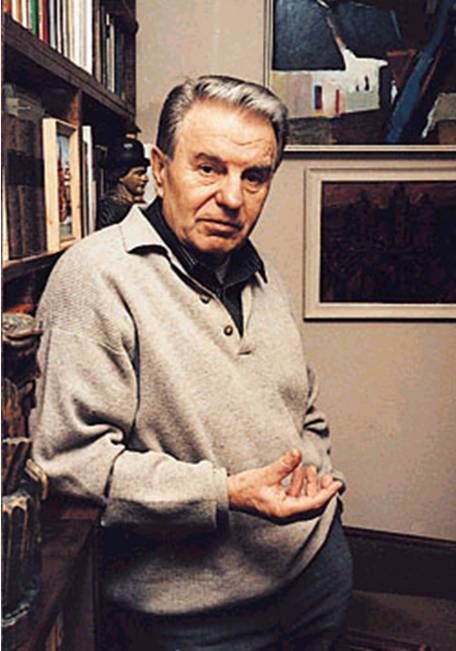Дух и архитектура «Собора»

Юстииас Марцинкявичюс. Собор. Драматическая поэма. Перевод с литовского Д. Самойлова. «Дружба народов», 1975, № 12
Чтеине «Собора» радостно уже и потому, что вызывает высокие и несколько забытые историко-литературные образы. Автор и переводчик представили материал, ведущий на авансцену тени Шекспира, Пушкина, Гёте как автора «Фауста», Мицкевича, французских и литовских драматически-поэтических классиков; нет нужды объяснять, насколько интересны сейчас эти традиции, ассоциации, ощущение такого типа творчества. Мы, отчасти уже привыкшие к деловитой прозе или к слишком специализированной, профессионализированной поэзии, вдруг вновь вспоминаем, что есть в искусстве философско-возвышенное начало... При этом в тексте присутствует оригинальный оттенок, состоящий вот в чем. Исторический материал, даваемый Марцинкявичюсом, судя по всему, тяготеет к шекспировскому «грубо»-экспрессивному типу и соответственной стилистике; перевод же Д. Самойлова по своей словесной фактуре тяготеет скорее к пушкинскому началу — более строгому, стройному, менее «грубому», экспрессивному, романтическому. Учитывая общий характер поэзии самого Д. Самойлова, это естественно. Такой дополнительный внутренне-стилистический контрапункт сообщает словесной ткани «Собора» особую объемность:
Зачем я здесь? Чего я здесь хотел?
Полюбоваться на ее мученья?
Или утешить? Чем утешить? Ложью?
Недаром говорят, что душегуба
Влечет увидеть жертву... Вот и я
Вернулся... Здесь тот склеп, откуда к небу
Взывает грех мой о возмездье правом!
О господи, ты покарал меня
Всего ужаснее — не покарав.
Оставил жить, страдать. Как все на свете...
Проблематика этого произведения, как того и требует сам жанр стихотворной драмы, трагедии, тоже возвышенна и торжественна. Здесь ставятся последние вопросы человеческого бытия и истории. Наиболее очевидный из них связан с двумя главными противостоящими персонажами. Герои «Собора» — зодчий Лауринас и архиепископ Масальский, олицетворяющий собою духовную и светскую авторитарность накануне гибели феодального строя. Как и следует ожидать, отношения их неоднозначны: Масальский достаточно умен, Лауринас достаточно стихиен и неровен в своем поведении и замыслах, чтобы образовался клубок противоречивых страстей. К этому, конечно, «добавляется» любовная коллизия — оба любили одну женщину, мать сына Масальского. Последний не прочь приласкать Лауринаса, если тот будет заниматься своим делом и не лезть в чужие; Лауринас, в свою очередь, как беспокойный и чуткий творец, «делая свое дело», при этом только и попадает что в чужие дела и не может распутаться с этим.
Однако если бы ситуация ограничивалась этими традиционными коллизиями, все было бы проще, но Марцинкявичюс стремится прозреть логику жизни дальше банальной дилеммы феодального государства и свободного искусства.
Следуя букве истории, а может быть, при этом отчасти размышляя, например, и над опытом «левого» искусства XX века, поэт ставит вопрос о прямом участии художника в современной ему бурной политике, притом политике красиво-романтической, но внутренне не подготовленной. Этим последним обстоятельством Марцинкявичюс, конечно, несколько облегчает себе задачу, чем, может быть, и объясняется некоторое «провисание» во второй половине произведения: все слишком ясно заранее и автору и нам, нет того напряженного «равновесия диких» сил, которыми поражает нас, например, Шекспир в своих третьих— пятых актах. Марцинкявичюс, как и всякий апологет возвышенного искусства, чувствуется, все время испытывает потребность в том композиционном равновесии добра и зла, увиденном с тайной позиции добра, которым и отличается такое искусство, но расстановка сил слишком предрешена. Лауринас, которого посетило дивное видение — будущий вильнюсский собор, вскоре, как оно бывает с художниками, временно отходит от своего замысла душой, забывает о своем «профессиональном» назначении и ввинчивается в бытовые и социальные страсти, связанные с подготовкой восстания.
Неопытный в этой сфере, он тут же начинает попадать в разные драматические и неловкие положения: то Масальский щадит его талант, но казнит его товарищей, и на этом основании бунтующие сограждане обвиняют его в предательстве; то, наоборот, он становится во главе самих бунтующих, но ведь восстание заведомо обречено, и Лауринас знает об атом; кроме того, сам народ еще не совсем ведает, что творит,— и тут встает третья проблема «Собора». Она связана не только с традиционным «личность — народ», но и с пушкинским «народ безмолвствует».
Вовсе не модернизируя самое историю и стараясь просто добросовестно понять, что же происходило в Литве на рубеже XVIII— XIX веков, на рубеже феодализма и новой эры, о чем и сам предупреждает в предисловии, поэт говорит о трагедии народа, застигнутого европейскими (Французская революция) ветрами в те времена, когда сам он еще только готовился к новому мироощущению. Итогом было преждевременное восстание, раскол среди народа, усталость, разочарование, проникшие внутрь его, и — поражение после самой победы.
Что же Лауринас?
Он одинок, он — на грани гибели; впрочем, вдали гибнет и умный его враг-покровитель — Масальский; но Собор — символ родины,— Собор будет, он уже вот он, я в этом ныне — смысл жизни; и одинокий ребенок играет у паперти, ребенок, неизвестно чей сын: то ли крестьянки, надрывно причитающей у Собора над погибшим сыном, то ли самой героини, пережившей такое же горе; важно, что он есть, он жив. что он символизирует будущее.
Вообще-то в таких вот символах заметна и некоторая слабость — символ слишком ясен, в нем слишком четко просматривается дно. «Миндаугас», предшествовавший «Собору», был более плотным и плотским, а в поэме «Стена» символ тоже чрезмерно прозрачен.
Повышенная символичность вообще присуща литовской поэзии, и в частности эпической поэзии Марцинкявичюса; это черта стиля. Да что говорить, тут литовцы не одиноки в нынешнем литературном мире; достаточно вспомнить латиноамериканскую прозу, драматургию, японский роман, чтобы увидеть тот же прием (хотя и иначе направленный). У нас — армянские, молдавские прозаики, грузинское кино... Порыв к синтезу, стремление освоить главную закономерность жизни — вот откуда это.
Но бурна, сложна жизнь, и простая символика не всегда справляется с этой сложностью.
В «Соборе» достаточно много проблем, чтобы их можно было свести в одну точку; конечно, тут можно бы сказать, что не надо было их «брать» столько, но Марцинкявичюс прав, что он «взял», что он дерзает. Но просто он здесь столкнулся с той величайшей трудностью условно-поэтического искусства, которая заключается в соединения повышенной «духовности» с ощущением самой естественности жизни; искусство бытовое легко выходит из этой коллизии — оно сохраняет правдоподобие и «органичность», но за счет полета духа; в «высоком» же творчестве есть опасность абстракции и того просчета, который состоит в подмене «органичности» «синтезом», то есть именно сопряжением извне неких отдельно взятых начал, «проблем». При «органичности» проблемы сами вырастают из текста, при «синтезе» они все-таки ощущаются не как химическое целое, а как электросварка со швами. И поэт отчасти не избежал этой трудности. Он и сам не хочет «точек» — не дает тезисных, однозначных ответов на вопросы давней истории. Да и какие «отмычки» годятся для проблемы «духа и действия», столь актуальной ныне для нас в истории, для проблемы народа и его победы как пути к будущему, до которого было еще двести лет? Но все-таки есть соблазн дать такие ответы, и вот перед нами символы; Собор, играющее дитя.
Сводит ли это композиционные концы? Может быть.
Но хотелось бы и той мощной конкретности в самой возвышенности, которая уже не нуждается во внешней символике, которая, кстати сказать, проявилась бы и в самой стилистике, в языке, местами грешащем хотя и эмоциональной, и возвышенной, но все же — риторикой, особенно в психологически напряженных, «надрывных» местах. Здесь поэт «забывает», что искусство, как и всякая духовная деятельность, тоже не только восклицает, но анализирует; он боится той условности, которая является непременной чертой им же принятого стиля. У Шекспира Ромео, прежде чем войти на балкон к любимой, произносит монолог, где подробно описывает свои чувства; именно такая условность возмущает в Шекспире Толстого, но каждому свое. Шекспир действует по законам поэзии, а они бывают и жестоки и непреложны; «Собор» живет по тем же законам, но местами есть нарушения— срыв волн, невыдержанность стиля. Бытовая «правда вскрика» не всегда становится правдой искусства:
Скажите, как же уберечь Собор.
Пускай обманный, пусть самообманный.
Как уберечь его от страшных сил?
От угнетения и от насилья...
Ха-ха! Шутник! Сказал бы лучше, как
От самого себя сберечь мечту,
Любовь и веру, собственную правду...
Мысли верные, но недостаточно поэтически выраженные.
Причем видно, что за строкой стоит автор, а не только переводчик.
Ю. Марцинкявичюс в последние годы в возвышенно-поэтической форме пристально исследует историю родного народа и попутно — общие законы истории и «духа в ней». Нечего объяснять, как труден, но и благороден, почетен предмет. В общем и целом поиск идет успешно. Поэт «шествует» в русле большой культуры, а произведения его становятся достоянием всей советской поэзии. Критерии оценки —соответственны.
Вл. ГУСЕВ.
Дух и архитектура «Собора». Вл. ГУСЕВ // Новый Мир. - 1976. - № 9. - С. 262-264