О мере условности в ранних рассказах А. Грина
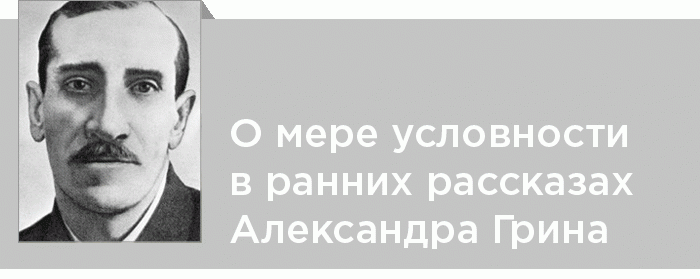
И.В. Мыльцына, А.В. Толстая
Александр Гриневский начал писать в
В сборнике «Шапка невидимка» (1908) напечатаны произведения вполне реалистические. Никто из исследователей не сомневался в автобиографичности ранних реалистичеоких рассказов, в которых отразились солдатчина Грина («Заслуга рядового Пантелеева», «История одного убийства»), его пребывание в партии эсеров («Подземное», «В Италию», «Третий этаж»). Все эти рассказы написаны то живым впечатлениям действительности, основаны на фактах пережитых, хорошо известных автору.
В книге «Рассказы» (1910) вместе с реалистическими опубликованы и первые условно романтические: «Остров Рено», «Колония Ланфиер».
Каковы же истоки гриновской условности и какова мера ее соотношения с реализмом в ранних произведениях Грина?
Искусство — это «переработка» объективного содержания в сознании. Поэтому всякий образ содержит в себе единство объективного и субъективного начал и в этом смысле (если уж употреблять этот термин) «условен». Какого же рода «условность» Грина, существует ли она как средство познания действительности, отражает ли реальные связи между явлениями или порождена субъективным своеволием художника?
«Реалистическая условность — это условность образа, правдиво отражающего жизнь, формалистическая условность — это условность «иероглифа», зашифровывающего отражаемое так, что ни познать, ни понять его нельзя». Было время, когда Грина обвиняли именно в такой «дурной условности», в отрыве от жизни, зашифровке образов. Даже доброжелатель и последователь Грина, К. Паустовский, говорил, что романтичность образов обусловлена у Грина бегством от действительности. «Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от нее, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня». Считали Грина и простым подражателем иностранной приключенческой литературы. Но существует и другое, гораздо более правильное мнение: в вымышленных городах Грина — Лиссе, Зурбагане, Гель-Гью — под условными именами Греев и Дюков живут и действуют самые что ни «а есть обычные люди, занятые обычной работой моряков, рыболовов, охотников, — люди, среди которых многие годы жил Грин, с которыми встречался в своих скитаниях.
Фантастико-романтические сюжеты («Блистающий мир») у Грина соседствуют с бытовыми и сатирическими («Капитан Дюк»), и даже волшебная Фрези Грант — не что иное, как символ вполне реального чувства — активной, действенной, помогающей любви («Бегущая по волнам»). Связь романтической условности в рассказах Грина с реальной действительностью увидел еще один из первых критиков писателя — А.Н. Горнфельд, сотрудник журнала «Русское богатство», где печатался молодой Грин. Условность в рассказах Грина не подделка под приключенческую литературу Брет-Гарта и Киплинга: «...Это свое потому, что эти рассказы из жизни странных людей в далеких странах нужны самому автору: в них чувствуется какая-то органическая необходимость, и они тесно связаны с рассказами того же Грина из русской современности, и здесь он тот же... просто в этой, конечно, абстрактной форме ему легче найти, то есть высказать то, что он ищет...». «Точные бытовые детали, — говорит рецензент, — переносят рассказанное из мира фантастики в мир действительности».
Еще более определенно утверждают реалистические корни гриновской условности советские исследователи. Мариэтта Шагинян, далекая по своей манере, документальной и точной, от фантастики Грина, но тем не менее «согрешившая» однажды, написав приключенческие повести «Мэсс-менд» и «Лори Лен-металлист», хорошо почувствовала характер гриновского вымысла: «...Грин показывает с удивительной, непревзойденной, только ему присущей оригинальностью, что фантазировать можно лишь в мире ассоциаций, созданных твоею средою, и что сбывается фантазия всегда. Но сбываются именно как то «ассоциативно возможное», что заложено в самих условиях не только твоего существования, но и существования твоей среды. Иначе сказать, Грин целиком работает под тем самым лозунгом «здоровой фантазии», без которой не может быть ни науки, ни революции; фантазии, исторически обусловленной». Знатоком всех тонкостей морских профессий и обихода, открывателем новых стран не на морях и океанах, а в той области, которая извечно называется «душой человека», и был А.С. Грин. Однако, как говорит Шагинян, психологизм Грина резко отличается от болезненного интереса западных модернистов к подсознательному.
Реальную основу условности Грина усматривает и Марк Щеглов: «...когда читаешь книгу его рассказов, вдруг начинаешь замечать, что «неуловимые сны» гриновской фантазии очень близко подходят к прекрасной яви; кажется, что вся нереальность места действия в его рассказах, вся подчеркнутая «нездешность» носят характер невольной поэтической мистификации; если всмотреться в мир образов А. Грина, во все частности его художественных картин, то мы рядом с уходом от действительности, а часто и вместо него, увидим преображение действительности волшебным андерсеновским прикосновением». Щеглов, как и Шагинян, утверждает жизненность происхождения «сказок» Грина.
Д.С. Лихачев рекомендует исследователям вопросов взаимосвяз содержания и формы литературного произведения изучать внимательнее не только личность писателя и время, когда он творил, но и факты его биографии и детали жизненной обстановки. «Знание читателем городского пейзажа Петербурга и его окрестностей, деревенского пейзажа Шахматова не только обостряет восприятие поэзии А. Блока, но в какой-то мере «выпрямляет» это восприятие, позволяя заметить в поэзии Блока гораздо больше реалистических «элементов, чем это кажется на первый взгляд». Такой подход уместен по отношению к А. Грину не менее, чем по отношению к Блоку. Определяя меру соотношения романтики и реализма, условности и жизнеподобия в творчестве Грина, нельзя забывать, что он начал писать и созрел как художник в годы, когда участвовал в освободительном движении, сидел в тюрьмах, отбывал ссылку. Эти вполне реальные обстоятельства отразились особенно ярко в этической атмосфере его ранних рассказов, но не только в ней. Если познакомиться поподробней с тем, в каких условиях жил и творил Грин, за условными чертами формы в его произведениях можно угадать реальные черты действительности и многое «выпрямить».
Грин ненавидел социальный строй дореволюционной России, строй, против которого он боролся, который его безжалостно преследовал. Неприятие «свинцовых мерзостей» толкало его в мир прекрасной мечты, сказки, но, думается, что та самая действительность, которая так сурово обошлась с писателем в его юности, явила Грину и немало достоверно прекрасного: острые ситуации, сильные характеры, радость борьбы, товарищеское самопожертвование, все то, чем богата жизнь профессионального революционера.
Эстетические нормы и отношения нового общества выражены в оптимизме гриновского творчества: добро всегда побеждает зло и побеждает в результате борьбы честных, верных и смелых людей; мечта сбывается — становится реальностью. Красота души нового человека, воина армии добра, — вот пафос гриновских «сказок».
Истоки «условности» Грина в самой действительности, что особенно наглядно проявляется в его ранних рассказах, написанных в те годы, когда складывался и мужал гриновский стиль.
В ранних произведениях Грина соотношение условности и жизнеподобия «замаскировано» в значительно меньшей степени, нежели в поздних. Когда обращаешься к грвновскому творчеству 900-910-х годов, на ум приходят слова В.Г. Короленко, одного из первых издателей и редакторов молодого писателя. Короленко еще в 80-е годы жестоко высмеивал узколобых поклонников натурализма: «В этом отношении мне невольно вспоминается «критик Оболенский», — писал он Н.К. Михайловскому. — «Разбирая Чехова и меня, он нашел в первом существенное достоинство в том, что он умеет показать нам извозчика, улицу, дачу. А мой существенный недостаток, за который мне страсть достается, он видит в том, что мне необходимо для произведения впечатления вести за собой читателя в тюрьму, ссылку, в сибирские леса, в якутскую тайгу. Я думаю, что достоинство Чехова главное в том, что он вообще умеет изобразить правдиво, а не в выборе тем. Г. Оболенский не подумал, что для меня, напр., тюрьма, ссылка, якутская юрта, так же реальны, как для г. Оболенского переезд на дачу на извозчике». Грин, как и Короленко, на собственном опыте познал те жизненные обстоятельства, которые казались литературным «кабинетным гомункулам» необыкновенно экзотическими. Думается, что можно усмотреть определенную близость исходных позиций Короленко и молодого Грина.
Условность в произведениях Грина уживается с чисто реалистическими ситуациями, деталями, характерами. Так написан «Капитан Дюк», один из лучших рассказов Грина.
«Впоследствии некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и Гертон», сообщает Грин в «Автобиографической повести». Он долго жил в Крыму, объездил весь юг России, плавал матросом на Черном и Средиземном морях. География его вымышленных городов — южное приморье, черноморское побережье, а быт и нравы, и характеры его героев — матросов, рыбаков, путешественников — очень напоминают быт и нравы населения тех же мест. Об этом не раз говорили исследователи творчества и биографы Грина. А как же повлияла на художественную манеру Грина его жизнь на севере России, где он провел детство и юность, а также отбывал ссылку в Архангельской губернии (8 ноября 1910 года — 15 мая 1912). Живя в Пинеге, Кегострове, Архангельске Грин много писал, к этому вынуждала не только необходимость заработка: наступала творческая зрелость.
В годы ссылок и скитаний на нелегальном положении Грин отрешился от литературного ученичества, искал свою непроторенную дорогу «в искусстве, искал новые литературные формы. Именно тогда начал он разрабатывать свой «романтический» стиль.
Молодой Грин печатался в разных журналах, также и в «Русском богатстве», редактор которого В.Г. Короленко был непримиримым врагом декадентства, но очень охотно поддерживал талантливых, прогрессивно настроенных писателей. Короленко не побоялся поместить рецензию на книгу Грина, когда тот жил под чужой фамилией (март 1910 года), не боялся он и публиковать рассказы ссыльного. В «Русское богатство» Грин посылал произведения вполне реалистические, в которых использовал материал из быта поднадзорных. «Редакторские книги» Короленко, где он регистрировал поступавшие к нему на отзыв рукописи, содержат несколько записей о рассказах Грина. Так, в книге пятой мы читаем: «Ксения Турпанова» А.С. Грина. Из жизни ссыльных: жена уехала за реку в город. Муж (любя ее) — встречает Мару, девицу без предрассудков, приглашает к себе... Возвращается жена... Муж в отчаянии — жена уезжает». Запись сделана в январе
Но и в некоторых «условных» произведениях, написанных в 1910-1912 гг., действие происходит в обстановке реально изображенной северной природы, а сюжет и переживания персонажей отражают то, что видел и чувствовал сам Грин в ссылке. Да и не только в рассказах, написанных в ссылке или вскоре после нее, а во всем творчестве Грина немало отзвуков архангельских впечатлений. Прежде всего это следует отнести к характерам героев Грина, романтически благородных борцов со злом. Не только среди «простых людей» — матросов, лесорубов, рыбаков — находил Грин романтические цельные, стойкие характеры, но прежде всего среди товарищей революционеров и политических ссыльных. В те же годы, что и Грин, в Архангельской губернии отбывали «гласный надзор полиции» многие известные деятели революции. «Приключенческие» обстоятельства экспроприаций, побегов, маскировок, аресты, допросы были хорошо известны Грину по собственному опыту и из жизни его товарищей ссыльных. Образ человека, ставшего жертвой грубого насилия и произвола, временно «отлученного» от общества, постоянно встречается у Грина в ранних рассказах. Такой герой мужественно переносит испытания, сохраняя в самых ужасных положениях человеческую душу и достоинство. Его хотят «проучить», превратить в молящее пощады животное, а он не сдается. Злодей Эниок покинул Гнора на необитаемом острове («Жизнь Гнора», «Новый журнал для всех», 1912, № 10) в надежде, что тот погибнет или одичает, но Гнор остался человеком. В одиночестве он боролся за свою человеческую сущность.
«— Я хранил себя, — сказал Гнор, —для лучших времен.
- Вы также брились?
- Да.
- Чем Вы питались?
- Чем случается.
- На что надеялись?
- На себя.
- И на нас также?
- Меньше, чем на себя. — Гнор тихо, но выразительно улыбнулся, и все лица отразили его улыбку. — Вы могли встретить труп, идиота и человека. Я не труп и не идиот». Этот разговор отражает переживания самого автора и многих ссыльных, сохранивших душу борцов в условиях, которые должны были ее убить. Тюрьма, ссылки, вынужденное одиночество — это не уход от жизни, а иная форма борьбы. «Моя жизнь не доиграна. Это старая хорошая игра, ее не годится бросать с середины, и дни не карты; над трупами их, погибающих здесь бесценных моих дней, клянусь вам затянуть разорванные концы так крепко, что от усилия заноет рука и в этом узле захрипит ваша шея!». В рассказе «Жизнь Гнора» условны обстановка и сюжет, но психология главного героя разработана реалистически.
Мотив побега из тюрьмы или с каторги, постоянный в творчестве Грина, несомненно автобиографичен. В начале
Но в данном случае ничего отрицательного Короленко не написал, и можно думать, что «Зимнюю сказку» нельзя было печатать по цензурным соображениям.
Другой рассказ о побеге «Сто верст то реке», написанный в
Приведем несколько примеров: студент Я., водворенный в город Мезень 18 марта 1906 г., «скрылся неизвестно куда», о чем и доносит губернатору Мезенский исправник 23 февраля 1907 г. Я. бежал в Швейцарию, и только в
17 апреля
«По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло после продолжительного бездождия часто загромождалось мелями».
В этом рассказе почти отсутствует «условная» лексика: расстояние измеряется русской мерой — верстами, а не милями, как принято в «морской литературе»; деньга там — рубли (лодку покупают за сто рублей), а не фунты, как обычно в поздних рассказах Грина; рыбак пьет водку, а не виски.
В рассказе все русское, и не просто русское, а северное: в хижине охотника висят лыжи, абсолютно не нужные в окрестностях «привычного» южного Зурбагана. Но особенно примечательны пейзажи: довольно точное описание, если не Северной Двины и ее берегов, то какой-то другой северной реки.
«Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимается, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий высокий лес...». Всякому знакомы песчаные береговые оползни и отмели русских северных рек. Оживленные теперь места во времена Грина были безлюдны. «Ослепительно. Но дико и пустынно было вокруг: бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад — такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени». Этот отрывок не преувеличение — такой и была земля Архангельской губернии времен ссылки Грина. Писатель, живший в «вынужденном обстоятельствами плену», выражает свое восприятие окружающей его первозданной дикости.
Тонкие, пастельно-нежные краски северной природы Грин передает очень точно:
«Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухал, напоминал дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула утка; тишину осенил быстрый свист крыльев, а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным, одиноким звуком речной ночи».
Смена освещения, рассветы и закаты — все в рассказе не похоже на картину тропиков.
«Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Крепкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блестела лучистая паутина». Нежность и тонкость, приглушенная яркость цвета, света и тени. «Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли». И Грин находит удивительно точные метафоры, передавая особые оттенки красоты русской, северной природы.
Даже такой сюжетный ход — герои, прячась от грозы, попадают в избушку охотника — не выдуман Грином. Погода в северных областях за день меняется несколько раз, грозы с ураганным ветром и ливнем — постоянные гости на берегах Двины: «Междуцарствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая тюросль затрепетала как в лихорадке, листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец, скакнула жутким синим огнем гигантская, молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню». Можно узнать характерные признаки грозы в северном хвойном лесу, затопленном потоками холодной воды и освещаемом «холодным, как дождь светом».
Почти все рассказы 1910-1912 гг. — рассказы о любви и самоотверженности. Дези («Позорный столб») и Гелли («Сто верст по реке») становятся подругами отщепенцев, выброшенных обществом, разделяют их тяготы, нужды, испытания. Кармен долгие годы ждет пропавшего без вести жениха («Жизнь Гнора»). Эти характеры взяты Грином из действительности. Самоотверженную преданность женщины, следующей за любимым в изгнание, Грин видел ежечасно. С ним в Архангельскую ссылку поехала молодая жена Вера Павловна, с которой он только что обвенчался. 18 августа
Годы революционной борьбы, тюрем и ссылок не только эпизод биографии Александра Гриневского: впечатления, полученные тогда, наложили свой отпечаток на его произведения, придавая романтически окрашенным сюжетам и характерам, эмоциям и психологии, обстановке и пейзажам художественную достоверность.
Свою меру условности, ту меру, которая не противопоказана реалистическому искусству, Грин нашел в ранних рассказах, написанных под непосредственным воздействием революционной действительности России.
А.В. Луначарский сказал: «Революция смела, она любит новизну, она любит яркость. Традиция сама по себе не опутывает ее, как опутывает театральных людей старой веры, и поэтому она охотно принимает те расширения реализма, которые, в сущности, вполне лежат в ее области. Она может принять фантастическую гиперболу, карикатуру, всевозможные деформации, если эти деформации не преследуют какой-нибудь, в сущности говоря, никем еще не объясненной, мнимой цели, которую ставил себе футуризм, а служат именно выявлению внутренней реальной сущности путем художественного преображения»28 — эту формулу Луначарского можно отнести и к творчеству Александра Грина.
Л-ра: Филологические науки. – 1968. – № 6. – С. 96-103.
Произведения
Критика









