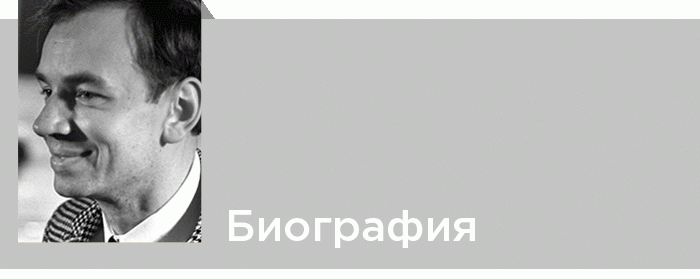О лирике Вознесенского
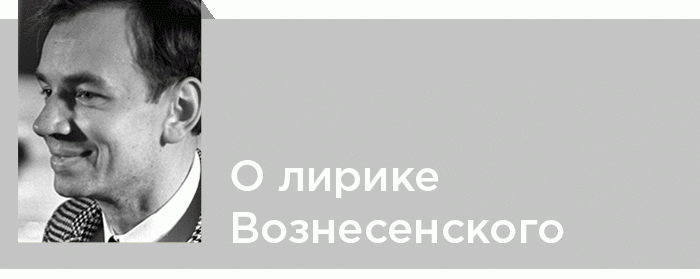
Давно замечено, что стихи истинного поэта выигрывают, когда их собирают вместе.
Представим невозможное. Никому не известный автор лет эдак двадцать назад приносит в редакцию стихотворение, начинающееся такими строчками:
Табуном рванулись трибуны к стартам,
В центре — лошади, вкопанные в наст.
Ты думаешь, Вася, мы на них ставим?
Они, кобылы, поставили на нас.
На меня поставила вороная иноходь.
Яблоки по крупу — ё-моё...
Умеет крупно конюшню вынюхать.
Беру все финиши, а выигрыш ее.
Королю кажется, что он правит.
Людям кажется, что им они.
Природа и рощи на нас поставили.
А мы — гони!..
Вероятнее всего, редактор, которому попало бы это стихотворение, не стал бы читать дальше, решив, что над ним хотят подшутить. Однако ход времени необратим, и описанный случай, конечно, невозможен. Зная, что стихотворение принадлежит нынешнему поэту, мы лучше понимаем движение его прихотливых ассоциаций, а в общем контексте творчества Андрея Вознесенского оно и вовсе получает законное место.
Вообще, он умеет заставить читать и слушать его стихи. Можно, скажем, назвать поэму «Август», но с таким заголовком ее в газетной полосе заметит не каждый. А вот назови никому не понятным словом «Зарев», и читательский глаз непременно за него зацепится. А в специальной сноске можно пояснить, что это тот же «август», только устаревшее название — из языческого календаря. Вы хотите оспорить эстетическую значимость такого приема? Пожалуйста, но поэт так или иначе достиг цели: произведение его прочитано, а главное, в конце концов, то, что оно оставило в вашем сердце.
Некоторые считают, что Андрей Вознесенский поэт рассудочный, холодный. Один из опытных критиков даже пытался объяснить его популярность тем, что читателям, дескать, нравится разгадывать всяческие словесные головоломки (как-никак интеллектуальное занятие!). По-моему, такое объяснение наивно. Правда, среди произведении поэта есть стихи очень разных температур и многосложная метафоричность мышления (то, что С. Наровчатов назвал «необузданностью фантазии») не всегда соответствует масштабам переживаний.
Но, чтобы разобраться обстоятельно в его творчестве, начнем обо всем по порядку. Кто-кто, а Вознесенский не может пожаловаться на невнимание критики. Кажется, начиная с первых его шагов в поэзии, за ним пристально следили, подбадривали при удачах и уличали в оплошностях, учили и наставляли, ругательски ругали и превозносили до небес. Но, по-видимому, это тот случай, когда обилие написанных о поэте статей не свидетельствует о глубине его изученности. Ведь до сих пор наиболее значительные стихи и поэмы его получают, как правило, на только противоречивые оценки, что иной раз может показаться — они относятся к разным произведениям. Поэма «Оза» удостоилась, например, прямо противоположных отзывов С. Рассадина (считают это произведение насквозь искусственным) и А. Марченко (посвятившей ему настоящий критический панегирик). Оба отзыва были опубликованы на страницах журнала «Вопросы литературы» в сопровождении коротенькой вступительной заметки, в которой редакция обещала в дальнейшем вернуться к обсуждению поэмы и высказать о ней собственное, надо думать, более объективное мнение. Но это обещание, вероятно, забылось в наплыве других журнальных дел.
В последних статьях о Вознесенском также сохраняются и апологетическая, и разносно-отрицательная линии критики. Лучшей в этом множестве материалов, по-моему, остается небольшая статья С. Наровчатова «Разговор начистоту», хотя и ей все же — пусть самую малость — не хватило авторской доброты.
Почти все полемисты, пишущие о Вознесенском, при многих расхождениях согласны, по крайней мере, в одном: что этот художник совершенно своеобразен и не похож ни на кого из сверстников. Это, разумеется, нужно считать ценным качеством в том случае, если поэт сохраняет прочные связи с духовной жизнью народа, с лучшими традициями отечественной поэзии. Но как раз по этому пункту о Вознесенском высказано наибольшее количество разноречивых мнений. Примечательную характеристику художественного стиля Вознесенского дал его литературный собрат Евтушенко: «Мир предстает в стихах Вознесенского таким, каким он может представляться лишь при стремительном движении, — смазанно мелькающим, хаотично смещенным. Он переполнен врубающимися в глаза и тут же исчезающими яркими цветовыми пятнами, на секунду выхваченными, как лучом прожектора, лицами». Однако, по мнению Евтушенко, при таких скоростях поэту «некогда чувствовать», и далее он высказывает пожелание, чтобы тот поубавил темп. Напротив, один физик (а в спор о Вознесенском включились и физики) даже ставил поэту в заслугу то, что он якобы решительно рвет с классическими традициями, демонстрируя сугубо современные, скоростные методы образного мышления. Однако, несмотря на новизну поэтической формы, Вознесенский все же начинал не от нулевой отметки, а творчески воспользовался достижениями старших поэтов — Вл. Маяковского и Н. Асеева, а кое в чем — В. Хлебникова и М. Цветаевой. И, несмотря на собственные задиристые декларации («Нас мало. Нас, может быть, четверо»... и т. п.), его объединяют со своим поэтическим поколением прочные духовные узы. А. Урбан еще в 1962 году справедливо отметил, в частности, что «... у Цыбина и у Вознесенского в поисках художественной выразительности много общего». Верно и другое наблюдение критика: «Пристрастие к определенным темам, мажорные ритмы, пестрота и буйство красок отражают известные свойства характера лирического героя. В сущности, это общее качество за немногим исключением присуще всей поэтической молодежи. Это общность поэтов примерно одного поколения».
В первых книгах Вознесенского бодрая энергия действительно бьет ключом. Он преклоняется перед гениальными созданиями мирового искусства, однако и тут для него нет неприкасаемых авторитетов. Он неравнодушен к сочным, плотским краскам, и молодое жизнелюбие диктует ему задиристый лозунг: «Долой Рафаэля! Да здравствует Рубенс!». Поводы для восхищения жизнью он находит где угодно. Вот с восторгом живописует пеструю суету грузинских базаров. Вот подсмотрел сценку в сибирском селе — разгоряченные после бани женщины нагишом бросаются в снег. И сразу рождаются пламенные сравнения: «Эти плечи, эти спины наповал, будто доменною печью запрокинутый металл!». Вот на городской улице увидел лоток с арбузами — новая художническая радость. Так обаятельна жизнь, что даже околыши милицейских фуражек выглядят совсем не грозно — напоминают сочные ломти арбуза. «Мы противники тусклого. Мы приучены к шири — самовара ли тульского или ТУ-104», — поясняет поэт свое жизнеощущение. Характерно, что в этих радостных декларациях, олицетворяющих полноту бытия, совершенно естественно возникают образы из мира науки и техники, они полноправно входят в жизнеутверждение поэта-урбаниста, их художественное освоение не представляет для него никаких затруднений. Эта особенность уже с первых шагов отличает стихи Вознесенского от ранней лирики Цыбина и других поэтов сельской традиции. Однако и в порывах юношеского патриотизма, и в оптимистической вере в жизнь оба названных художника идут параллельными путями. Перекликаются они и в лирических темах. Но, быть может, именно в сходных сюжетах особенно сказывается разный жизненный опыт, ярче выступает различный склад их дарований.
На грузинском базаре Вознесенский видит прежде всего великолепное сочетание красок. Яркое скопище людей, щедрые дары природы — ведь это прекрасный объект для художника! «Да здравствует мастер, что выпишет их!» — восклицает автор, и стихотворение звучит общим гимном творчеству, красоте и изобилию жизни. Цыбин глубже знает народный быт и, рисуя свою цветастую среднеазиатскую «Ярмарку», он тщательно детализирует, намечает психологию отдельных персонажей картины. В другой раз он рассказывает о том, как Зарину-свет Петровну просватали, подробно выписывает портреты старого жениха — «главбуха» и отца невесты. Для него, скажем, небезразлично, как последний, обжираясь на свадьбе, «об штаны вытер селедку». Тут в каждой черточке сквозит конкретный, живой характер.
В произведениях Вознесенского действуют, как правило, менее колоритные люди — их образы приближаются к символам, они — прямые выразители определенных идей. У него выходит замуж не глупая молоденькая девчонка, а сама «молодость», лишенная каких-либо характерных примет, — автор дает лишь одну трогательную, щемящую деталь: «...дрожишь, как будто рюмочка на краешке стола». Но эта деталь создает нужную лирическую атмосферу: нагнетает жалость к нелепо ошибающейся молодости, отвращение к происходящей свадьбе-сделке. Все второстепенное удалено из текста, полутонов нет, а главные детали необычно укрупнены, выдвинуты на передний план. Живопись весьма своеобразная, необычная — резкостью ведущих цветовых тонов, контрастными решениями она сродни плакату, а напряженной духовностью — древнерусской иконе. (Вообще Вознесенский прекрасно чувствует наше древнее искусство. Не зря же его кумир — Рублев, и обширная поэма посвящена строителям храма Василия Блаженного).
В такой стилистической манере есть, конечно, и свои издержки, но есть и неоспоримые преимущества: большая обнаженность и заостренность мысли — то, что нередко называют «интеллектуализмом формы» (А. Урбан). Можно принимать или не принимать эту манеру, но важно ее правильно понять и не требовать от художника того, от чего он сознательно отказался ради успешного решения других задач. Лирик по преимуществу, он, по-видимому, не умеет лепить реальные характеры, зато он лирик особенный — необыкновенно яркий, громогласный. И хотя жизнерадостный задор был преобладающим настроением его первых книг, уже в них чувствовался обостренный интерес поэта к борьбе добра и зла, к трагическим узлам жизни.
Как поэт субъективный, с мощным воображением, Вознесенский внешне не очень зависим от впечатлений окружающей жизни. Подобно многим сверстникам, он взялся за историческую тему, занялся поисками родословных «корней». Однако обратился не к тому близкому прошлому, которое прямо или косвенно (через семейные предания) находится в пределах досягаемости личного опыта. Он встряхнул седую старину — эпоху Грозного — и создал яркую, феерическую поэму о строителях Покровского собора. Впрочем, поэт не ставил перед собой задачи воспроизвести легендарное событие в его точных бытовых подробностях (эта задача была на два десятилетия раньше блистательно осуществлена Д. Кедриным). История для поэта — лишь эффектный фон, на котором он разворачивает грозный карнавал своей условнообобщенной драмы, заостряет непримиримый конфликт между «художниками всех зремен» и антинародной, тиранической гластью. Внешне, по своему условному колориту, посвященное старине произведение Вознесенского сущностью нравственного конфликта оказалось жгуче актуальным. Самой своей масштабностью и вольнолюбивым пафосом оно оказалось созвучным нашему грозному времени. Поэма «Мастера» сильна напряженным трагизмом и несомненным жизнеутверждением. И хотя поэт погружает своих героев во тьму, которая «безгласна, как лик без глаз», хотя говорит о страшной казни зодчих, все-таки оптимистические поты берут в его поэме верх над мрачными. И мы верим обещаниям лирического героя продолжить славные дела пращуров, воплотить их мечты в создания прекрасных городов будущего.
Впоследствии Вознесенский заметно отошел от юношеского оптимизма. С годами он все глубже проникался сознанием, что боль, страдания, несправедливость — отнюдь не только удел наших предшественников, так же, как и жестокое тиранство еще не отошло в область предания с эпохой Грозного. Параллельно создаются стихи о русской старине, в которой также немало было всяческого уродства и социального гнета. Рождаются и иные произведения — о тяжком наследии, полученном нами от прошлого, о том темном и низком, что еще не изжито, не преодолено в нашем быту. Вся эта разнокалиберная лирическая россыпь стихотворений объединяется под единой «крышей» — поэт называет новую книгу «Сорок отступлений из поэмы «Треугольная груша».
Семь лет назад, когда впервые появилась эта книга, я написал статью, в которой довольно резко отозвался о гражданской позиции автора. Однако упоминаю об этом, разумеется, не для того, чтобы покаяться в давнем грехе. Многие из упреков, сделанных поэту в то время, я мог бы повторить и теперь, хотя с расстояния времени для меня стали очевиднее и сильные стороны произведения. Это книга страшных и мрачных, подчас фантасмагорических образов. Тут и бьющиеся, «как белые прожекторы» , ноги избиваемой женщины, и отрубленная голова царской любовницы, «точно репа с красной ботвой», и сам поэт, разрезанный на семнадцать частей фотообъективами американских соглядатаев. Автор слишком потрясен увиденными ужасами, слишком торопится захватить ими читателя, даже не успев основательно в них разобраться. Куда девались его неукротимая энергия, ненасытная, казалось, жажда жизни. Они сменились совсем иными настроениями. Преобладающий тон в книге — оскорбленная гуманность, тоска, уныние.
Страшные картины из «Треугольной груши» все-таки кажутся довольно скромными и сдержанными по сравнению с тем разгулом мрачной фантазии, с той вереницей кошмаров, которые автор развернул в своих последующих книгах. В «Эскизе к поэме» он, например, подробно, до натуралистических деталей, рисует самоубийство молодой нашей современницы — возлюбленной лирического героя. В ее уста вкладывается пронзительный монолог, однако мотивы самоубийства (а следовательно, и характер героини!) остаются все же не вполне проясненными (так — общее недовольство жизнью, роковой «треугольник» в любви, вероятно, особая ранимость души). Честный это человек или просто слабый, благородный или способный на бесчисленные компромиссы с совестью? Об этом приходится гадать, поскольку поэт избегает необходимых художественных разъяснений. Что же тогда он считает нужным сообщить читателю? В двух словах это можно выразить так: она страдала. Да, героиня, без сомнения, глубоко страдала — слова ее монолога раскалены неподдельной болью,— и этого, по-видимому, вполне достаточно, чтобы завоевать исключительное внимание поэта. И для него уже неважно, сколь объективно весомы мотивы, побудившие женщину расстаться с жизнью (раз погибла — значит, весомы!), как неважно и то, что судьба безвестной москвички разительно напоминает трагическую участь заокеанской кинозвезды, чей предсмертный монолог помещен в «Сорока отступлениях...». Между тем в «Монологе Мэрлин Монро» драма самоубийства была гораздо содержательнее и яснее. Это была вполне социальная драма. Из отрывистых реплик-выкриков героини встала судьба модной актрисы Запада, вынужденной эксплуатировать свою красоту и талант в угоду распутному обществу. В ушах читателя остается ее отчаянный крик «Невыносимо!», многократно повторяемый в стихотворении. Острота переживания подкреплена здесь и пластическим изображением тяжких, унизительных для героини сцен. Стихотворение звучит как неотразимое обвинение социальному строю, который довел человека до гибели.
Но что же опустошило, заставило полностью разочароваться в жизни героиню «Эскиза»? Туманные намеки на то, что «невиноватые виноватен мало что говорят читателю, так же, как трогательные советы любимому быть «повнимательней» со cледующей» возлюбленной. Во второй главе в отрывке, из которых состоит «Эскиз», воспроизведен кошмар текучести всего сущего — сонный кошмар, показывающий тяжелое психическое состояние героя, но опять- таки мало проясняющий саму трагическую ситуацию:
...Квадраты расползаются в эллипсы.
Никелированные спинки кроватей текут,
как разварившиеся макароны.
Решетки тюрем свисают,
как кренделя или аксельбанты...
Поэт не желает своевременно остановить этот всеобщий распад — это уже хаос, с которым не борются, хаос торжествующий. Поэт с увлечением и редкой изобретательностью прибавляет к изображению все новые детали. Для чего? Очевидно, вся картина— циклопически развитая метафора, зрительное воплощение трагической формулы: «Все течет. Все изменяется. Одно переходит в другое». Так трансформируются в сознании заснувшего героя мысли о необратимости бытия, о бренности всего сущего, о невозможности вернуть утраченное. Однако и в этом с виду сюрреалистическом изображении трагически мечется и бьется живая искра человечности. Новый кошмарный сон героя (или уже самого автора?) — клетка лифта обрушивается на голову. Клетку на боль — это сигнал опасности, необходимый каждому живому организму. Однако стоило ли бы жить, если бы вся жизнь состояла из одной бесконечной пытки? В «Больной балладе» крик «Больно!» становится для Вознесенского чуть ли не рыцарским девизом, с которым он собирается кинуться на битву с мировым злом. Если утрата чувствительности — смерть, то ощущение боли — уже означает жизнь. Но эта истина колеблется в стихах поэта где-то на грани превращения в свою противоположность: жить — значит непрерывно чувствовать боль, мучиться. Это и дало повод Вл. Турбину назвать Вознесенского организатором поэтического треста «Главболь». Язвительное определение, но, увы, ему не откажешь в меткости!
Думается, что эта особенность приобрела своеобразное преломление от возрастающего интереса к различным уродствам мира. Если он рисует деспота, то непременно такого, чтобы мороз по коже. С головой казненного в руке. («По лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл».) Если изображает любовную драму, то непременно что-нибудь болезненное, исключительное. Десятиклассник и учительница, старый свекор и юная сноха. Даже... человек и дерево. Да, в «Балладе-яблоне», желая возвеличить чудо зарождения новой жизни, поэт использовал весьма натуралистические образы, и это не столько очеловечило яблоню, сколько спустило с высоты человека. Ведь главным образом по линии биологической сближаются человек (герой стихотворения молодой летчик) и яблоня, тело которой тяжелеет от людского семени и которая «врыта по пояс, орет и зовет удаляющийся самолет».
Но, разумеется, не подобные промахи определяют главное в сложной поэзии Вознесенского, иначе ее мало кто любил бы и знал в нашей стране. Необыкновенная, порой кричащая яркость его красок чаще, конечно, не мешает, а напротив, способствует лирической выразительности образов. Поэт любой ценой стремится привлечь читателя к главным болевым точкам времени, показать множественность человеческих страданий в сегодняшнем мире и тем самым способствовать их устранению. Он не говорит в стихах — он кричит в огромный рупор, он показывает не рисунки или картины, а огромные плакатные полотнища. Как потерпевший кораблекрушение, он разводит на берегу высокий костер и бегает вдоль морской кромки, размахивая руками: заметьте же наконец! Обратите внимание! «SOS!» «SOS!» И надо отдать ему справедливость: эта позиция имеет все преимущества перед поэзией прописных истин и безоблачного благополучия. Однако дело ведь не только в том, чтобы указать (многократно увеличив) на существующие уродства, но и заставить человека бороться с ними, мобилизовать его волю. А в этом поэт нередко оказывается слабым или слишком полагается на духовную вооруженность читателя.
Для понимания задач, которые ставит Андрей Вознесенский перед искусством, характерны его раздумья в «Диалоге Джерри, сан-францискского поэта». Стихотворение это кажется несколько длинноватым (все оно построено на вопросах и ответах — с обнаженной логической последовательностью), однако завершается сильным, энергичным четверостишием, очевидно, выражающим творческое кредо автора:
В ответы не втиснуты
судьбы и слезы.
В вопросе и истина.
Поэты — вопросы.
Неоспоримая привилегия подлинного искусства — ставить перед современниками актуальнейшие вопросы действительности. Однако усматривать задачи поэзии только в этом столь же односторонне и узко, как уравнивать жизнь с ощущением боли.
Вознесенский, конечно, пишет не о советском поэте, однако ведь и на Западе прогрессивная эстетическая мысль давно пришла к выводу, что «...искусство изобретено и создано как раз для того, чтобы помочь распутать то, что запутано...» Приведенные слова принадлежат, между прочим, знаменитому Сент-Беву — мир услышал их ровно сто тридцать лет назад. «Можно накопить помимо своей воли много наблюдений, сгущенных до концентрации яда,— писал французский эссеист,— но чтобы получить пригодные для искусства краски, их надобно разбавить и растворить. Вот эти-то краски вы и должны предъявить публике, а яд держите для себя. Ваше мировоззрение может быть и мрачным, и убийственным, но искусство не должно быть таким никогда». Разумеется, мы не обязаны следовать за каждым поворотом мысли Сент-Бева, но нельзя не разделить гуманистического пафоса его раздумий об искусстве. Современники трагического и прекрасного XX века, наследники Пушкина и Белинского, мы, конечно, тоже не примиримся с тем, что поэзия порой хочет сложить с себя гражданский сан учителя жизни. Впрочем, по-видимому, и сам Вознесенский почувствовал нравственную недостаточность своей художественной формулы, потому и заслонился от критики фигурой американца Джерри.
Ловлю себя на том, что, желая объективно разобраться в талантливой и сильной поэзии Вознесенского, больше спорю с ним, чем отмечаю бесспорные достижения. Почему это? Почему вообще, любя или не любя его, удивляясь ему, с ним постоянно спорят? Быть может, своеобразие его поэтики заставляет видеть и его достоинства и недостатки как бы сквозь сильное увеличительное стекло — они резко бросаются в глаза и поэтому становятся поводом для острых дискуссий? К яркой экспрессивности зрительных образов тут надо прибавить чрезвычайно сложную, богатую звуковыми ассоциациями музыкальную и ритмическую организацию стихотворений; вспомним, например, такое излюбленное средство, как выделение одного ведущего понятия, слова в качестве музыкального лейтмотива произведения: «Тишины хочу, тишины... Нервы, что ли, обожжены? Тишины... чтобы тень от сосны, щекоча нас, перемещалась, холодящая словно шалость, вдоль спины, до мизинца ступни, тишины...»
Изощренность поэтического слуха проявляется у Вознесенского и в умении сталкивать, сближать очень разные по смыслу слова, если они имеют сходное звучание, при этом автор извлекает самые неожиданные художественные эффекты.
Знаменосец боли и заступник всех страждущих, Вознесенский проявляет острый интерес и к тем, кто является виновником человеческих бед, к различным носителям зла. Отрицательный герой определился в его лирике довольно давно, с первых же книг. Речь идет не об отрицательных персонажах вообще (таких во все годы в стихах Вознесенского было немало: это и подонок, избивающий женщину, и преступный «снохач», сплавивший на Колыму собственного сына, и распутная генеральша, и ее циничный приятель-шофер, и всяческие другие уроды). Речь идет об основном противнике — нравственном антиподе лирического героя. Такой противник, мне кажется, появился впервые у Вознесенского в стихотворении «Гость у костра». Это в общем-то жалкий человечишка, похожий на того мещанского «слизня», который внушает неистощимую ненависть Владимиру Соколову. Однако он имеет некоторые отличительные особенности, присущие исключительно ему. Он не только одет в современный костюм и усвоил внешне интеллигентные манеры, он умеет имитировать напряженную духовную жизнь. Он даже неглуп, читает популярные брошюры, пользуется научной терминологией. Однако верхи знаний нужны ему лишь для того, чтобы живописнее задрапировать свою нравственную пустоту. И хотя в его речи звучит самоосуждение — «Я мразь!», однако это всего лишь риторический прием, рассчитанный в конечном счете на сочувствие. Ведь по его логике весь род человеческий состоит из подобных же «мразей». Кстати, он охотно говорит от лица поколения, пытается характеризовать свое время («век атомных распадов»), претендует на определенную философию.
Ничего подобного нет в лирике сверстников Вознесенского. Цыбинский Сенька ведет бездумное, амебообразное существование и вполне им доволен. «Калымная жизнь» да легкие победы над сельскими девчатами, и он вполне счастлив. Недалеко ушел от него и «беспечный слизень» Вл. Соколова, вросший в собственный дом с фикусами и погрязший в накопительстве. Внешне герой Вознесенского резко отличается от своих литературных собратьев. Он вроде бы удручен падением нравов, вроде бы скорбит душой — но что же, мол, делать? «Се ля ви»!.. И он охотно оправдывает нравственную нечистоплотность, становится на точку зрения убежденного подонка — смеется над всем чистым и возвышенным:
Мы поколенье лишнее.
Мы — маски без лица.
В любви мы знаем лифчики И никогда — сердца.
Стареющие женщины Учили нас любви,
Отсюда горечь желчная И пустота в крови.
В эпоху изотопов.
Реакторов, пластмасс Я, человек, затоптан,
Я — мразь. А вы — про Марс...
Итак, проповедь беспардонного цинизма выписана сильно и энергично. Пожалуй, еще ни один из подонков, обличаемых другими поэтами, не выступал с такой откровенной программой пошлости, с ее развернутым «теоретическим» обоснованием. Перед нами, конечно, не «лопоухий» Сенька и не лощеный сноб Соколова, а, так сказать «гад» по призванию и убеждению. Для верности поэт еще сделал его иеговистом, то есть и врагом политическим. Однако можно было и не выжигать на лбу героя дополнительного клейма: лицо враждебной идеи и без того обозначилось вполне определенно. И пусть положительная героиня стихотворения — некая Лялька — ведет себя довольно истерично, пусть излияниям пошляка она ничего не умеет противопоставить, кроме лихорадочных оплеух (а потом разражается слезами), все же Вознесенскому удалось главное — точно схватить образ мысли современного циника, уловить характерные особенности его демагогии. Этот поэт, как немногие из сверстников, уже в ранней юности умел распознать деятельность враждебного интеллекта, показать чуждую философию жизни. В дальнейшем бредовые идеи иеговиста найдут отклик и в зловещем карканье ворона из поэмы «Оза», и в рассуждениях некоего экспериментщика (оттуда же), представляющего собой дальнейшую ступень нравственного падения. Теперь это уже не какой-то определенный человек, а просто олицетворенная идея. Мы даже не видим его внешности. Зато расплывчатая демагогия иеговиста приобрела законченно-научную видимость, и его сентенции звучат почти афористично: «К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот»... Так формулирует свои мысли интеллектуальный варвар, вооруженный последним словом науки. «Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору... Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента». Кто же это? Злобный шизофреник, дорвавшийся до небывалой власти? Его фигура фантастична, но разве XX век не дал многочисленных примеров, когда во главе государств оказывались бешеные маньяки?
Поэт нагнетает зловещие краски, мрак в его поэме сгущается, разверзается хаос: «Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде, за индустриальной революцией следовало нашествие Батыя». Но это хаос социально значимый, художественно обусловленный: ведь по сути тут высказывается та же мысль, что и в стихотворении Винокурова, напоминавшего, что пепел Освенцима появился в мире гораздо позднее заверений якобинцев о том, что «кончилась на свете эра зла». Стихи обоих поэтов направлены против беспечности, закрывающей глаза на реальную опасность, только Вознесенский пишет в присущем ему эксцентричном, фантастическом ключе. Ведь самый главный ужас, по его мнению, заключается в том, что «этого никто не замечал», что все шло своим обычным порядком — «люди продолжали идти целеустремленной цепочкой», то есть оставались равнодушными к катастрофической перетасовке истории.
Рассказ об апокалипсических ужасах и зловещей фигуре экспериментщика — только небольшая часть поэмы «Оза», и она слабо связана с другими главами. Кстати, Вознесенский, любящий вообще подчеркивать в названиях своих произведений их незавершенность, эскизность («Эскиз к поэме», «Сорок отступлений из поэмы», «Плач по двум не родившимся поэмам» и т. д.), не поколебался здесь в определении жанра. Однако поэма (даже современная), с нашей точки зрения,— это все-таки некое повествовательное целое, а не разрозненные, хотя бы и блистательные частности. И если мы признаем «Озу» поэмой, то вынуждены будем отметить, что она неслажена, растянута, что некоторые звенья лирического сюжета (необходимые по ходу повествования) неизвестно почему из нее выпали, а иные имеют множество необязательных вариаций. Короче говоря, в общей оценке «Озы» пришлось бы согласиться с Наровчатовым: «Она и впрямь похожа на литературный ребус, расшифровать который стоит немалых усилий даже писателям-профессионалам». Но если воспринимать «Озу» как книгу лирических стихотворений, далеко не равных по силе и не в одинаковой мере завершенных (по-прежнему немало «эскизов»), она, несомненно, интересна и содержательна, а некоторые стихи достигают великолепной остроты мысли. Но если так — в названии ли дело?
Поэт последователен. То, что ом ненавидит и отрицает в других, внушает ему ненависть и в себе. Эта нравственная собранность, это торжествующее в конце концов бескомпромиссное чувство справедливости радуют — в них видится залог дальнейшего творческого движения автора «Озы»... Но, кажется, я уже высказал почти все из того, что побудило меня взяться за настоящую статью, и пора подвести некоторые итоги (я, правда, намеренно не коснулся здесь недавних усилий Вознесенского по созданию экспериментальных стихов «только для глаз» в противовес «чтецкой поэзии» — стоит ли серьезно разбирать то, что сам автор склонен считать «обыкновенной хохмой»?).
Когда я пытаюсь определить, чем же мне близка поэзия Вознесенского, за что я люблю ее, несмотря на многие несогласия с автором, мне неизменно приходит на ум образ молодого ученого, нет, не физика, а скорее биолога, работающего с опаснейшими разновидностями бактериологических ядов. Он самоотверженно пробует на себе действие различных вакцин: мудрено ли, что сам порой заражается болезнями, против которых борется? Волею судеб Андрей Вознесенский в нашей гражданской поэзии оказался одним из самых талантливых разоблачителей идеологии капиталистического антимира. Но по складу своей личности и дарования — он далеко не Ювенал. Лирически вбирая в себя кричащие противоречия и диссонансы ядерного века, поэт переживает их как перипетии «глобальной грозной драмы» (Я. Смеляков), но не всегда точно чувствует ее классовые акценты. В мучительных поисках истины (а лирический поэт обязан лично выстрадать чужие судьбы и слезы).
Л-ра: Дружба народов. – 1970. – № 8. – С. 245-256.
Произведения
Критика