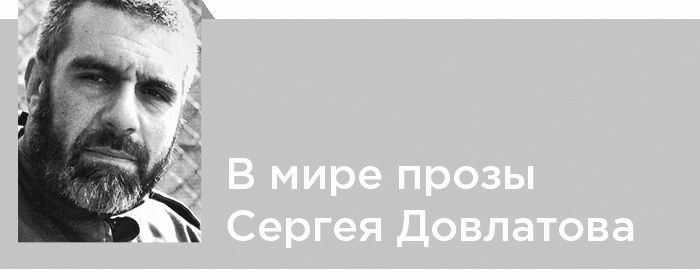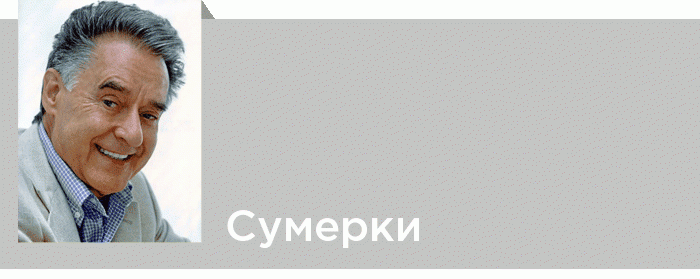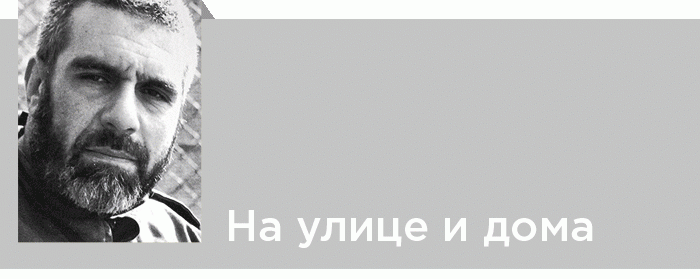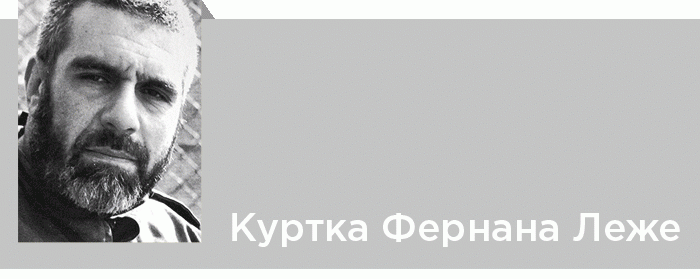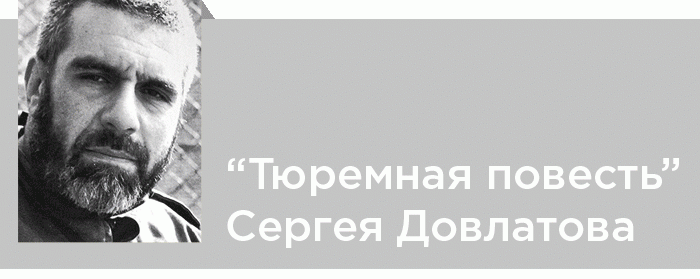Свободен от постоя

В. Камянов
— Вы поэт? — спросила женщина.
— Пишу кое-что между строк, — застенчиво ответил Буш...
«Компромисс»
Специально, я, конечно, не подсчитывал, но, прикидывая на глазок, рискну утверждать, что в лексиконе Сергея Довлатова на одном из первых мест по частоте употребления — слова «хаос» и «беспечность». Соединив то и другое, получим правдоподобную характеристику настроения, которое преобладает в этой прозе, — «беспечность посреди хаоса».
К неуютному понятию «хаос» туг отношение сугубо деловое — как к привычному руке строительному материалу, когда лучшего взять негде. Притом у хаоса налицо два псевдонима — «порядок» и «регламентация». Только первоначальное имя не позволяет забыть о себе, заглушая псевдонимы. В такой, например, ситуации.
Случилось республиканскому активу провожать в последний путь местного сановника («Компромисс»). Обряд хорошо обкатан, и как будто неоткуда ждать помех. Однако уже возле разверстой могилы, когда ораторы зашуршали текстами речей, вдруг обнаружилось, что покойник в гробу не тот: недоработка служителей морга. Конфуз. Но не срывать же мероприятие. Решено: что начато, культурно завершить, а как стемнеет, не беспокоя перепутанных мертвецов, поменять над ними надгробия. По-тихому. К такому всплеску алогизма и запредельщины мы, впрочем, отчасти подготовлены, ибо герой-повествователь от нас не скрыл, что в погребальную неразбериху он угодил по случайности (пришлось подменить сослуживца) и распорядители церемонии принимали его за другого. Какое-то бесчинство подстановок при соблюдении чинного ритуала и покорности правилам. Или закономерность нам почудилась?
Тогда проследуем все за тем же близким автору героем-рассказчиком на мемориальные объекты Пушкинского заповедника («Заповедник») и послушаем девицу-экскурсовода. Она недовольна тем, что из экспозиции изъят портрет Ганнибала, изображающий, как выяснилось, генерала Закомельского. «Значит, правильно, что сняли?» — задан ей вопрос. «Да какая разница — Ганнибал, Закомельский... Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят».
Вообще, по наблюдению рассказчика, на вопрос о подлинности экспонатов тут отзываются с долей раздражения: дергают, мол, по пустякам. Нет, мы вряд ли ошиблись; хаотичность подмен при соблюдении ритуалов и впрямь занимает прозаика — как черта советского уклада. Следует ли отсюда, что эмигрант третьей волны и диссидент 70-х Довлатов ловит манипуляторов за руку? Нет. Кого-то ловить, пригвождать, карать за кривду ему попросту недосуг (да и судьей он себя не числит).
Перед ним — диковинная, сдвинутая с оси реальность, где людской взгляд упирается в декорации, за которыми неведомо что. Так как же соотносится декоративное с натуральным?.. За десятилетия своего дуроломства режим успел порушить многовековые установления, деформировать или искрошить душевные структуры. Окончательно ли? Тоже вопрос не праздный — как и про сочетание натуры с подделкой. Но, подступаясь к ним, писатель не принимает стойку тяжеловеса, скорее парит по-спринтерски, едва касаясь беговой дорожки.
Для этой прозы вполне естественно ее графическое членение на малые фрагменты (критика уже проводила параллель с «Опавшими листьями» В. Розанова). Она словно и не настаивает на таком своем качестве, как внутренняя слаженность, не намерена выставлять укором разброду в умах и душах соразмерность своей архитектоники. Она, то есть проза, мозаична, слабо подчинена дисциплине сквозного сюжета. Ну а мир-то кругом нас (и в нас) иной ли? Так будет и ей разрешено своевольничать, искривлять повествовательное русло, сворачивая поближе к жанру дневниковых заметок или непринужденной писательской эссеистики, свободно течь от одной веселой сентенции к другой, от застольного афоризма (культура застолий у Довлатова, с обильными возлияниями и высокоградусным красноречием, — отдельная тема) к афоризму, допустим, погребальному.
Только при вольном и как бы рассеянном нраве довлатовской прозы есть в ней подтянутость, строгость словесной выправки. У Иосифа Бродского явно был повод противопоставить речь Довлатова нашей общенациональной речевой стихии. В статье «О Сереже Довлатове» («Независимая газета», 24.9.91), приуроченной к первой годовщине смерти прозаика, Бродский пишет: «Мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более — кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность». Преодолевая стихию словесной вязкости, не давая фразе обрасти гирляндами придаточных, Довлатов и диссидентствовал в своих повестях по преимуществу стилистически. Колченогому и мутноглазому новоязу он буквально врезал между глаз энергичную речевую синкопу, сжатую формулу-вызов (редко — идеологический, всегда — эстетический). Его лапидарная проза протягивает дальше традиции Зощенко и мастеров южнорусской школы. При том существенном различии, что на долю Олеши, Зощенко, Бабеля выпало обрабатывать, переплавлять в тиглях своей стилистики младенческий советский воляпюк, Довлатову — позднебольшевистское упадочное барокко. И стоит заметить: к речевым маразмам агитпропа он умеет отнестись с известной долей насмешливого — на ильфо-петровский лад — благодушия (поправишь ли дело горячностью?). Среди его персонажей есть более твердые пуристы.
Некогда довлатовскому повествователю, солдату действительной службы, довелось охранять уголовников. Послушайте, как он отзывается об их языке: «Речь бывалого лагерника заменяет ему все привычные гражданские украшения». «Лагерный монолог — это законченный театральный спектакль. Это — балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция», «Настоящий уголовник редко опускается до матерщины... Он дорожит своей речью и знает ей цену. Подлинный уголовник ценит качество, а не децибелы» («Зона»). Довлатовские уголовники — это гордые парни, которые брезгуют речевым пайком законопослушников, находя, что от него пахнет рабством.
Кажется, именно отсюда, из лагерной зоны, писатель вынес культ снайперски точного слова, строжайшей речевой дисциплины.
Но ведь здесь же, рядом с цитированными строками сказано, что советская тюрьма — «одна из форм тотального всеобъемлющего насилия» Неужели тема насилия тут не задета или задета вскользь? Вовсе нет. Взять хотя бы линию конфликта юного охранника с матерым вором в законе Купцовым. Очень уж раззадорило солдата-правдолюба чугунное упорство зэка, не согласного отрабатывать пайку. До того дошло — выволок Купцова на делянку, силком всучил ему топор: помаши! Хотя доведенный до точки накала зэк махнуть-то махнет, да не по солдатской ли ушанке? И что же? Топор взлетел, с хрустом опустился... на пальцы зэка. «Вот теперь — хорошо...» — произнес вор-саморуб. А дальше? Дальше — разброс лагерных сюжетов разного калибра и веса. Но ведь туг, на пространстве двух-трех страниц, уплотнено содержание обширной повести, не исключено — романа: линии характеров стянулись в драматический узел, ярость помножилась на ярость...
Верно. Только развертывать такой конфликт вширь, поворачивать и той и этой гранью будет кто-то другой. Довлатову достаточно обозначить его контуры, подвести к нему и протянуть дальше сюжетный пунктир.
Он здесь необходим, как скорость водному лыжнику, чтобы скользить, не зарываясь в волну, как быстрота смены кинокадров, при которой не дергается картинка на экране. Довлатов обходится без тщательной проработки коллизий, ибо главное его возражение расхристанности, одышливой дряблости нашего мира — упругая легкость и динамика стиля.
Без налета угрюмства относится писатель-диссидент Довлатов и к идеологии тех «раскормленных дядек», с виду — «разодетых пенсионеров», какие по праздникам красуются на трибуне мавзолея (книга «Чемодан»). Вступать с ними в прямую конфронтацию не значит ли по-солженицынски бодаться с дубом, неизбежно меняя интонационный регистр? Идеология «дядек» овладела многими умами? Да, так. Однако с каких же, спрашивается, времен ум сделался главнее нашей натуры? Не с новоязовских ли?..
Самую длинную мировоззренческую пикировку я нашел у Довлатова поближе к концу «Иностранки», когда главная ее героиня Муся укоренилась за океаном и подвергается любовным атакам эротического безумца по имени Рафаэль Гонзалес. Ему-то и пришлась по вкусу коммунистическая доктрина, азы которой он Довольно складно излагает. Хотя, по его сведениям, «Октябрьскую революцию возглавил знаменитый партизан - Толстой», впоследствии сочинивший «Архипелаг ГУЛАГ». Видно, еще не позабыв советскую логику, по которой нашим братьям по вере их невежество не в укор, герой-рассказчик сворачивает диспут, миролюбиво замечая, что его собеседник возвысился до уровня Плеханова и Чернышевского.
Вообще же, по Довлатову, идеология — гарант того самого порядка, в угоду которому номенклатурных почестей при погребении удостоился совсем не тот покойник. И необязательно идеология коммунистическая.
В «Филиале» рассказано о заокеанском симпозиуму русистов, по преимуществу — советских эмигрантов. При разбросе идейных платформ неизбежны взаимные выпады, пикировки. Может, и свалка. Свалка — это плохо: авторской улыбчиво-доверительной интонации трудно будет совладать с остроконфликтным содержанием. К счастью, обошлось. Атмосфера ожесточения понемногу развеялась. Даже сионист Гурфинкель и шовинист Большаков сколько-то уступили один другому. Обнаружилось, что люди сходной судьбы, выброшенные на чужой берег, плохо защищены идейной амуницией, под нею уязвимы, своим платформам не тождественны И как раз такое открытие — главный подарок симпозиума. И его участникам и читателю.
Идеология как униформа для умов почти не тревожит Довлатова. Не побуждает принять бойцовскую стойку. Иное дело — тот психологический раствор, где разведен концентрат непогрешимого учения. Брызги от такого раствора жгутся.
Вы любите Пушкина? — вопрос-рефрен, сопровождающий повествователя при обходе должностных лиц Заповедника, где он намерен поработать экскурсоводом. Хорошо спрошено. Вроде: «Пропуск у вас при себе?» А что есть любовь? К Пушкину, в частности... И удается ли ее выразить толчением казенных словес (про крепостничество, вдохновенные гимны свободе), которым встречают туристов здешние эрудиты?..
Вот уже и ортодоксальность не в чести, скрижали Учения запылились, рассеянный слушатель политинструкций как будто раскрепощен, свободен от постоя (если использовать слова Чехова). Но нет, казарменная выправка умов и душ трудно вытравима. Настой совкового стиля крепок. Не ради ли нейтрализации этой вот «крепости» герой-рассказчик с приятелями часто употребляют другую, измеряемую в градусах?
Обмен репликами из повести «Компромисс»: «Что же делать?» — «Не думать. Водку пить». Погрузить рассудок на дно стакана — тоже какой ни есть способ эмиграции нашего творческого интеллигента, сироты при живом (или чуть живом) отечестве.
Развеять печали сиротства помогает любовь. Но... Как ни привлекательна, к примеру, девушка Тася, однако со странностью: её знания о жизни отчего-то опережают саму жизнь. И получилась у рассказчика с Тасей любовь-тяжба. «Девушке импонирует нечто грубое во мне. Проблески интеллекта вызывают ее раздражение», — сразу догадывается рассказчик, которого Тасе отрекомендовали как боксера. «Проблески интеллекта» у боксера, кажется, грозят расшатать удобную для Таси модель мироустройства («Филиал»), Подобные модели не из казенного набора? Верно. А знание наперед и способ моделирования откуда?.. Вот тут и воздерживайся от выпивки!
Впрочем, отмечая у своих знакомых или подруг нездоровую полноту знаний, повествователь вовсе не считает свое знание о них полным. Ждет, чем они его удивят. А персонажи способны удивить серией импровизаций, выламываясь на какой-то срок из «портретных» рамок. Нет, не характеры тут сложны — чудят самоуправные людские души, которым ни лень, ни косность их обладателей не указ. Характеры же пестры и мозаичны, расшатаны внутренней смутой. Особенно это касается героинь. Послушные и женской природе, и аритмии нашей жизни, они плохо предсказуемы: покладисты и буйны, агрессивны и беззащитны, расчетливы и непрактичны, привержены строгому вкусу и вызывающе вульгарны, скромны и распутны попеременно. Автор же следит за их эволюциями с братским сочувствием и оттенком веселого недоумения, мало занимаясь заполнением пробелов и диалектикой переходов от крайности к крайности.
А души героев этой прозы подобны суденышкам среди хлябей, когда мотор заглох и руль заклинило. Бедствие? Авторский тон тем не менее окрашен мажорно. Можно допустить: не без влияния Пушкина.
В «Заповеднике» повествователь так отозвался о поэте: «Не монархист, не заговорщик, не христианин (знал ли Довлатов в своем эмигрантском далеке, что у него на родине многозвучье пушкинских строк некоторым новейшим исследователям хотелось бы истолковать в духе напряженной христианской проповеди? — В. К.) — он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом».
Последние слова удачно передают характер мироощущения самого повествователя — сочувствие «движению жизни в целом». Ему, кажется, изначально свободному от постоя, был хорошо слышен пушкинский камертон. И если в строках довлатовской прозы выныривает слово «хаос», то между строк (смотри эпиграф к этой рецензии) прочитывается иное — про неистребимость внутреннего человека, который, надо надеяться, выдюжит и под бременем почти неподъемного «Порядка». Так ли? Энергией, веселым напором своего стиля эта проза отвечает утвердительно.
В тех вещах, которые не только написаны в Америке, но отчасти и про Америку, мажора, даже «беспечности» прибавляется. На стадии сюжетных развязок есть и вставные увеселительные «номера», заметен налет эстрадности. Возможно, на душе у повествователя полегчало. Не исключено и другое: намолчавшийся у себя на родине писатель уступил диктату зарубежного книжного рынка, где привыкли ценить хеппи-энд.
Но насчет некоторой облегченности концовок — это попутно. Сегодня предстоит оценить сам феномен довлатовской прозы, вернувшейся к нам из чужих краев, услышать художника, чья образная система — вызов системе безобразной, и сам рисунок стиля, гамма интонационных, речевых красок — возражение стихии «тотального всеобъемлющего насилия».
Л-ра: Новый мир. – 1992. – № 2. – С. 242-244.
Произведения
Критика