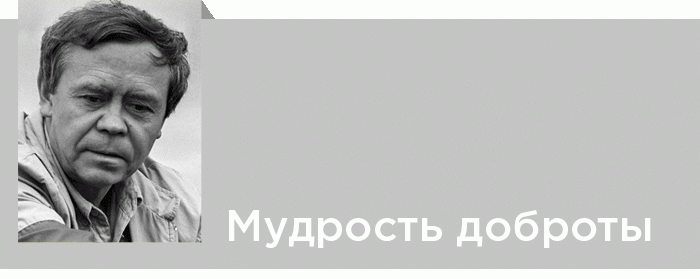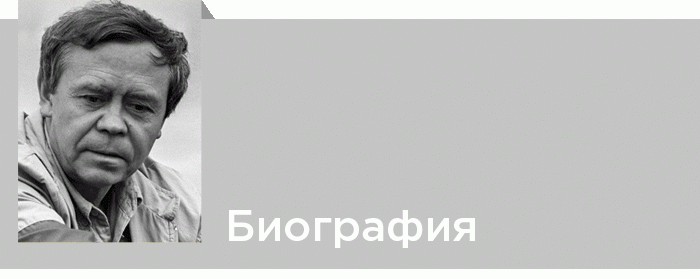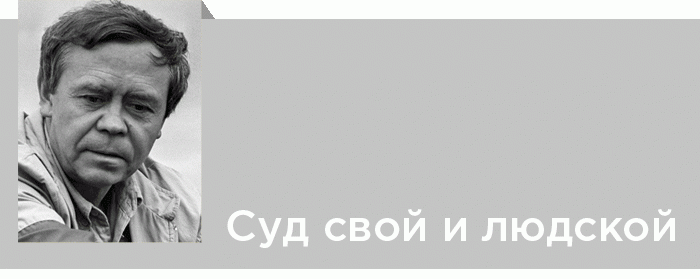«Меж небом и землёй...»

И. Дедков
Павел, сын Дарьи, самой старшей из матёринских старух, рассуждает так: «Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как живется, и плыть, как плывется, да ведь на том замешан: знать, что почем и что для чего, самому докапываться до истины. На то ты и человек».
Этих и других вопросов в повестях В. Распутина всегда доставало. Ими терзался сам автор, терзались его герои. От повести к повести вопросы разрастались, в «Прощании с Матёрой» им несть числа. Последние жители Матёры переживают тревожное, поистине вопрошающее время. Да и вся повесть о Матёре предстает если не вопросом, то вопрошанием. Помимо читателя она явно имеет в виду некий «нададресат» (М. Бахтин): то ли «суд истории», то ли другую, не менее высокую инстанцию. Ответы на некоторые вопросы заложены в самой повести, на другие ответа нет. Они обращены ко всем и уходят в пространство нашей общей жизни; желающие могут объяснить отсталым старухам Матёры, зачем строят плотины, почему образуются зоны затопления и что такое научно-техническая революция. Правда, объяснения такого рода иногда не могут быть ответом. Так, например, соображение о том, что кресты на кладбище, уходящем под воду, лучше срубить и сжечь, чтоб потом не всплыли, пугая туристов, никак не может умерить переживания людей, потрясенных осквернением «родных могил».
Некоторые из прозвучавших в повести вопросов нам знакомы. Их задавала еще старуха Анна («Последний срок»). Она пыталась понять, зачем жила, ради кого и чего, что имела и что теперь теряла? «Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением — мучительной радостью», «надо ли жаловаться, что она всю ее (жизнь. — И. Д.) отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей».
Главная вопрошающая, маящаяся душа Матёры — старуха Дарья. Мелькнувшая было мысль, что она похожа на Анну, опрометчива. Это совсем иной характер, хотя способ изображения в основном прежний (через высказывание персонажа — прямая речь, воспоминания и т. д.). Перед нами, прежде всего духовное, а не бытовое существование.
К этой старухе норовили прибиться все «слабые и страдальные», чувствуя в ней недостающую им силу, твердость, ясность ума, решимость. Есть какая-то мрачная истовость и суровая непреклонность в том, как Дарья отвергает многие обычаи и новшества современного мира. Уж не такие ли сжигали себя в раскольничьих скитах?
Вы, говорит она, нынешние, пуп свой «не надрываете», «бережете», а что «душу потратили — вам и дела нету!». Не машины на вас, а вы на машины работаете, «не вижу я, ли чё ли!». Вы даже «ребятенка» на бегу рожаете, и народу вашего в городах, как муравьев или мошек.
Вопросы Дарьи столь же пристрастны, пронзительны и не хотят знать никакого предела.
Все спрашивала и спрашивала себя Дарья, «всё тщилась отвечать и не могла ответить. Да и кто, какой ум ответит?». Да еще на столько крайних, вечных вопросов сразу, будто всю жизнь накапливала их, таила, переполняясь сомнениями, и все чего-то ждала. Теперь, выходит, ждать больше нечего. Последние дни и ночи Матёры — разор кладбища, сжигание опустевших изб — для Дарьи, для других старух все одно, что «край света», конец всему. Чувство вины перед мертвыми — отцом, матерью, сыном, чьи права и покой нарушены, измучивает ее. И вместе с этой болью, со всеми безответными, томящими душу вопросами растет горькое недоумение: я ли это жила здесь и зажилась?
Мысль об ускользающем смысле, о судьбе, что идет «не своим ходом», а словно бы кто-то ее «тащит» и «тащит», оказывается в повести одной из самых настойчивых, «...все вижу, а понять, что к чему, не умею...» Даже Павел, еще не старый, крепкий человек, совхозный бригадир, задумывается: он это или не он живет на белом свете, и ему «нередко приходится вспоминать, что он живет, и подталкивать себя к жизни».
Что это? Утрачен вкус к жизни? И смысл этой «мучительной радости», открытый Анне, простой и вечный смысл, дарующий нам силы, недоступен этим людям? Или Дарья, старая русская крестьянка, ищет какой-то другой смысл и прежнего ей мало? И потому-то она все ругает неправедную, машинно-железную жизнь, невесть куда спешащую, и отталкивается от нее и пугает ею.
Немало говорит-рассуждает Дарья в повести, немало насказано ею про все на свете, нет, совсем не темная она старуха, проницательного, скептического, можно сказать, ума: все опасности мировой цивилизации углядела, и правда в ее словах есть. Вот только нетерпимости, жестокости в ее голосе что-то много, словно судит и приговаривает нас, хотя зареклась («Я чё?! Не мне людей судить»), хотя сама же говорила о «загордевших»: «Люди про свое место под богом забыли... И нечего нам сильно много на себя брать. Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить будет». Словно хворь «гордыни» коснулась и старой Дарьи, и не потому ли затуманился основной смысл жизни, ее живого продолжения и роста, и она даже заторопила к концу зажившуюся старость («Нету пользы — слезай, приехали»). Слышится порой в речах Дарьи знакомое: «Смирись, гордый человек!» Но много ли того смирения, приятия жизни в ней самой?
Как поверить, что эта 80-летняя русская крестьянка, поднявшая шестерых детей и трех уже потерявшая, доживала свое без мира в душе, без выстраданного, спокойного сознания: своя жизнь — своя краса?
Мы чувствовали, какая жизнь за плечами старой Анны; в той повести даль, где страдала и набиралась сил ее душа, она хорошо проглядывалась.
Позади Дарьи видна ли даль? Ход ее судьбы, судьбы ее детей и мужа едва обозначен. Что же было в ее жизни, всегда ли ей казалось, что живет она не по своей воле, каким было ее место в прежнем материнском мире? Ничего этого мы не знаем. Нам открыто только сегодняшнее, прощальное, едва ли не сиюминутное, и предстоит поверить в такую Дарью с ее вопросами и сомнениями прежде всего через ее слово, поверить монологам ее ума и души, ее страстным обличительным проповедям.
Поверить вроде бы легко. Мысли Дарьи свободно текут во все стороны, и ничто не затрудняет их движения, но это-то, может быть, и вызывает сомнение. Они оказываются единственно-значительными, как бы объявленными всем и нам, возникшими вне серьезного диалога и какого-либо противовеса, и поэтому в чем-то искусственными, не берущими в расчет никакой другой правды. И как ни принимай близко к сердцу иные упреки Дарьи, все равно чувствуешь, что писатель временами нагнетал их, и чем больше нагнетал, тем меньше оставалось в них естественности. И все дальше отодвигалась желанная истина.
Но В. Распутин сделал все, чтобы мы поверили: так говорила Дарья. Он искусно воспроизвел устную речь Дарьи, да и других матёринских старух, сохранив словарь, напев, сам выговор. Эта речь звучит и выглядит, например, так: «Я, девка, и об етим думала... Надумь другой раз возьмет, дак все переберешь. Ну, ладно, думаю, пущай я такая... А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Мы все сёдни есть, завтра нету...» Писатель убежден, что в такой речи характер не прячется, а наоборот — виден, и своеобычность, незаемность, нестертость народного ума и слова тоже видны, проявлены, как важный признак личности, ее достоинства.Это так и есть, но всему своя мера и край. И невольно замечаешь однажды, что перед тобой мелькнул «перевод» писательской мысли о бедах мирового прогресса на язык старой сибирской крестьянки.
Уже замечено кем-то: у В. Распутина в каждой повести (исключение «Вниз и вверх по течению») последний срок. У Кузьмы, чтобы собрать деньги для Марии, у старухи Анны, чтобы повидаться с детьми. У Настёны, чтобы надеяться на чудо и потерять надежду. И, наконец, у старух и стариков Матёры, чтобы попрощаться с родной Матёрой и отплыть к неизвестным, пугающе новым и чужим берегам.
Писатель верит: «Истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните». Последний срок — это время обнаружения подлинного в человеке или подлинного человека, если человек действительно «не един» и «немало в нем разных, в одну Шкуру, как в одну лодку собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег...»
Однако заметим, что вряд ли во всей остальной жизни, происходящей вне «прощания и страдания», мы обречены иметь дело с неистинным человеком, с его масками, «земляками». И точно так же нельзя поручиться, что какой-нибудь из «земляков» не захочет вставить свое лукавое словцо даже в минуту прощания. И все-таки в последний срок душа человека на самом деле виднее, чем обычно, и «выказывается» много полнее и прямее, и не только в разговорах и рассуждениях.
В конце повести на Матёру опустился густой туман, скрыв от нас последние слова ее героев, а заодно и их будущее. Но прежде чем это случится, мы многое увидим и переживем вместе с Дарьей, Настасьей и ее Егором. Характер и душа Дарьи откроются в своей естественной глубине и правде через событие, от которого-то и всполошится самая главная Дарьина тревога и забота; и не выговорить ее предстоит, а найти какой-то выход — просить прощения, искупать вину. Санитарная очистка кладбища перед затоплением — вот это событие. С его изображения и началось в повести движение собственно художественной мысли.
Вся картина неожиданна, но по сути обыденна: так сгребают на дворе в кучи мусор, чтобы сжечь. Но чем обыденнее все это, тем страшнее: здоровенные мужики в брезентовых спецовках, чужие, как пришельцы; сваленные как попало кресты, оградки, пирамидки с фотографиями; холмики оголенных могил. Смешалось необходимое и кощунственное; государственной надобностью заслонясь, забыли спросить разрешения у хозяев острова, деревни, кладбища. Забыли, что обо всем надо советоваться и договариваться по-людски.
Свершается вокруг хорошо обдуманное, сто раз обсчитанное, не новое дело, и если Матёра «на электричество пойдет», то ничего тут сверхобычного нет. Тем более что в городе и поселке для матёринского народа прибережены новые, удобные квартиры: жизнь вздрогнет, потомится и продолжится.
В тот день Дарья словно повредилась в уме: она живет теперь «меж небом и землей», между двух деревень — той, что догорала у нее на глазах, и той, большой и безмолвной, отцов и дедов, что лежала поодаль, пугающе оголенная. И как бы ни относило в сторону авторской волей ее мысли, поглощена Дарья одним: своим прощанием. Прощаться для нее — просить прощения у старших, что не защитила их последнего пристанища. Однажды представится Дарье, как сходит она в свой род, и собираются для суда над нею все, кто сошел раньше ее, и выстраиваются огромным «многовековым» клином — «все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами». Они говорят, что «она, Дарья, оставила их без надежды и будущего». И больнее всего слышать ей мальчишеский голос умершего сына.
Для рационального, практического ума все это старушечьи глупости и фантазии. Для В. Распутина это — духовное состояние, которое невозможно не уважать. Невозможно не ценить. Матёра дорога Дарье не только потому, что велика привычка, не только красотой своей. Матёра дорога и необходима ей, как родина ее рода, как земля, где жили, а теперь лежат ее «братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше». Это благоговение перед старшими, их трудом и вкладом в общую жизнь предстает естественным корнем высокой нравственности. Бессовестно было бы укорять Дарью за то, что ее нравственные понятия имеют религиозный оттенок — такая у нее судьба, такой опыт, такое устройство души. Важно, что в этой старой крестьянке живет бесценное чувство человеческой связи и, какими бы сомнениями ни наделил ее автор, она как кольцо в той вечной цепочке жизни, о которой однажды думает. Цепочка эта продергивается и продергивается временем, но кольцо не разжать, не нарушить.
Иногда ей кажется, что до нее доносятся голоса: «Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь?» И Дарья собирает избу в последний путь — подмазывает печку, моет полы, стирает занавески, белит, украшает. Провожая избу, прощаясь с ней — чистой, пахнущей пихтой и травами, вглядываясь в ее «скорбный, отрешенный, застывший лик», она молится в пустой, жуткой тишине почти безлюдной материнской ночи, расставаясь заодно со всем, что оставляла на острове.
Эта оглядка на добрую, как бы оберегающую человека силу, славно подталкивающую его к должному, правильному, согласному с давним непроверенным распорядком человеческого бытия, ощутима по всей повести. Не приходилось Дарье никогда прежде прощаться с родным домом и провожать его, но Дарья словно бы знает, как это должно быть, догадывается, обряжает избу, будто человека. И сердобольная Настасья перед отъездом протапливает на прощанье печь, чтобы стоял в избе теплый жилой дух, и разговаривает напоследок со всякой вещью. Справляя последние свои деревенские дела, эти старухи хотят, чтобы все исполнялось и завершалось по совести и по душе, подразумевая, что у души и совести есть общие, старые законы, восходящие к опыту, разуму и заветам предков, всего рода, а не то чтобы у каждого поколения и человека свои.
Однако переживания матёринских старух буднично неизбежны. Если страшиться таких печалей, то в мире ничего нельзя трогать, передвигать, строить. Это как бы запланированные прогрессом слезы, тем более, что слезы — не кровь. И все-таки В. Распутин прав, что рассказывает об этих печалях и слезах, потому что за ними не личная слабость, не временное, преходящее огорчение, а прощание с целым миром, вековым бытовым и трудовым укладом, с долговременным порядком жизни. Оплакивая избы свои, «родные могилы», остров свой ненаглядный, эти старухи, а вместе с ними писатель прощаются со старой русской деревянной деревней, исчезающей в водах времени.
Наверное, не случайно так высоко берет в своих вопросах-вопрошаниях Дарья, обсуждая едва ли не все нынешнее человеческое жизнеустройство, пытаясь постичь тайное тайных земного существования. Уже одно это вводит частный случай с Матёрой в контекст нашего исторического времени с его экологическими проблемами, с острым беспокойством о дальнейших путях цивилизации, о приобретениях и потерях современного человека.
Недаром также это реалистическое повествование временами приобретает символико-аллегорический оттенок, опираясь на ключевые образы обобщенного, сгущенного смысла, придающие истории Матёры оттенок мифа или предания.
Припомним «царский листвень» — огромную лиственницу на поскотине. Старые люди смотрели на дерево с почтением и страхом: слишком давно оно стояло и не брали его ни грозы, ни гниль, а на нижнем его суку не раз обрывались горемычные человеческие жизни... Доберутся и до «царского лиственя» порубщики-пожогщики, но никакие их орудья не справятся с его сказочно-твердым стволом. Согласно поверью, этим деревом остров крепился к речному дну, к «одной общей земле», и пока стоит оно — стоять и Матёре. И поверье не ошиблось, хотя и горький обрело смысл: «выстоявший, непокорный листвень» так и уйдет вместе с Матёрой под воду, не поддавшись чужой силе.
Останется с островом и его Хозяин — маленький зверек, «чуть больше кошки». Что за Хозяин, объяснено так: если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин, чтобы «все видеть, все знать, ничему не мешать». Но Хозяин этот плохо прижился в повести, да и на острове тоже. О его существовании жители Матёры и не подозревают, хотя хорош был бы домовой, если б никто не знал, что он есть. Домовые потому и есть, что шуршат, вздыхают, перебирают жерди на чердаке. Хозяина видит и слышит один автор: этот Хозяин — очень литературное существо. Иногда он вслед за Дарьей размышляет о заблудших человеках, иногда оглядывает свои владения и странным своим зрением видит, «как нарисованные, огоньки» или как «серебрилась» трава, как «стеклянно взблескивала» вода, как «со струнным» шуршанием катилась Ангара. И еще он видит сквозь стены и даже сквозь время. Конечно, «прощальный голос» Хозяина добавляет печали финалу повести, но в целом этот образ, призванный, вероятно, еще более одухотворить Матёру, помимо сведений, опережающих движение сюжета, мало что дает.
Внизу остаются прекрасное земное бытие этого острова, последний сенокос, последняя уборка хлебе и картошки, последние людные дни и вечера, когда после дружной прощальной работы — такое было у всех настроение — люди собирались вместе и пели. И пелось так, словно «не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе, — так свято и изначально верили они бесхитростным выпеваемым словам и так истово и едино возносили голоса». Глубоко сочувствуя волнению, с которым автор пишет эту и подобные картины романа, заметим все-таки некоторую литературность этого выхода в запредельные сферы, слишком уж условны эти возвышенные речения.
Выходит, случается, и такая «высота» стиля, и тогда, например, образуется некоторый разрыв между прямой речью Дарьи, весьма натуральной, и ее внутренними размышлениями, чересчур очищенными от ее обычного словаря, намеренно благостными.
Повесть о Матёре завершается густым туманом, окутавшим остров и реку. Заблудится и замрет, ожидая рассвета, катер, спешащий за старухами. А старухи, всполошенно глядя в окно, где «стоял мглистый и сырой, как под водой, мозглый свет и что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проносило густой слабой течью куда-то мимо, шепчутся, словно поверив в конец света, ощупывая и заново узнавая друг друга: «Это ты, ли чё ли?»
Туман рассеется, старухи покинут Матёру, но все это будет за пределами повести. Писатель обрывает повествование, ничего больше не объясняя и, видимо, желая, чтобы и в нас осталось тревожное и печальное чувство.
Туман скрывает от нас старую Дарью вместе с ее вопросами и обличениями, с ее памятью, верой и болью. Как она сама любила говорить: мир огромен, а люди «маленькие». Повторим слова С. Залыгина из статьи о В. Распутине: «Только гуманному обществу есть дело до отдельной личности, до ее переживаний, до ее судьбы...» Только гуманному обществу и гуманному писателю. Тем более что за отдельной личностью и судьбой встают многие людские судьбы, а вместе с ними и судьба вот такой Матёры — острова, деревни, ее людей... И есть о чем подумать, прежде чем Матёру совсем не скрыла высоко поднявшаяся вода...
Л-ра: Дружба народов. – 1977. – № 3. – С. 263-266.
Произведения
Критика