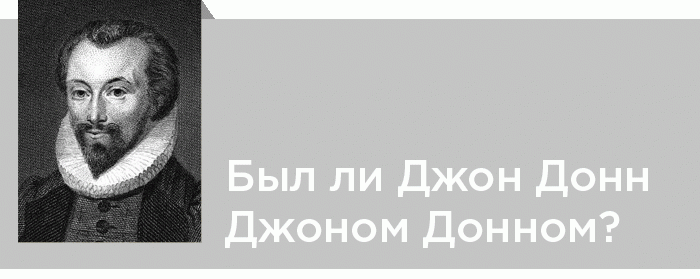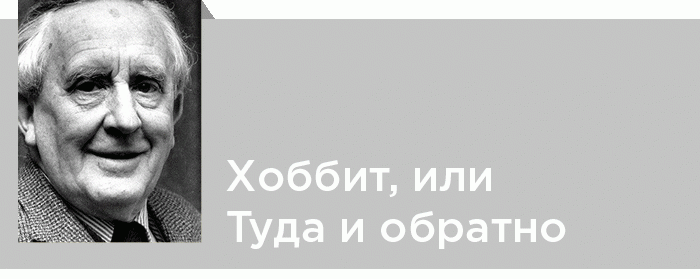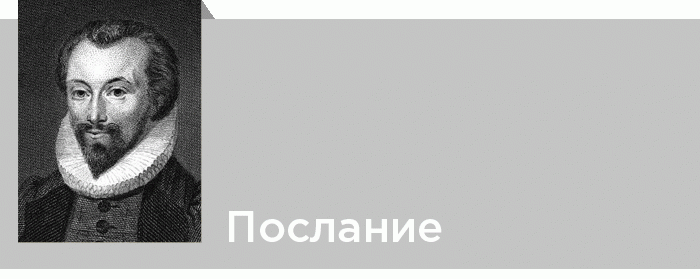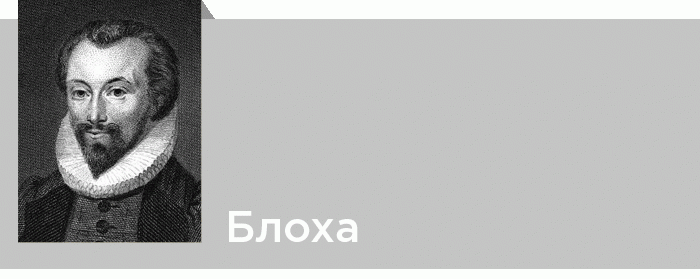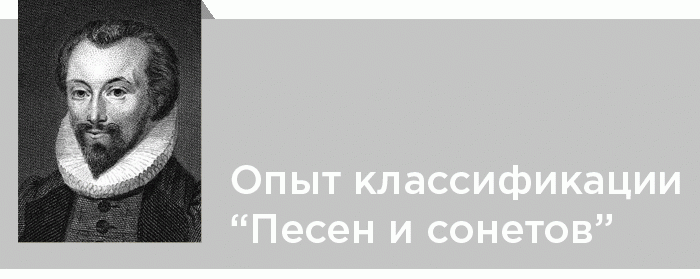Лирический герой Донна («Песни и сонеты»)
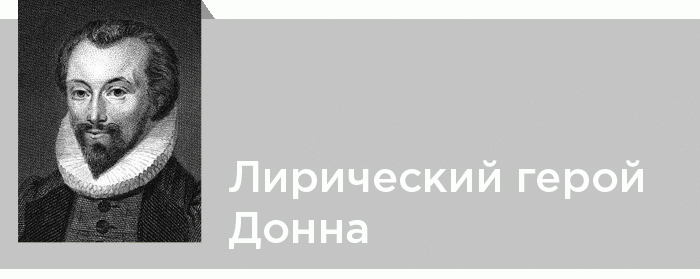
В.А. Хрипун
Донн, современник и участник больших исторических событий в своей стране на рубеже XVI-XVII веков, когда относительная устойчивость общественного настроения периода Высокого Возрождения сменялась его явным, открытым и активным движением предреволюционного периода, по-новому внес в поздневозрожденческую английскую поэзию элемент, который объективно требовал своего выражения. В то время, когда современнику казалось, что нарушена логическая связь явлений, что единственным организующим принципом движения мира — этих, по выражению Монтеня, вечных качелей — является амбивалентность.
Как поэт преимущественно интимного чувства Донн наиболее полно и всесторонне выразил свое кредо любви в цикле стихотворений «Песни и сонеты». Жанровая специфика цикла, казалось бы, должна была привести его, в силу господствовавших тенденций, в лагерь петраркистов и неоплатоников, а лирического героя записать поклонником Кастильоне. Однако поэту из наследия Петрарки импонирует эгоцентризм в измерении времени, который у него, тем не менее, не элиминирует реального бытия; в сопряжении мира реального и надреального видит Донн отличие своей точки зрения на человеческую любовь от неоплатонической.
Постановка проблемы любви по Платону открывала для людей Возрождения не однозначное решение. Одних привлекала своей языческой полнотой начальная ступень познания красоты, что вообще импонировало авантюрному духу эпохи, освободившемуся от аскетических оков средневековья. Они становились «чемпионами в любви» и были заклеймены Эшемом как воплощение дьявола. Другие, став на путь познания сублимированной совершенной красоты, уходили в мир ирреальных ценностей. Донн противопоставил им свою поэзию, где сделал попытку преодолеть дихотомию духовного и чувственного. Преодоление локальной гармонии каждой из крайностей путем раскрытия их одной в другую порождает эффект внезапности; в контрапункте возникают диссонансы, отражающие трагизм лирического героя, остановившегося перед пропастью, разделяющей мир действительный и мир мечты.
«Песни и сонеты» Донна написаны преимущественно в первый (1593-1600) и во второй (1601-1614) периоды его творчества. Хронологически часть сонетов написана в начале последнего периода.
Жанр «Песни и сонеты» был далеко не нов. Практика перевода итальянских и французских сонетов и собственные новации в этой области дали типичный для ренессансной лирики сиднеевско-спенсеровский вариант сонета, эпигонски сладостный стиль, статично-описательные методы которого сделались доминирующими. Помимо Сиднея и Спенсера, среди многих значительных поэтов этого стиля достаточно назвать Томаса Лоджа, Джорджа Чэпмена, Кристофера Марло. Отдал дань этому стилю в своих сонетах Шекспир. Однако Донн сознательно противопоставляет «сладостному» стилю современников свой стиль «мужской убедительной силы, тем самым явившись продолжателем «ясного», прямого, безыскусного стиля, всегда противоборствовавшего слащавости и поверхностной штампованной описательности стиля придворной поэзии. Отбросив риторическую шелуху, способную лишь затемнить смысл повествования, поэт использует из арсенала риторики лишь то, что служит основной цели его поэзии: точно и глубоко провести анализ психологии личности, пытающейся преодолеть дихотомию чувственного и духовного.
Сонеты и стихотворения цикла «Песни и сонеты» можно условно разделить на несколько групп (по настроению лирического героя). В первой группе представлены стихотворения, несущие вызов сторонникам неоплатонических условностей любви. В стихотворении «Community» лирический герой в первых строках экспозиции, представляющей риторическое общее место, в качестве посылки цитирует в пародийно-упрощенной форме тривиальное положение христианской морали о необходимости следовать добру и порицать зло:
Good we must love, and must hate ill,
For ill is ill, and good good still.
Однако смысл пародии раскрывается сразу же уличением догмы в уязвимости, поскольку, по мнению героя, природа человеческая непостоянна, как амбивалентна в сущности природа вещей:
But there are things indifferent,
Which wee may neither hate, nor love,
But one, and then another prove,
As we shall find our fancy bent.
Вторая строфа стихотворения конкретизирует и развертывает мотив сиикретичности добра и зла в сфере интимных отношений. Строфа разделена на антиномичные половины: в первой — предположительным условием провоцируется разделение женщин на добродетельных и порочных; во второй оно снимается уже в экспозиции провозглашенным положением об универсальности синкретизма и замыкает строфу тезисом тотального гедонизма:
Only this rests, all all may use.
После апогея следует снижение напряжения, вызванное необходимостью дополнительного логического убеждения в правомерности провозглашенного тезиса. «Добродетель» и «порок» женщин рассматриваются лирическим героем в онтологическом и этическом планах, причем, герой Донна акцентирует необходимость предпочтения принципа онтологического добра в поисках моральной добродетели, поскольку это предполагает неограниченное многообразие на пути познания истинной красоты. Легкий, почти напевный размер четырехстопного ямба снижает серьезность звучания доказательства, создает игривость настроения, служит оптимистическому утверждению земных радостей любви, столь близких ренессансному миру ощущений. Лирический герой, разрушая примитивную гармонию неоплатоников, не отбрасывает теорию любви Платона; он переносит акцент на первую, земную ступень познания любви. Стихотворение оканчивается риторическим вопросом, содержащим сравнение, которое в натуралистической образности воплощает утверждаемый гедонистический мотив. Этот же мотив звучит в «Любовь взаймы», «Пища любви» и других произведениях этой группы.
«Блоха» — своеобразный донновский стих, где лирический герой захвачен страстью придворной любовной игры. Композиционно стихотворение распадается на три части. Две первые строфы представляют собой модальный параллелизм: в обеих герой начинает с прямого обращения к любовнице, причем, императивная модальность служит побудителем немедленной реакции. В первой строфе он привлекает внимание женщины к насекомому:
Mark but this flea, and mark in this,
How little that which thou deniest me is, (причем, используя полисемию глагола «mark», любовник призывает подругу к осмыслению увиденного). Затем следует, очевидно, неожиданный для дамы, но характерный для придворного любовника — риторический прием сопоставления и следующего за ним, желательного для героя, вывода: блохе удалось сделать то, к чему пока безуспешно склоняет он свою даму. Пауза между первой и второй строфой заполняется симпатически ощущаемым намерением со стороны женщины. Ее останавливает внутренне лукавый, внешне трагический императив:
O stay, three lives in one flea spare.
Любовник, используя предыдущую логическую посылку, развивает цепь доказательств, долженствующих привести его к победе, и блоха (во всех случаях вызывающая безошибочную эмоционально-рефлекторную реакцию) служит лишь предлогом для достижения цели. С отчаянием (достаточно знакомым даме, чтобы поверить в его искренность) герой повторяет заклинание: пощадить три жизни, заключенные в драгоценном насекомом.
И вновь симпатическая пауза, разделяющая вторую и третью строфы и рисующая воображению читателя натуралистическую сцену, прерывается возгласом мужчины, имитирующим возмущение негуманным поступком. Любовница же, очевидно, получила облегчение, убедившись в том, что убив блоху, она ни в малейшей мере не повредила тем самым ни себе, ни партнеру по любви, вопреки его искусно построенным доказательствам о кощунственном триединстве в образе блохи. Однако герой Донна был бы недостойным наследником традиции античной лирики и был бы поднят на смех современником-кавалером, если бы не постарался, теперь уже с противоположной точки зрения (напоминая риторическое разрешение антиномичных ситуаций Овидием), доказать, что страхи дамы потерять честь также покажутся ей безосновательными и исчезнут, когда он добьется своего, как исчезли ее опасения после уничтожения насекомого.
Эта блестящая пародия лирического героя на себя в роли придворного кавалера внешне выражается в антагонистичности дидактической формы и крайне легкомысленного содержания. Внутренняя форма в бурлескном эффекте связи психологической тонкости ситуации с эстетически заземленным объектом вниманий соответствует основному мотиву пародии на придворную игру в чувство. Однако это совсем не говорит о сомнениях Донна относительно собственного критического отношения к жизненности неоплатонической гармонии. Напротив, инфляция любовного чувства в придворной среде служит лишь подтверждением несостоятельности изоляции неоплатоников, когда абстрактная «добродетель» рискует не совпасть с понятием онтологического добра в реальной ситуации придворных нравов.
С большой сатирической силой звучит этот мотив в «рыбацкой» песенке «The Bait» («Наживка»). Думается, что Донн сознательно противопоставил мораль этой песни утверждению неоплатоников, решительно отстаивавших принцип калокагатии на том основании, что красота есть всегда добро. Кроме того, «The Bait» представляется пародией на песню К. Марло «Страстный призыв пастуха к своей возлюбленной». В основе мотива обеих песен лежит гедоническое настроение, близкое спенсеровскому, не без кокетливого раскаяния прозвучавшее в сонете Елизаветы «Не докучайте мне!». Игривость настроения в песнях передается ямбическим тетраметром в четырехстрочниках со смежной рифмой. Мужская рифма поддерживает мажорное настроение. Однако на этом, включая и лексико-синтаксический параллелизм первой строки, необходимое формальное сходство заканчивается.
Влюбленный пастух Марло ведет свою возлюбленную полюбоваться условным пасторальным пейзажем, где пасутся стада и птицы поют мадригалы. Он же посвящает ей тысячи поэтических строк, стелет ей постель из роз, — то есть, совершает дежурный туалет пасторали. Соблазняя возлюбленную таким образом, герой суживает психологическую среду: другие пастухи лишь пасут стада или играют роль пассивных развлекателей, услаждая взор и слух дамы танцами и пением.
Стихотворение «The Triple Fool» («Трижды Дурак»), написанное в присущем Донну «резком» стиле. Если в суазории «The Prohibition» («Запрет»), напоминающем риторической изощренностью «The Bait», лирический герой хочет завоевать любовь женщины, то в сонете «The Message» предметом внимания становится чувство ревности по отношению к женщине, его покинувшей. Напряжение создается идентичной формой повелительного наклонения вербальных элементов в первой и последней строках строфы при их семантической антиномичности. Это стяжение антиномичных элементов, композиционно продуманное, создает эффект, характерный для поэзии барокко:
Send home my long stray'd eyes to me,
Which O too long have dwelt on thee,
Yet since there they have learn'd such ill,
Such forc'd fashions,
And false passions,That they be
Made by the
Fit for no good sight, keep them still.
Интересна логически строго построенная и внутренне напряженная композиция сонета. Напряжение кольцевой семантической композиции произведения создается трехвитковой пружиной, каждый виток которой также характеризуется напряжением, антиномично заостренным на первой и последней строках строфы. Локальный конфликт разрешается кодой, а общее напряжение поддерживается ритмико-синтаксическим параллелизмом. Являясь кольцевой в строго семантическом смысле, композиция «The Message», в смысле симпатического понимания, представляет собой спираль, вершина которой, логически повторяя настроение начала, получила дополнительный эмоциональный заряд.
Модуляции голоса лирического героя переживают резкие колебания: от умоляющих и полных упрека до страдальческих, анактеоновым плачем фонтана передающих свое несчастье, звучат нотки отчаяния, когда он, осознавая невозможность ответной любви, актом личной смерти, трагическим актом гибели своего лирического мира хочет разрушить мир жестокой действительности.
Лирический герой в смелой вызывающей манере бросает вызов богу любви; он хочет говорить с призраком любовника древности, который не мог еще испытывать тех унижений неразделенной любви, которые составляют неотъемлемый атрибут любви, провозглашенный современным порядком вещей в обществе. Он заявляет в рефрене о своем несогласии с существующим порочным характером отношений, когда один из партнеров по любви не испытывает искреннего чувства.
Герой призывает свергнуть несправедливого бога. Ниспровергнув божество, он тем самым очищает любовь для ее истинного в своей естественности божественного проявления. Антиплотиновская направленность этого стихотворения так же очевидна, как и ее антипетраркистское звучание.
В «A Lecture Upon the Shadow» лирический герой во время прогулки с любимой просит ее остановиться и выслушать его лекцию о философии любви. Со свойственной современнику привычкой к фактологичности доказательств он привлекает (в качестве иллюстрации основного тезиса о сложности любовного чувства) динамику тени и психологическую амбивалентность во взаимоотношениях любящих и их теней. (Stand still, and I will read to thee A lecture, Love, in Love's philosophy).
Логически парадоксальное смешение явлений разного порядка объясняется необходимостью создания того особого почти мифологического мира, где в пантеистическом всеохвате царит любовь. Этот мир в то же время социален: он включает кроме влюбленных множество других людей, которых следует остерегаться (сопряжение реального и нереального в расчете на необходимый эффект — прием барочного искусства, который получает широкое применение в метафизической поэзий). Это создает внутреннюю психологическую напряженность. Тени, которые шли до полудня впереди влюбленных, по мнению лирического героя, персонифицировали предосторожности, предпринимаемые влюбленными, из боязни, что окружающие могут заметить их интимную близость. По мере нарастания чувства ощущалась все меньшая необходимость в лицедействе — тени становились короче. В апогее любовного озарения, когда для любовников исчезает реальный мир с его страхами и сомнениями и они вступают в мир новых отношений, универсальным принципом которого, подчиняющим все явления действительности, становится ясность, влюбленные пребывают как бы в некоей новой экзистенции — они топчут свои тени. Проводя логически строго связь духовного порыва с чисто земным действием, поэт добивается эффекта большой впечатляющей силы. Психологическое напряжение процесса развития любви последовательно связано с неумолимой логикой цикличной деятельности Солнца («But, now the sun is just above our head, We do those shadows tread, And to brave clearness all things are reduced»). Афористичность строк:
That love hath not attain'd the highest degree,
Which is still diligent lest others see — это гимн идеалам гуманистической любви, признающей право и реальную возможность для человека достигнуть гармонии чувственного и духовного. Астрономически регламентированная цикличность движения Солнца параллельна жестокой и непонятной регламентации цикличности процесса любви; оба явления, внешне далекие друг от друга, связаны символической аналогией метафизического консейтизма. Функциональная роль теней в созданном героем лирическом мире лишена однозначности. Принцип амбивалентности, свойственный всем формам бытия, не считается с эгоистическим желанием личности. Лирический герой заканчивает свою лекцию антитетически построенной сентенцией, раскрывающей диалектику любви:
Love is a growing, or full constant light,
And his short minute, after noon, is night.
Таким образом, Донн в лице лирического героя утверждает несостоятельность обеих экстремистских концепций — неоплатонической и гедонистической. По Донну, люди, скованные предрассудками извращенных отношений (как у Даниэля) обречены на вечный обман, возводя чувственное вожделение в абсолют. Принимая тени за действительность, они лишены возможности познать настоящую любовь, ибо для них, сидящих в пещере придворных нравов, полдень — время откровения любви, — это состояние полной неспособности что-либо понять, так как в это время исчезает условная система сигнификации.
Группа стихотворений цикла («The Sun Rising», «The Canonization», «The Good-Morrow», «The Anniversary» и другие) выражает настроение удовлетворения и счастья, которого достиг лирический герой. По сравнению с сонетами и песнями первой группы настроение лирического героя и стиль поэзии второй группы произведений претерпевают заметную эволюцию: исчезает легкость и бездумность в поведении, то в пародийной форме, то в истинном своем проявлении характерные для мировосприятия героя в стихотворениях начального периода (отсюда внешне выраженная динамичность текста, обилие риторических фигур, в своей барочной специфике служащие основной цели мотива).
По мере все более глубокого постижения сущности любви в ее всевозможных психологических ситуациях, в ее наиболее кризисные, органически заостренные моменты, герой постигает ее возвышенную форму как сплав плотского и духовного. Все чаще меняется ракурс видения: если раньше это было вызвано необходимостью более убедительного доказательства своей точки зрения в полемике с противниками, то теперь переход из временного плана в план вечный, как понимает это лирический герой, присущ необычному проявлению субстанции любви. Стилистические средства барочной поэзии (прежде всего консейтистская образность, проявляющая в контрапункте амбивалентность) выступают как средства выражения этого необходимого явления. Поэтому внешняя динамика принимает форму внутреннего движения; отсюда ощущение известного созерцательного спокойствия героя и кажущаяся статичность текста, которая, однако, внезапно, как от укола иглы, прорывается необычной силы чувствительностью: это открылись сокровенные глубины бытия, где сливаются воедино вечность и миг, — и в эти глубины погружается герой. Экспрессивно-эвокативная функция текста сменяется информативно-экспрессивной.
Как и многие другие стихотворения этого цикла «The Sun Rising» отличается резкостью и независимостью позиции героя; в его отношении к явлениям, вторгающимся в мир его любви, доминирует настроение самоуверенности с вариациями от циничной беспардонности до властной благосклонности. И лишь в мире, которого так желал он, в мире взаимного влечения и уважения неистовый эгоизм героя переходит в свою противоположность, щедро одаряя возлюбленную полнотой своей безудержной радости, обнажая все богатство своего естества.
Пять строф «The Canonization» («Святые любви»), как пять клейм аллегорической иконы любви, представляют фиоритуры настроения героя в его поклонении божеству, святыми которого являются он и его возлюбленная. Однако это поклонение не смиренного и кроткого, а неистового, как в необходимости защиты святого чувства, так и в проявлении его.
В одном из своих прекрасных стихотворений «The Ecstacy» («Экстаз») Донн дает квинтэссенцию своего понимания любви. Донн — поэт, человек, любивший сильно и страстно, аналитический ум и тонкая психическая организация которого помогают безошибочно определять наиболее важные участки преломления чувствующей и мыслящей способности человека, а художественная одаренность дает потрясающие по силе впечатления образы, не случайно выбрал столь необычное состояние человеческой психики, чтобы выразить свое кредо. Лирический герой и его возлюбленная находятся в состоянии апогея любви, когда интимное чувство достигает своего максимального выражения, заражаясь сверхобычной чувствительностью, создавая поле психологической сверхпроводимости. Трезвый рассудок — этот атрибут внешнего мира, и сам мир реальных отношений исчезли, исчезло все, что связано с ним; любящие погружаются в мир экстатического видения, экстатической пульсации, экстатического бытия. Это ощущение мистической потусторонности сообщается натуралистической образностью, почти физически передающей ощутимость духовного, мистического состояния.
Описывая состояние влюбленности, лирический герой временами почти повторяет мысли Бембо. На самом деле герой лишь более последовательный платоник, чем сами неоплатоники. Дихотомия чувственного и духовного находит в лице лирического героя противника ее абсолютизации.
Для него тело — не шлак, а необходимая реализация духовного порыва. Диалектика любви, чуждая христианской или близкой ей по духу плотиновской ортодоксии, заключена в этих строках:
As our blood labours to beget
Spirits, as like souls as it can;
Because such fingers need to knit
That subtle knot, which makes us man.
Следующая группа произведений, раскрывая мир «значащих» переживаний героя, характеризуется мотивом сомнения относительно длительности и прочности достигнутого счастья. Парадоксальным для обычного представления, но наполненным внутренней логикой лирического состояния, и потому не только правомерным, но и единственно верным представляется утверждение, что разлука вызывает не раскол их лирического мира, а напротив, расширение его сферы.
Тревога разлуки, которую пытался заглушить лирический герой уверенностью во вневременном существовании его любви, после удара, нанесенного ему судьбой (смерть любимой), доминирует в следующей группе произведений. Герой осознает невозможность существования единой субстанции любви при элиминации одной из составляющих единство субстанции. Отсюда — порыв в мистический мир, где, как ему кажется, он сможет вновь соединиться с любимой. Хромой ямб стихотворения «The Dissolution» («Растворение») как бы регистрирует потерю равновесия, наступившую со смертью любимой. Трагизм происшедшего подчеркивает почти разговорный метр, расширенный неровный период коррелятивных элементов рифмы, четко выделенной вступительной строфы — период, как бы символизирующий разверзшуюся пропасть, внезапно разлучившую любящих.
Трагическое настроение, звучащее в «The Dissolution», «A Fever» достигает своего апогея в «A Nocturnal Upon St. Lucy's Day» («Ноктюрн»). Безграничное горе, вызванное смертью возлюбленной, усиливается мрачной картиной данных параллельно природных явлений: этот день — полночь года, когда Солнце, ранее так щедро согревавшее Землю, лишь мерцает. Наступила ночь — сократилась жизнь. Личное горе представляется трагедией вселенского масштаба. Потрясенное воображение героя создает аберрацию зрения, сообщая реальным явлениям фантастические формы картин Босха: обескровленный космос; жизненные саки вселенной поглотила Земля, превратившаяся в отвратительную водянку; шагреневой кожей сокращается напускающая дух жизнь. Все эти кошмарные видения образуют концентрические круги, в выражении аномалии все более гипертрофируясь к центру. В центре этой апокалиптической картины лирический герой — квинтэссенция горя.
Любовь, превратив его, как и все другое, в ничто, вновь создала его как квинтэссенцию этого ничто, НИЧТО, в котором растворены все вещества. Чтобы быть просто ничем, как например тень, надо, чтобы было тело и Солнце. Однако ни Солнца, ни его возлюбленной нет. Он — НИЧТО, особое и в то же время универсальное, созданное в печальной реторте алхимии любви.
Анализируя эволюцию мирочувствования и мировосприятия лирического героя цикла «Songs and sonnets», хронологическая точность появления которых установлена лишь для некоторых из 55-ти произведений, нужно отметить как наиболее характерное явление — его постоянно меняющееся настроение. Эгоцентризм, несущий в произведениях первого периода безоглядное жизнерадостное настроение, со временем лишается его; в дальнейшем — это эгоцентризм рефлектирующей личности, эгоцентризм барочного характера, бьющийся на антитезе желания и невозможности достижения гармонии лирического и социального миров. Закон нормальной амбивалентности чувства, в определенной степени являющийся отзвуком общественной жизни рубежа XVI-XVII веков, и внутренний конфликт мотивов лирического героя получает в цикле «Songs and sonnets» специфическое художественное выражение: амбивалентность настроения героя порождает резкую смену ритмомелодики, изломы интонации; характерна роль симпатических пауз, симпатического понимания вообще. В лирическом мире «Songs and sonnets» нет ничего постоянного: в качелеобразном движении сменяются планы повествования, переживают резкие колебания психологические характеристики образов, раскалывает едва установившуюся гармонию звучания, антитетичность метафор разрешается контрапунктической взаимопереходностью, расширенная метафора сменяется обратной.
Метафоричность «Songs and sonnets» — не старательная орнаментовка, равнодушно черпаемая из учебника по риторике, это эффект, органически порождаемый антропоцентрическим проецированием лирического героя на окружающий мир. Он — личность не только рефлектирующая, но и активно проявляющая свое отношение к обоим мирам, личность, тонким самоанализом взрывающая условную гармонию неоплатонической любви. Последовательный рационализм как инструмент изощренного психологического анализа вскрыл такие участки психики человека, которые позволяют ему в экстатическом порыве, оставаясь вполне земным существом, подняться до высот, порожденных его духом. Преодолевая плотиновскую дихотомию, он порой весьма ощутимо и темпераментно акцентировал чувственную сторону интимных отношений; с такой же одержимостью, переживая утрату найденного идеала, он погружался в мир мистики. И то и другое выражается в специфически барочном мирочувствовании и порождаемой им образности, как правило, сочетающей в себе две контрапунктично сопряженные субстанции — земную и возвышенную. Однако и яркая чувственность, и мистический экстаз не отрицают главного: лирический герой — гуманист, в тяжелую пору кризиса аксиологической системы, вызванной социальными потрясениями, стремящийся найти реально существующий идеал человеческой любви. Найдя его, герой вскоре его теряет и устремляется вслед за ним в надреальный мир. Но никогда лирический герой не забывает, что он человек, даже в самые яркие моменты мистического озарения оставаясь на земле.
Таким образом, донновский цикл «Songs and sonnets», не открывая новаций в жанровом и тематическом отношении, представил в образе своего лирического героя нового человека, человека активно проявляющего свою индивидуальность через отношения к миру и к себе. Движущееся настроение лирического героя передает постоянное ощущение текучести. Это ощущение испытывает современник Донна в попытке определить состояние мира и свое место в нем. И барочное мировосприятие, и соответствующая ему поэтическая форма произведений цикла свидетельствует о том, что в Англии рубежа XVI-XVII веков появился поэт, особенно остро и личностно ощутивший резкий и кардинальный сдвиг в системе человеческих ценностей.
Л-ра: Актуальные вопросы курса истории зарубежной литературы XVII века. – Днепропетровск, 1974. – С. 80-97.
Произведения
Критика