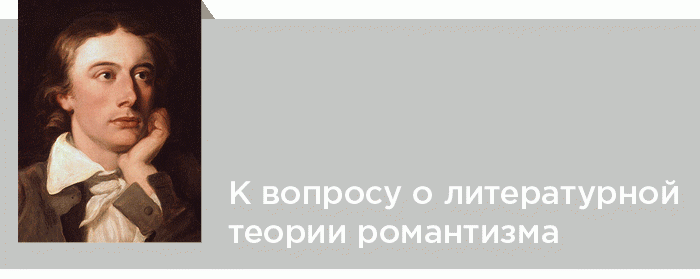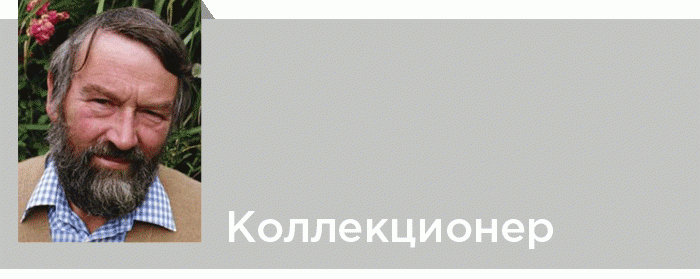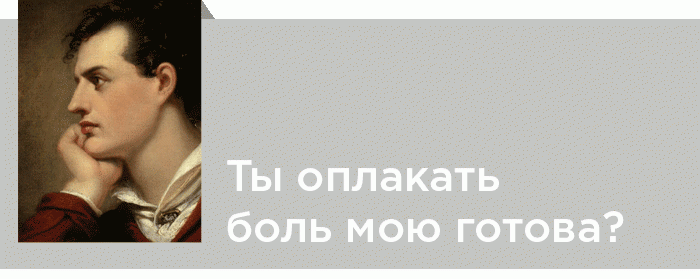Последний сонет
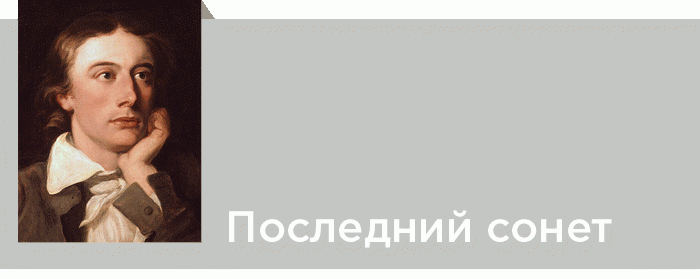
Валерий Макаров
«Кто убил Джона Китса?» — спрашивал в своей известной эпиграмме Байрон по поводу безвременной кончины поэта. «Я, — отвечало Квартальное Обозрение, жестокое и тарабарское, — Это был один из моих подвигов».
Но то, что Байрону показалось журнальным выстрелом, на самом деле было эхом рождения новой звезды. Неудача, постигшая Китса с его по-юношески громоздким «Эндимионом», конечно, не могла оставить поэта равнодушным, однако отразилась скорее на его творчестве, чем на здоровье. Да и можно ли поэму «Эндимион» считать неудачей, если та имела определенный успех в среде, близкой Китсу, а при издании ее отдельной книгой издатели даже предполагали украсить ее иллюстрациями художника Хейдона, ставшего одним из друзей и почитателей таланта поэта? Не многим книгам, с иллюстрациями или без иллюстраций, выпадает на долю дать миру хотя бы одну бессмертную строку. Из «Эндимиона» сразу три довольно обширных отрывка обрели статус хрестоматийности, а первая срочка поэмы:
Прекрасное — есть радость навсегда —
стала просто крылатой фразой.
Тем досаднее, что современная поэту критика недооценила его первое значительное, и по масштабу, и по заложенным в нем возможностям, произведение. Это была эпическая по размаху вещь, названная самим автором «Поэтическим романом», что само по себе было достаточно ново и смело. Но Эндимион не героичен, — какой может быть героизм со стороны вечно спящего короля пастухов, очарованного луной? Напротив, поэма полна прекрасных частностей, а покорение такого большого стихотворного пространства, четыре с лишним тысячи строк, не может не вызывать уважения. К тому же надо учитывать задачу, поставленную Китсом перед собой. «Вымысел — пробный камень для большой поэмы», — утверждал он. «Гиперион» его вторая попытка в эпическом жанре, отличалась уже всеми признаками зрелости и мастерства, и несмотря на то, что поэма, к сожалению, не была закончена, она была признана его крупной удачей. Критика, пусть и недоброжелательная, не может нанести ущерба такому могучему таланту, каким обладал Китс. Она только побудила его еще упорней искать свою поэтическую форму. Он перепробовал все, от робингудовских песен и баллад вплоть до опытов в духе Шекспира. Шекспировской трагедии Китс не создал, но его мощному таланту было суждено великое поприще на крошечном пространстве сонета.
Итак, журнальный выстрел если и не был абсолютным промахом, то уж, во всяком случае, в цель не попал. Джон Китс, лондонский кокни, образованный представитель низов, как ни странно, не был убит наповал, и Байрон зря погорячился. Герой дня, Байрон держал в руках клубок человеческих страстей и даже поэзию воспринимал в основном через социальную призму. Ему и всегда хотелось быть политическим оратором в большей степени, чем поэтом. Его вражда со всем миром наделала много шума и была одной из причин его шумной славы. Для него-то уж точно журнальные стычки носили политический характер и требовали серьезного рассмотрения и отпора, смотря по обстоятельствам. Китс не имел врагов и не враждовал с миром. Его тщеславие не подвергалось таким превратностям, каким поминутно подвергался гордый лорд. Китс никогда не забредал туда, где Байрон стремился играть первенствующую роль и блистал. Китс также не питался манной небесной, но меньше всего понимал жизненную борьбу как политический акт. Чем больше он видел вокруг человеческой розни и неустроенности, тем выше он запрокидывал голову. Это не было проявлением гордыни и уж никак — слабости. Юноша-поэт очень быстро превратился в поэта-мудреца. И это вопреки тому, что в двадцать четыре года с творчеством для него будет покончено раз и навсегда, а в неполные двадцать пять — он уже уйдет из жизни под равнодушным итальянским солнцем. И понесется за ним в вечность звук щелкнувшего бича байроновской эпиграммы. И образ легкоуязвимого юноши-поэта надолго утвердился в памяти поколений. Однако тот же Байрон недаром как-то обмолвился, что «Гиперион» внушен титанами. Китс был не только одержим внушениями титанов, он и сам готовился им стать. Разве не титанических усилий стоило ему зажечь свою звезду? В этом нет ничего героического, кроме того, что звезду зажег хрупкий на вид мальчик, лишенный львиной поступи и крыльев, стоящий на самом пороге смерти.
Китса убила не журнальная критика, а элементарная чахотка. Вся его семья была подвержена этому недугу, буквально на его руках умер от чахотки его младший брат Том. Ухаживая за больным, Китс писал. Когда врачи вынесли и ему смертельный приговор, — он продолжал писать, пока не отказали физические силы. Впрочем, это неверно: физических сил еще какое-то время хватало на письма — письма, исполненные поразительного присутствия духа. С поэзией произошло иначе. Около двух лет в нем зрела идея его шедевра, и когда этот шедевр был запечатлен на бумаге, Китс почел свою задачу выполненной и навсегда отложил поэтическое перо. Этот шедевр — его последний сонет (обычно его называют «Звезда»), Долгое время этот сонет завершал все издания стихов Китса. Позже был найден ранний список сонета, принадлежавший одному из друзей Китса — Брауну. Для литературоведения это веское основание, чтобы переместить стихотворение с последней страницы в глубь книги. Но без этого сонета в конце книги стихов Джона Китса его творчество представляется незавершенным, оборванным на полуслове, а это совсем не так. Творчество Китса шло неизменно по восходящей, и если бы в конце этой линии не было такого полного и гармонического аккорда, можно представить себе, каким диссонансом отозвалось бы чувство неудовлетворенности собой в последних письмах Китса, и без того близких к отчаянию. Жизнь была кончена, едва началась любовь — и это было мучительней всего. Но звезда была зажжена, и при свете этой звезды — нет, умирать было не легче, но уже не требовалось борьбы. «Мое воображение — монастырь, а я монах в нем». Это служение длилось до тех пор, пока длилась молитва, пока душа гармонически не излилась.
Звезда, зажженная Китсом, позволяет многое понять и в его характере, и в его жизни. Кстати сказать, Китс первый подметил, что «Шекспир вел аллегорическую жизнь. Его произведения есть комментарий к ней». Трудно судить, что он разумел под комментариями, но аллегоричность жизни Шекспира он почувствовал точно. Можно ли считать произведения самого Китса комментариями к его жизни? Кажется, его жизнь совсем не аллегорична, и вместе с тем они только ее и объясняют. Объясняют, но не показывают. В то время, как большинство романтиков воспринимало поэзию как дневниковую исповедь, — для Китса поэзия оставалась методом постижения прекрасного, а не только способом самовыражения. «Я за старых поэтов», — признавался Китс и следом за ними алмазной стезей поднимался над человеческим хаосом, оставаясь поэтом позитивного начала. Это не значит, по его словам, «остыть к человеческим судьбам». Он находил себя монахом в храме Красоты и этим-то своим служением рассчитывал принести людям добро. Его книги, которых он так боялся не успеть собрать, теперь хранят это бессчетное богатство. «Правда — есть красота, красота — правда» — звучит в них, как заповедь, и при этом никакой напыщенности. Китс нес факел своей поэзии без аффектации, разбрасывая его благотворные искры в своих письмах. Щедрость — была его философия, и он в избытке нес людям энергию слышимых им гармоний. Но он лишен был социального Эго, проще говоря, эгоизма уверенности, что в силах преобразить действительность и устроить жизнь людей к лучшему. Пределом его мечтаний было — «достичь поэтических вершин, хватило бы только духу... Меня не оставляет чувство, что я должен писать из одной тяги и любви к прекрасному». Поэт не собирался сделать поэму из своей жизни, сознательно принимая то, что «поэт — прозаичнейшее из всех созданий Творца», равносильное пушкинскому «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Ему претило даже драпироваться в живописный плащ мученика и страдальца. Английский романтизм зародился на подмостках шекспировского театра, но сойдя на твердую почву реальной жизни, мало чем мог воспользоваться из театрального реквизита. Искусство драпироваться принадлежит уже другим поколениям романтиков. Для титанов английского романтизма обычные театральные условности обернулись жестоким противостоянием жизни и смерти. Китс ощущал и пережил это, как никто, и все же он нашел в себе силы преодолеть и это противостояние, что дополняет его образ чертами трагическими, но в них нет обреченности. Его дух был закален на огне старых мастеров, которые воспринимали вселенную как магический кристалл, оттого и земной мир казался более устойчивым и не нуждался в «переоценке ценностей», по выражению Ницше, а только в отборе ценностей высшего порядка. Благодаря этому творчество Китса приобрело более уравновешенный характер, а уравновешенность — далеко не из добродетелей романтизма его современников, ни тем более тех, кто шел за ними, — те же прерафаэлиты. В этом усмотрел тенденцию к самовырождению романтизма Гёте, когда противопоставлял ему душевное здоровье и упорядоченность античности. Но все это касается последователей и эпигонов. Романтизм на гребне своего развития — мощный английский дуб, быть может, посаженный еще Робин Гудом. Не его вина, что желуди дали слабые ростки. Китс был прирожденным романтиком, а следовательно, борцом, борцом за право быть сожженным на берегу Мирового Океана, как был сожжен великий безумец и бунтарь Шелли. Китс умер в душной комнате в Риме, так распорядилась судьба, поэт остался до конца «прозаичнейшим созданием». Его триумфом стала его поэзия. Чем обыденней и страшней была его смерть, тем выше и прекрасней всходила его звезда.
Жизнь Китса можно назвать триумфальной. Ему было отпущено всего около пяти лет творчества — за это время он создал три книги стихотворений и поэм, многие из которых стали гордостью английской поэзии.
За это время он написал два тома писем, причисленных к шедеврам английской эпистолярной прозы.
За это время вокруг него сложился кружок, который можно назвать кружком Китса. Дружба с Китсом была предметом отличия и гордости. Его ближайший друг, поэт Рейнольдс, прожил долгую жизнь и ничего не нашел более достойного пожелать для своей надгробной надписи, кроме одной: «Друг Китса».
За это время Китс пережил и свою большую и единственнную любовь. Нет, такого человека не убить журнальной пулей, тут по крайней мере потребовалась бы Этна со своей пылающей чашей. Я молюсь в эту ночь, то есть перечитываю его последний сонет.
Как сказано выше, сонет «Звезда» уже не считается последним. Список Брауна, помеченный 1819 годом, заставляет усомниться в точности датировки, сделанной самим Китсом. Переписав, как считается, именно всего лишь переписав этот сонет на одной из свободных страниц сборника произведений Шекспира, автор проставил под ним дату — 29 сентября 1820 года. Этот год — последний творческий год в жизни Китса. Но был ли сонет только переписан или, быть может, заново создан?
В доказательство того, что сонет был написан раньше 1820 года, обычно приводятся некоторые выдержки из более ранних писем Китса, в которых находят текстуальные совпадения с этим сонетом. Действительно, еще в 1818 году, в одном из писем к брату Тому из Шотландии, уже фактически дан самый образ звезды, никогда не смыкающей век и постоянной, — эпитет, положенный в основание всего сонета в целом. Но что же это доказывает? Только то, что идея стихотворения могла прийти поэту когда угодно и даже могла быть вчерне набросана. Охотно делившийся с друзьями всем новым, Китс на сей раз оставил этот набросок при себе, по-видимому, продолжая над ним работать. Как результат и явилось то, что в 1820 году, на том же материале, было создано принципиально другое стихотворение. Чтобы это показать, достаточно сравнить эти два варианта, хотя бы частично. Смысл такого сравнения не в том, что окончательный вариант совершенней, а в том, что они разнятся по существу. Идея сонета по списку Брауна заключена в следующем:
Вечно бодрствуя в сладостном непокое,
Все слушать, чувствовать ее нежноотдающееся дыханье
В полузабытьи, и с этим погрузиться в смерть.
Подстрочный перевод
Здесь одно состояние сна переходит в другое — и только. Второй, окончательный вариант, а точнее — другой сонет, резко контрастен. Там для поэта желателен плавный переход из любовного сна в сон смерти, здесь он ставит вызывающее условие — либо так жить, как звезда, вечно, неизменно, либо — не жить вовсе:
Вечно бодрствуя в сладостном непокое,
Все слушать, слушать ее нежноотдающееся дыханье,
И так жить вечно — или, иначе, погрузиться в смерть.
Подстрочный перевод
Всего один оборот —и все стихотворение выстраивается по-новому. Это вспышка, озарение — той звездой, которую Китс созерцал на шотландских озерах. В письме к брату он назвал ее Северной Звездою, но после знакомства со своей будущей невестой Фанни Брон ему хотелось бы, чтобы эта звезда стала Звездой Любви. «Я хотел бы вообразить тебя Венерой сегодня вечером и молиться, молиться, молиться твоей Звезде... Всегда твой, прекрасная Звезда». Северная Звезда — она же Полярная, — символ вечного постоянства, совершенного созерцания и не равнодушного постижения всего видимого мира. Точнее, сама звезда своим постоянством делает этот мир видимым и прекрасным. Но этого уже слишком мало или слишком много, когда стоишь на пороге вечности. Требовалось иное постоянство, отдав бестрепетно всю красоту мира, вечно ощущать, слышать дыхание любимого человека.
Отчаянье посещало Китса, и тогда творчество поэта обретало реквиемное звучание. Ничего нет исключительного в том, что стоящему на краю гибели высшим блаженством представлялось как можно безболезненней избавиться от мучений. Ему и песнь соловья в торжественной «Оде к соловью» слышалась порой как реквием:
Под твой высокий реквием смешаться с дерном...
Подстрочный перевод
Но чем ближе подвигался Китс к краю бездны и чем ярче разгоралась Звезда его любви, тем меньше компромисс первого варианта сонета мог удовлетворить его. Китс как бы стоял перед выбором. Одинокий на берегу вселенной, он отчетливо понимал, что смерти что-то должно противостоять. Но что же? То, что было на земле твоим, все отнимается. Не размахивать же перед оскалом смерти книжкой стихотворений! Необходимо было качественно измениться самому. В какую-то из мучительных ночей осенью 1820 года, наверное, и произошел такой перелом в душе Китса. Это его новое состояние дало только одно произведение, но этим единственным произведением была «Звезда», его последний сонет. Китс испытал такой подъем духа, что повторить его или продлить нельзя было и думать. Потому он и вписал «Звезду» в том Шекспира, что интуитивно сознавал: созданное им уже за пределами здешних оценок. Эти четырнадцать строк последнего сонета кажутся звуковыми ступенями органа, по которым человек по своей воле поднимается туда, где уже теряются различия между ночной звездой и им самим.
28 сентября 1820 года Китс и сопровождавший его в поездке в Италию художник Джозеф Северн вынуждены были провести еще один день на английской земле. Из-за разыгравшейся непогоды задержались в Портсмуте. Отплытие было назначено на завтра. Вечером измученному Китсу все еще казалось, что он в Хемпстеде, его тянуло на воздух, на волю. Как только он вышел из дома, демон Хемпстедских холмов набросился на него. Луна, как заговоренный воин, пробиваясь сквозь тучи, посылала земле свой заемный свет. Китс любил эти холмы. Вездесущий демон Хемпстедских холмов приворожил его. Он подставлял под хлещущие порывы ветра свое лицо — и на минуту приходило облегчение.
Юноша умирает! — казалось, выкрикивал демон. — Пошлем ему пару прохладных, авось придет в себя.
Но юноша действительно умирал и уже не воспринял шуток ветреного приятеля.
Прощайте, Хемпстедские холмы! Подмостки, арена... плосковато для моих амбиций! Горы Шотландии — вот это подходяще, не говоря об Олимпе! — Китс засмеялся, как тот мальчишка озорной, который удивлялся, что и в Шотландии двери сделаны из дерева, как в Англии. Еще была там эта звезда, но он привез ее с собой.
Ты поймана, звезда, ты здесь, в моей черепной коробке, и ты останешься здесь, пока я не заполню твоим сиянием хотя бы полстраницы. Подгоняемый ветром, Китс быстро вернулся и увидел, что вокруг дома шумит ненастное море. Но там, в вышине, вокруг его звезды, все было другое. Только что перестал падать снег, и горы и вересковые пустоши осветились мягким светом.
Я сделан из тусклого вещества, как луна. Но Фанни — она подобна тебе. Прости мне, Боже, эту банальность и мальчишество, и все, все!
Внезапно ему показалось, что с него снимают лицо. Так было, когда с него снимали гипсовую маску. Гигантская вспышка ударила ему в глаза — это была она, его звезда. На мгновение он ослеп, но тут же он открыл глаза и уже посмотрел сверху вниз легко, словно знакомый почерк, разбирая карту зимней ночи. Вот так бы и всегда себя чувствовать! Продолжая смотреть сверху, далеко внизу, на белом гипсовом пространстве своего лица, он увидел странную тень. Там почему-то стояла смерть. Она будто ожидала, что он вот-вот радостно вскрикнет и бросится с ночной вышины к ней в объятья.
Китс перевел глаза и увидел берег океана. Волны били в оснеженный берег. На снегу жили люди, должно быть, пастухи. Они сидели у огня и говорили о яркой звезде, что так неожиданно вспыхнула, но не на востоке, а на севере, и они спорили, что это была за звезда. Первые их слова, которые он наиболее ясно расслышал: «Так вечно жить или —...» — последние слова слизнуло пламя. Но было и без того понятно: или — пусть придет смерть.
Взяв машинально книгу со стола, он при свете побеждающего воина с кривой саблей записал на свободном листе видение своей звезды. Лицо вернулось, оно нестерпимо болело. Актерский грим был отравлен.
Ненастное море обступило со всех сторон. В этом море Китс все время куда-то проваливался и все реже пытался за что-нибудь ухватиться. В душе он давно сдался, но сердце еще сопротивлялось. Фанни жила в его сердце и не отпускала его от себя, заставляя перечитывать строки, записанные на свободной странице Шекспира.
Л-ра: Литературная учеба. – 1993. – № 4. – С. 183-188.
Произведения
Критика