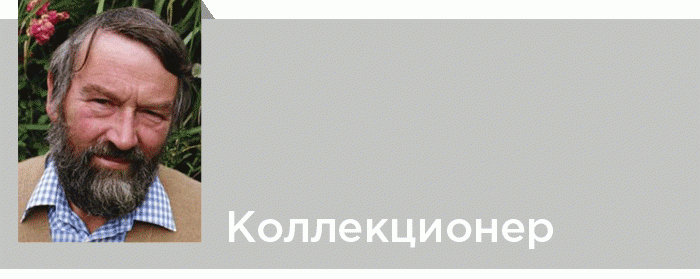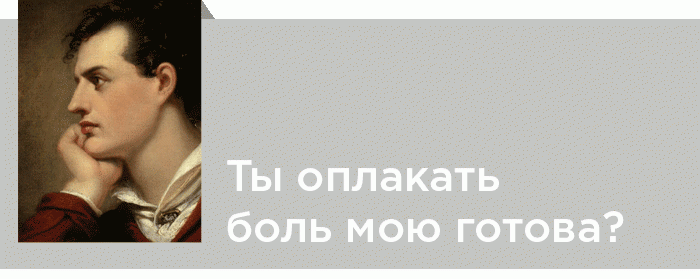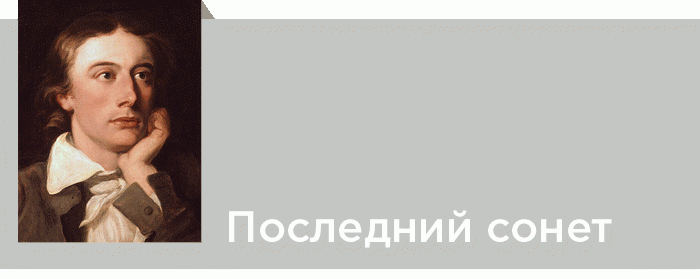К вопросу о литературной теории английского романтизма (эстетические взгляды Джона Китса)
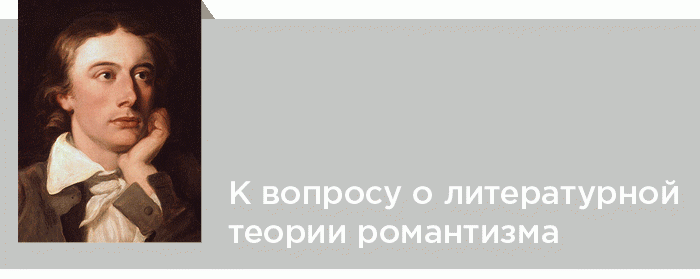
Н.Я. Дьяконова
Китс принадлежал к блестящей плеяде английских романтиков конца XVIII - начала XIX вв. Известно, что романтическая поэзия явилась выражением реакции на победу буржуазного строя в Европе.
Господство своекорыстия и расчета, жестокость человека к человеку, торжество реакционных сил, тяготы непрерывных войн с наполеоновской Францией, страдания тысяч обездоленных воспринимаются романтиками как результат крушения великих надежд, возложенных на Французскую революцию
По свидетельству друга юности Китса Дж.Ф. Мэтью, поэт принадлежал к «лагерю скептиков и республиканцев, был защитником всех нововведений и критиком всего установленного». Это свидетельство подтверждается и стихами и письмами Китса. По его мнению, достоин славы только такой поэт, который в свой смертный час с гордостью скажет: «Патриот услышит суровый набат моего стиха и обнажит сталь или будет повторять мои стихи в сенате, тревожа сон властелинов». Китс призывает народы «ограничить власть своих королей».
В переписке Китса также отчетливо выражены критика продажности и бесчестности правительства и печати, отвращение к ханжеской церковной морали, ненависть к огромным армиям, заполонившим Европу, к власти денег и титулов. В своих письмах об Ирландии и Шотландии Китс говорит, что у низших классов нет выхода: они вынуждены выбирать между крайней нищетой, как в Ирландии, и режимом бережливости, безвыходной скуки и пуританской добродетели, введенным шотландским кальвинизмом, который, по мнению Китса, «заслуживает проклятья».
Противоправительственные и противоцерковные воззрения Китса резко противоположны официальному оптимизму позднего творчества Вордсворта, Колриджа и Саути и в своем критицизме близки к политическим взглядам Байрона, Шелли, Хэзлитта. Но разница заключается в том, что Байрон и Шелли посвящают себя борьбе с ненавистным им «бронзовым веком», между тем как Китс, хотя и разделял их резко отрицательное отношение к английскому буржуазно-аристократическому обществу и сочувствовал революции, не верил в возможность ее победы в близком будущем. «Как бы ни были велики волнения, — писал он в письме к брату, — вряд ли можно ожидать существенных изменений в правительстве, ибо такие же беспорядки не раз бывали в этой стране».
Китс пылко стремится служить человечеству («Я нахожу, что нет достойной цели, кроме желания принести благо миру»), но социальные эмоции находят в его поэзии не прямое, а косвенное, сублимированное выражение. Низости и пошлости буржуазной современности поэт противопоставляет искусство, впитывающее в себя все то, чем мир мог бы и должен был стать, но не стал.
Китс исходил из общего для всех романтиков трагического восприятия разлада между идеалом и действительностью. Этот разлад Китс пытался преодолеть в своем творчестве, стремился создать искусство, которое бы увековечило красоту, вытравленную, из жизни буржуазного общества.
С одной стороны, он готов «спрыгнуть в Этну ради общественного блага», с другой-стороны, он с огорчением признается, что «мог бы писать из одной только привязанности к прекрасному, даже если бы труды целой ночи сжигались бы поутру. С одной стороны, Китс считает необходимым изображать «борьбу и муку человеческих сердец», с другой стороны, он болезненно ощущает губительный для искусства антиэстетический характер действительности. Эта внутренняя борьба хорошо выражена в поэме Китса «Эндимион» (1817): влюбленный в богиню луны пастух Эндимион — это поэт, страстно ищущий прекрасного. Как отчетливо говорит вся символика поэмы, Эндимион был неудачлив в своих поисках, пока он был далек от «несчастья, от разбитых сердец, от боли, страдания и угнетения». Познав их, он нашел свой идеал и нашел его на земле.
После трудной душевной борьбы Китс приходит к необходимости уберечь «истинность» своего искусства от растлевающего влияния «нудной, лишенной вдохновенья» современной жизни, от ее «черепашьего шага».
Пытаясь возвысить свое искусство над враждебной действительностью, Китс изолирует себя от нее и лишает свое искусство «временной», социальной оболочки, которая, по мнению Китса, равно искажает и жизнь и поэзию. Таким образом, хотя эстетизм Китса, подчеркиванье независимости искусства были прямым результатом его неприятия буржуазной современности и явились своеобразной формой протеста, они привели Китса к разобщенности с окружавшей его жизнью, к трагическому душевному одиночеству.
* * *
Эстетические взгляды Китса складывались под воздействием романтической теории искусства, созданной еще на рубеже XVIII-XIX вв. Вордсвортом и Колриджем и получившей своеобразное истолкование в сочинениях их ученика и критика, выдающегося публициста и эссеиста Уильяма Хэзлитта (1778-1830). В серии его лекций по истории английской поэзии и драматургии, прочитанных и опубликованных с 1817 по
Письма самого Китса с обильными цитатами из Хэзлитта и восторженными похвалами глубине его вкуса, воспоминания современников, обилие почти буквальных совпадений в высказываниях поэта и критика показывают, как велика была их духовная близость.
Проницательный критик, блестящий стилист, знаток живописи, поэзии и драмы, Хэзлитт в то же время был деятельным участником так называемой радикальной оппозиции реакционному правительству Англии, выдающимся политическим журналистом, обладавшим темпераментом и мужеством борца. Хотя основные эстетические идеи Китса сложились еще до знакомства с Хэзлиттом, однако последний оказал на своего младшего друга значительное влияние. Центром эстетического учения Хэзлитта, как и Китса, является теория воображения, играющая важнейшую роль в романтической теории поэзии. Такие разные поэты, как Вордсворт и Колридж, как Китс и Шелли, такие разные критики, как Хэзлитт и Де Квинси, видели цель поэзии в том, чтобы сохранить духовные и эстетические ценности, попираемые в буржуазном мире. Искусство каждого из них — хотя для каждого из них по-разному — ставит одну и ту же задачу: способствовать совершенствованию человека.
Согласно романтической эстетике, поэт призван быть учителем жизни, ибо благодаря силе своего воображения он в себе самом заключает все то, чем бывают или могут быть все остальные люди. Воображение егть высшая форма познания. Оно обостряет чувствительность людей к высокому и прекрасному. Поэтому «поэзия — начало и конец всякого знания... она бессмертна, как человеческое сердце». «Еще не было великого поэта, который бы не был и великим философом. Ибо поэзия есть цвет и аромат всякого человеческого знания, человеческих мыслей, человеческих страстей, чувств, языка».
Шелли также приписывал воображению божественные свойства и ставил его выше разума: «разум относится к воображению как орудие к человеку, им управляющему, как тело — к духу, как видимость — к сущности». Поэт — глашатай истины и красоты, совпадающей, по терминологии Де Квинси, с «морально возвышенным». В этом и заключается его значение в мире, где, как говорил Колридж, человеческие отношения изуродованы «тлетворной торговлей, противоестественной толчеей в городах и правлением богатых». Эта «печальная картина (вырождения и порока» должна быть устранена посредством «искупительного процесса», семена которого должен заронить в души людей поэт-философ типа Вордсворта.
Идеалистическое учение Колриджа о воображении как единственно достоверном познании оказало огромное влияние на всех английских поэтов и критиков романтической школы. Противопоставляя воображение, а с ним интуицию и чувство разуму и рассудку, Колридж выражает общую для романтической идеологии тенденцию критического переосмысления философии просветителей, с их безграничным доверием к всесилию разума. Единственный из поэтов английского романтизма, который решительно не принял этой теории воображения, а с нею и основных положений романтической эстетики, был Байрон. Верный рационализму просветительской философии и идеалам революционного переустройства мира, он презрительно относился к интуитивизму романтической теории искусства. В противоположность ему Колридж, как и другие романтики, критикуя прямолинейный рационализм просветительской эстетики, ложно противопоставляет ему философию интуиции и инстинктивного чувства.
Так и Хэзлитт, хотя и порвал с Колриджем, когда тот перешел на реакционные политические позиции, многие из его идей, пусть в переработанном виде, развивал всю жизнь. Через Хэзлитта и независимо от него Китс знал и разделял многие из убеждений Колриджа.
Но консерватор Колридж и близкие к нему Вордсворт и Де Квинси считали, что воображение поэта, освещая людям путь к постижению возвышающей их душу истины и красоты, учит их довольствоваться духовным самосовершенствованием и отказываться от попыток социального совершенствования, которые, как показала якобы Французская революция, приводят лишь к последствиям еще более гибельным.
Напротив, Шелли, угадавший будущих освободителей своей родины в ткачах и пахарях Британии, верил в способность воображения открыть «интеллектуальную красоту», которая, просветив человека, не позволит ему остаться в состоянии пассивной неудовлетворенности, но научит его реальной борьбе с общественной несправедливостью.
Наконец, Китс и Хэзлитт тоже считают, что воображение поэта, постигая истину и красоту, не должно позволить ему мириться с действительностью. Но, отказываясь принять буржуазный мир, открыто высказывая ему свое отвращение, они в то же время скептически оценивают перспективы реальной политической борьбы с ним. Поэтому Хэзлитт, хотя и участвует в этой борьбе, находит прибежище в романтической эстетике, во многом близкой Колриджу. Поэтому Китс, хотя и упрекает себя за свою пассивность, выражает свой протест только в своей поэзии. И Хэзлитт и Китс видят в искусстве обетованную землю, в которой воображение может утвердить мир истинный, хотя в настоящее время неосуществимый.
* * *
Теория воображения Китса с самого начала имела не мистический, потусторонний, а земной, посюсторонний характер.
Если для Колриджа «все, что есть на свете, — это бог», а природа — лишь иероглиф, начертанный божественным художником, то для Китса природа отнюдь не является проявлением божества. Как правильно говорит Колдуэлл, теория воображения Китса чужда теологической мудрости и благочестивому оптимизму. Христианство для Китса до конца остается «набожным обманом»: он жаждет найти спасение от несправедливости независимо от утешений религии.
Там, где Колридж, следуя идеалистической немецкой философии, считает поэтическое воображение откровением, а красоту внешнего мира — отражением красоты бога, там Китс твердо верит в реальное, независимое от бога присутствие «красоты во всех вещах» и проявляет неизменное внимание к неиссякаемому богатству материального мира. Поэтому для него поэт это не тот, кто выражает божественную волю, а тот, кто живее, чем другие, воспринимает окружающий внешний мир и благодаря этому более способен познать его. В формулировке своей концепции воображения как средства познания реально существующего мира Китс близок Хэзлитту. Последний, считает поэзию следствием «естественного впечатления, которое предмет или событие невольно, благодаря своей яркости производит на воображение и страсти». «Поэт только описывает то, что другие думают и делают».
Временем расцвета поэзии Хэзлитт считал эпоху Возрождения: «Это было время великого брожения: всем была предоставлена свобода думать и говорить правду... Люди горели желанием познать истину, чтобы истина могла сделать их свободными». Это было время, когда возникло великое племя поэтов, и первым среди равных был Шекспир. «Характерной особенностью воображения Шекспира была его истинность в сочетании с бессознательностью природы».
Все эти убеждения Хэзлитта полностью разделял Китс. Опираясь на теорию Хэзлитта об «обобщающей способности» воображения Шекспира, Китс подчеркивал познавательное значение творчества великого драматурга и его современников. Китс тоже считал, что именно «истинность воображения», свойственная поэту, отличает его от «плоских людей», которые все понимают буквально, ибо воображение позволяет ему увидеть заключенную во всех вещах красоту, которая и является истинной, хотя недоступной для обычного рассудочного восприятия сущностью вещей. Воображение, по мысли Китса, всемогуще, так как с предельной ясностью отражает свой объект и представляет собой волшебное зеркало, в котором черты объекта предстают перед нами в более отчетливой форме, чем в самой действительности. В способности к полному слиянию с объектом изображения заключается, по Китсу, подлинное призвание поэта.
Однако вслед за Хэзлиттом Китс ошибочно полагает, что поэту дано охватить свой предмет только с помощью непосредственного чувства, ценою отказа от абстрактного рассуждения.
Выдвигая в противовес поэзии рассудка поэзию сердца («Сердце — вот библия ума»), Китс следовал характерному для идеалистической эстетики романтизма противопоставлению образного, эмоционального познания логическому и рациональному. Он писал: «Я не убежден ни в чем, кроме святости привязанностей сердца и истины воображения». Но хотя под «истиной воображения» Китс разумел не мистическое откровение, а лишь глубокое проникновение художника в свой объект, однако это проникновение Китс мыслил как полное растворение поэта в его объекте: утрачивая собственную индивидуальность, поэт становится хамелеоном, который «не имеет характера», ибо поэт — «это тот, кто равен любому человеку, будь он королем или беднейшим из нищих... Он подслушал рычанье льва... и понял его значение, и в его ушах вой тигра звучит, как родной язык». Познавательное значение поэзии, раскрытое в этом отрывке, ясно выражено во многих письмах Китса. «В поэзии, — писал он своему издателю Тейлору, — я придерживаюсь нескольких аксиом; первая: я думаю, что поэзия должна поражать своей прекрасной чрезмерностью, но не странностью. Она должна впечатлять читателя как выражение его собственных высоких мыслей и казаться почти воспоминанием; вторая: проявление ее красоты не должно быть половинчатым, оставляя читателя неудовлетворенным... третья: если поэзия не появляется так же естественно, как листья на дереве, то лучше, если она не появится вовсе».
Во имя естественности и истинности Китс отвергает все непрекрыто дидактические, плоско назидательные произведения. «Мы ненавидим поэзию, которая слишком явно посягает на наши чувства... Как прекрасны притаившиеся цветы, и как много бы они потеряли, если бы столпились на большой дороге с криком: „Восхищайтесь мною, я фиалка? Поклоняйтесь мне, я первоцвет!”»
Поклонники Китса из декадентов «конца века» в этих и аналогичных формулировках видели провозглашение моральной безответственности поэта. Но Китс нападает только на слишком явный, назойливый, неумелый дидактизм; в противоположность почитателям «чистого искусства» Китс придает огромное значение возвышающей, облагораживающей роли поэзии, хотя считает, что эту роль поэзия выполняет, только когда она может всецело захватить читателя своей истинностью и красотой. А истина и красота могут быть только непосредственны и спонтанны, «бессознательны, как природа», по выражению Хэзлитта, или «естественны, как листья на дереве», по определению Китса.
* * *
Ошибочно отождествляя красоту в искусстве с изображением прекрасного объекта, Китс пришел к выводу, что окружающая его действительность не может быть источником высокой поэзии. Он стремился обратиться прямо к сути явлений, раскрыть «идею красоты во всех явлениях». Знаменитый афоризм Китса «Красота есть истина, истина — красота — вот все, что знаешь на свете, и все, что тебе нужно знать», который «так часто итак досадно ложно истолковывается как провозглашение своего рода эстетизма», озьачает на самом деле совершенно другое: по мысли Китса, красота скрыта во всех вещах. Увидеть ее дано не всем, ибо она не лежит на поверхности явлений. Поэтому нужно проникновенное творческое воображение, чтобы разгадать эту скрытую красоту, т. е. познать истинную сущность вещей.
Современная действительность, по утверждению поэта, безобразна и убога, всюду господствуют корыстолюбие и пошлость, чувства дряблы, интересы ничтожны. В общественной жизни нельзя найти никаких проявлений гуманности, терпимости, свободомыслия, яркого воображения. Между тем Китс твердо верит, что именно эти прекрасные черты составляют истинную сущность человека, только они истинны; современное же человечество есть искажение этой сущности. Обыкновенные «плоские люди», которые «понимают все буквально», видят только убогую действительность. Поэт же тем и отличается, что силою проникновенного воображения разгадывает истинную, т. е. прекрасную, суть вещей, он умеет отбросить их временную оболочку и подняться над антипоэтическими фактами жизни. Если, как пишет Китс, шотландская церковь изгнала «веселье, шутки и поцелуи», исковеркала жизнь шотландских юношей я девушек, превратила их в убогих скопидомов, то нет сомнения, что истинной будет не поэзия, запечатлевающая их убожество, а та, которая отразит их прекрасные черты, соответствующие подлинной, т. е. прекрасной, сущности человека.
Поскольку для Китса понятие прекрасного искусства совпадает с воспроизведением в искусстве прекрасного, он считает, что только жалкий и ограниченный рассудок придерживается буквальной, прозаической правды, — и «мир ему закрыт и нем». Как говорил Хэзлитт, естествоиспытатель, познающий явления только рассудочно, в светлячке видит лишь маленького серого червячка, а поэт, окрыленный воображением, видит его «в сиянии изумрудного света». Для Китса также нет сомнения, что великий драматург, воспевший романтически неистовую страсть Антония и Клеопатры, даже если он изменяет правдоподобию, более правдив, чем тот, кто описывает эмпирически данную реальность, в которой «Клеопатра живет в доме номер семь, а Антоний — на Брунсвикской площади».
Однако Хэзлитт свое отвращение к современному ему обществу выразил как деятельный участник политической оппозиции правительству, возглавляющему это общество. У Китса же его чувство социального, религиозного, морального, идеологического и эстетического протеста выразилось в отталкивании от буржуазной действительности, в напряженных поисках выхода в мире воображения.
Китс абсолютизирует воображение как единственный метод познания действительности. Он превозносит воображение, т. е. чувственное, образное познание над логическим. И обожествление «истины воображения», не совпадающей с буквальной правдой, приводит его к разрыву с действительностью. Этот разрыв делает невозможным то «слияние» с объектами описания, которому Китс учился у поэтов Возрождения.
Стремясь в своих героях воплотить черты «истинные», несходные с видимыми, обычными, жизненными чертами, отрывая их от реальной общественной среды, Китс обрекает своих героев на лирическую неопределенность. Он изображает их пассивными носителями прекрасной любви, которая торжествует не в результате борьбы, а одной пассивной силой своей красоты. Так, в поэме «Изабелла и горшок с базиликом» (1818) любовь одержала победу над смертью, потому что до того такую же победу она одержала над всей остальной, лежащей вне любви жизнью.
Если герои главного учителя Китса — Шекспира — всегда яркие, выразительные индивидуальности, для которых любовь становится частью жизненной борьбы, то герои Китса скользят перед нами, как тени; любовь стирает, сводит на нет их индивидуальность. Переосмысляя литературу Возрождения, воспринимая ее вне конкретных общественно-исторических черт, Китс в своих героях подчеркивает только безмерность страсти и лишает их какой бы то ни было социальной и психологической характеристики.
В отличие от Байрона и Шелли, которые в своих вдохновленных эпохой Возрождения героях (Марино Фальеро, Беатриче Ченчи) изображали людей отважных, деятельных, бросающих вызов небу и земле, Китс создает образы влюбленных, страсть которых поднимает их над жизнью. Слабость, пассивность героев Китса закономерно вытекает из недейственного пассивного характера миросозерцания поэта, из его неверия в борьбу с существующим общественным порядком, из его поисков спасения от «варварского вейа» в царстве идеала.
* * *
Поиски выхода из уродливой действительности в создании мира любви и красоты привели к трагическому разрыву между искусством Китса и реальной жизнью. Никто так хорошо не понимал этого, как сам Китс. Разочарование в спасительной силе воображения все отчетливее звучит в его стихах. Это разочарование подготовлялось всем ходом его поэтической эволюции. Оно вытекало из неудовлетворенного желания поэта дать реальное благо своей стране. Оно крепло от утраты им веры в осуществимость этого блага, в возможность совершенствования общества.
Разочарование и сомнение ясно выражены в поэме Китса «Ламия» (1819), а еще более — в знаменитых «Одах». Все они говорят одно: фантазия, воображение, красота прекрасны, но они не могут утешить людей, стонущих под бременем земных печалей. Даже в «Оде к греческой вазе», прославляющей вечную, неумирающую красоту искусства внимание поэта сосредоточено на том, что в искусстве запечатлена та «радость навеки», в которой отказывает людям действительность.
Еще более явно недоверие к целебным свойствам воображения звучит в «Оде к соловью» (1819). Красота соловьиного пения только на минуту заставляет его забыть «усталость, жар и волнение мира, где люди безучастно слушают стоны близких.., где мыслить — значит быть полным скорби и отчаяния с глазами, тяжелыми, как свинец», ибо «фантазия, изменчивая фея, не может обмануть так хорошо, как это принято считать».
Нельзя поэтому не согласиться с мнением Клода Ли Финни, что «оды выражают неадекватность и тщету романтических и идеалистических попыток избежать безотрадной действительности». И Китс сурово осуждает себя за эту попытку. Во втором варианте поэмы «Гиперион» (1819) поэт называет себя и себе подобных «слабыми мечтателями» и противопоставляет себе тех, кто «ощущает титаническую муку мира и более того... как рабы бедного человечества, трудятся на благо смертным».
Но, осудив свои прежние искания, Китс вступил в полосу тяжелого нравственного и творческого кризиса, из которого ему не суждено было найти выход: помешали болезнь и ранняя смерть. Нам кажется, что в мировоззрении Китса были заложены возможности для преодоления этого кризиса. Возможности эти заключались в напряженности его внимания к реальной, живой природе, к миру реальных человеческих чувств.
Как показывают последние произведения Китса — «Ода к осени», с ее удивительным по своей реалистической конкретности описанием английской деревни (1819), отрывок из второго варианта «Гипериона», неудачно подражающая Шекспиру трагедия «Оттон Великий» (1819) и неоконченная сатирическая поэма «Шапочка и колокольчики» (1819), — Китс хотел обратиться к изображению «нагой истины» и найти ее в самой действительности. Это желание было всегда характерно для Китса, но оно оставалось неосуществленным из-за недостатка жизненного опыта и стремления преодолеть действительность с помощью воображения.
Несмотря на идеалистичность такого толкования, концепция воображения у Китса носила материально-чувственный характер.
В противоположность Вордсворту, например, считавшему воображение высшим принципом мысли, с помощью которого поэт может постигнуть абсолютную мудрость творца, осознать свой нравственный долг и тем самым проникнуть в сущность явлений, Китс говорит об «истине воображения» только в том смысле, что, возвышаясь над своим непосредственным объектом, оно больше приближается к его подлинной сущности, т. е. красоте. «Поэзия должна быть свободна... чем выше она парит, тем ближе она к цели». Как и Хэзлитт, Китс считает, что воображение раскрывает красоту благодаря способности вызывать в связи с объектом описания множество ассоциаций, не произвольных, но прочно основанных на реальном, чувственном восприятии объекта.
Замечательный пример ассоциаций, вызванных созерцаемым предметом и в свою очередь бросающих на него новый свет, являет знаменитое описание поверженного Сатурна.
«Прекрасная чрезмерность» этого мира всегда одухотворена мыслью о несовместимости красоты и счастья с современной поэту действительностью, стремлением воплотить в поэзии мечты о вечной радости и полноте жизни. Художественное претворение этой мечты в земных чувственных образах, создание нового поэтического мира потребовало и новой формы, и Китс вошел в историю английской литературы как один из самых смелых новаторов стиха.
Нет ни одной работы о Китсе, которая бы не подчеркивала, что смелая фантазия сочетается у него с точностью и достоверностью в воссоздании непосредственно окружающего его физического мира. Образец, поэтической смелости и слияния объективно чувственного описания с мыслью и переживанием представляет поэма «Канун праздника святой Агнесы» (1819).
* * *
Согласно замыслу поэмы изображенный в ней мир любви, поэзии и красоты представлен как абсолютная идеальная противоположность миру жестокой и холодной реальности.
Противоположность между этими двумя мирами выражена в подборе контрастных эпитетов: с одной стороны, — «кровожадные» бароны, «гости-воины, утонувшие в вине», «варварские орды», «враги-гиены», «предательский замок», «бешеные лорды», целый сонм «ледяных», «замерзших», «кровавых», «погруженных в ночной кошмар» видений, с другой стороны, — торжествующие над злобой и низостью окружающего влюбленные, спрятавшиеся в девичьем покое, «шелковистом, притихшем, и целомудренном». Даже зимняя луна бросает на красавицу сквозь цветное стекло «теплые алые блики», ее ожерелья — «согретые», ее одежды — «душистые» и «шуршащие», ее нежность — «дремлющая».
Проходящий через всю поэму контраст выражен далее в том, что внешний мир изображен неясно, смутно, как тяжелый бессвязный кошмар, в то время как мир, окружающий влюбленных, необыкновенно реален, чувственно конкретен. Ему подчинено бесконечное разнообразие образов — звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных, красочных и пластических. И все эти образы одухотворены стремлением перенести в область фантастики и сказочной старины чувственно-прекрасное содержание жизни, какой она должна быть.
Чувственная конкретность Китса, богатство ассоциаций, с помощью которых воображение соединяет с предметом описания представления о «существенной красоте» были в английской поэзии XIX в. новыми. Как правильно говорит Поль де Рель, «Китс дает свободу поэтической форме». Его осень — «не Помона, Флора или Церера, а деревенская девушка»; она «крепко спит на полусжатом поле, одурманенная маками», или «часами терпеливо следит за медленным течением сидра... насыщает спелостью плоды... и наполняет ореховые скорлупки сладкими ядрами». Обыденные приметы осени — колючее жнивье, наливающаяся соками тыква, жужжание мошкары, гнущиеся под тяжестью плодов яблони и множество других, не менее типичных и точно выбранных, — в стихотворении Китса прекрасны. Они зримы, слышны, осязаемы и в своей совокупности складываются в поэтическую, несмотря на свою непритязательность, картину прощального расцвета природы.
Китс упорно добивается предельно конкретной, схватывающей главную черту объекта стихотворной характеристики. Поэтому он беспощадно изгоняет из своих стихов все ставшие традиционными, утратившие живое содержание поэтические красоты. Китс называет их «мертвыми листьями в лавровом венке поэзии». По его убеждению, все то, что не несет чувственно-образной нагрузки, все то, что не может служить постепенному приближению воображения к «истине», — все это сорная трава, которая душит вольный рост искусства.
В своей поэзии Китс всячески стремится доискаться до внутренней сущности внешних явлений, до составляющей эту сущность внутренней противоречивости. Так, в сонете «К Гомеру» он говорит, что «в его слепоте тройная острота зрения» так же, как «в полуночи уже заключена расцветающая заря». По мысли Китса, острота поэтического зрения позволяет видеть рождение нового, прекрасного, светлого из мрака и отчаяния.
На той же мысли основана и поэма «Гиперион»: титаническая борьба, в которой рождается новая жизнь, немыслима без мук, без слез, без жертв и потерь. Победа неотделима от поражения, свет от тьмы, радость от скорби.
Чаще всего, особенно в стихах последнего года своего творчества (осень 1818 — осень
Вне ощущения трагедии современного человека, вне стремления противопоставить ей мир радости и гармонии нет у Китса в его последних стихах ни одного образа, все они живы в меру воплощения центральной идеи всего его творчества. Строя свои образы в сфере воображения, отвлеченной от реальной, наличной действительности, Китс болезненно переживал свой разрыв с действительностью и терзался сомнениями в ценности своей поэзии. Китс мог бы вслед за Гёте сказать: «Плохо то, что в наши дни искусство, если оно подлинно и достойно вечности вместо того, чтобы служить живым людям, должно идти вразрез со временем, а настоящий художник одинок в своем отчаянии…»
Искусство Китса, «идущее вразрез со временем», исходит из глубокого неприятия его социальных, политических, идеологических, моральных, религиозных и эстетических устоев. Созданный Китсом поэтический мир, хотя и отталкивается от тех конкретных форм, в которых воплотилась жизнь в современном ему обществе, сосредоточивает в себе во всей полноте не только чувственное богатство материального мира, но и ту красоту естественной человечности и одухотворенной любви, которые были искажены в действительности.
Доверие Китса к «истине воображения» приводит его не к бесплодным химерам, а к творческому воплощению реальных чувств и стремлений, осуществимых в иных социальных условиях. В область воображения переносится им ценность материального бытия, все духовное богатство человечества, не извращенное уродливой «временной одеждой»; в фантастической форме воплощены чаяния и стремления лучших людей того времени. Как отмечает литературный обозреватель английской газеты, «красота, к которой стремился Китс, не абстракция... Проблема, проходящая через все его творчество, заключается в том, чтобы соотнести страстную жажду жизненной полноты с реальной жизнью страдания и борьбы».
Из трагической в своей противоречивости борьбы Китса за осуществление своего эстетического идеала поклонники поэта из декадентов «конца века» восприняли только отрыв поисков красоты от реального общественного мира. Они не поняли, что Китс искал красоты для человека, что искусство было ему нужно не для искусства, а для противопоставления прекрасной сущности жизни ее искажению в буржуазной Англии. Извратив истинный смысл творчества Китса, они положили начало легенде о чистом эстетизме его поэзии, легенде, которая долго господствовала в английском буржуазном литературоведении, проникнутом эстетскими формалистическими влияниями.
Он подал повод для ложного истолкования своего творчества в эстетском духе, оберегая этот поэтический мир от «искажающего ига» современности, отказываясь от прямой борьбы с нею. Вследствие такой своей позиции Китс не смог изобразить значительных человеческих характеров, не смог возвыситься над попыткой чисто эстетического преодоления действительности.
В эстетическом характере его критики буржуазно-феодального строя, в глубине, радикальности и эмоциональности этой критики заключаются и достоинство, и ограниченность, и неповторимое своеобразие поэзии Китса.
Л-ра: Вестник ЛГУ. Серия 2. – 1959. – № 8. – С. 104-117.
Произведения
Критика