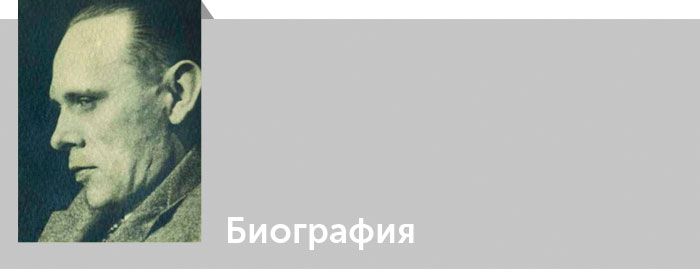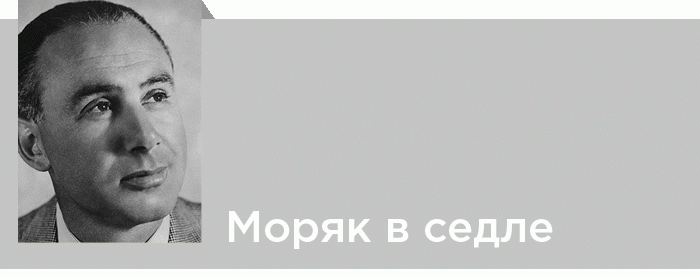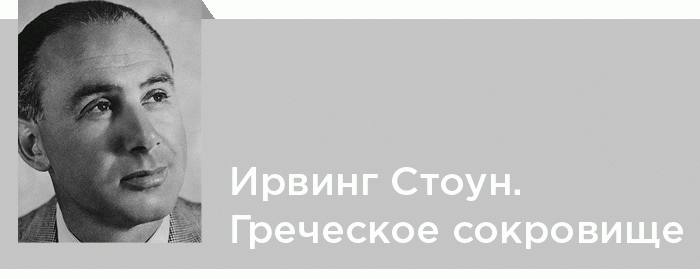Ирвинг Стоун. Муки и радости
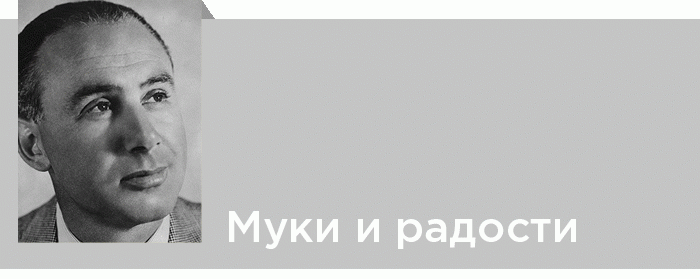
(Отрывок)
Часть первая. «Мастерская»
1
Он сидел в спальне на втором этаже, смотрел в зеркало и рисовал свои худые, с резко проступавшими скулами щеки, плоский широкий лоб, сильно отодвинутые к затылку уши, спадающие к надбровью завитки черных волос, широко расставленные янтарного цвета глаза с тяжелыми веками.
«Как скверно у меня построена голова, — сосредоточенно размышлял тринадцатилетний мальчик. — Все не по правилам. Линия лба выступает вперед гораздо дальше рта и подбородка. Видно, кто-то забыл воспользоваться отвесом».
Он слегка подвинулся к краю кровати и, стараясь не разбудить четырех братьев, спавших тут же, за его спиною, навострил уши: с Виа делль Ангуиллара вот-вот должен был свистнуть ему приятель Граначчи. Быстрыми взмахами карандаша он принялся исправлять свой портрет — увеличил овалы глаз, придал округлую симметричность лбу, чуть раздвинул щеки, губы сделал полнее, а подбородок крупней и шире. «Вот теперь я выгляжу гораздо красивей, — решил мальчик. — Очень плохо, что лицо, если оно тебе уже дано, нельзя перерисовать, как перерисовывают планы фасада нашего собора — Дуомо».
Из высокого, в четыре аршина, окна, которое мальчик отворил, чтобы впустить свежий утренний воздух, послышались звуки птичьей песенки. Он спрятал рисунок под валиком кровати в изголовье и, бесшумно спустившись по каменной винтовой лестнице, вышел на мостовую.
Франческо Граначчи исполнилось уже девятнадцать лет; это был русоволосый юноша с бойкими голубыми глазами, ростом выше своего младшего друга на целую голову. Граначчи уже с год как снабжал мальчика карандашами и бумагой, не раз давал ему приют у себя дома, на Виа деи Бентаккорди, дарил ему гравюры, стянув их потихоньку в мастерской Гирландайо. Хотя Граначчи был из богатой семьи, его с девяти лет отдали в ученики к Филиппино Липпи, в тринадцать лет он позировал для центральной фигуры воскрешаемого юноши в фреске о «Чуде святого Петра» в церкви дель Кармине, — эту фреску Мазаччо оставил незаконченной, — теперь же Граначчи пребывал учеником у Гирландайо. К своим замятиям живописью Граначчи относился не слишком серьезно, но у него был острый глаз на чужие таланты.
— Ты в самом деле не струсишь, пойдешь со мной? — нетерпеливо спросил Граначчи у вышедшего к нему приятеля.
— Да, это будет подарок, который я сделаю себе к дню рождения.
— Чудесно!
Граначчи взял мальчика под руку и повел его по Виа деи Бентаккорди, огибающей огромный выступ древнего Колизея; позади высились стены тюрьмы Стинке.
— Помни, что я говорил тебе насчет Доменико Гирландайо. Я состою у него в учениках уже пять лет и хорошо его знаю. Держись с ним как можно смиренней. Он любит, когда ученики оказывают ему почтение.
Они повернули уже на Виа Гибеллина, чуть выше Гибеллинских ворот, обозначавших черту второй городской стены. По левую сторону оставалась могучая каменная громада замка Барджелло с многоцветным каменным двором правителя — подесты, затем, когда друзья, взяв правее, вышли на Виа дель Проконсоло, перед ними возник дворец Пацци. Мальчик провел ладонью по шершавым, грубо обтесанным камням стены.
— Не задерживайся! — подгонял его Граначчи. — Теперь самое удобное время, чтобы поговорить с Гирландайо, пока он не углубился в работу.
Торопливо отмеряя широкие шаги, друзья продвигались по узким переулкам, примыкавшим к улице Старых Кандалов; тут подряд шли дворцы с резными каменными лестницами, ведущими к дверям с глубоким навесом. Скоро друзья были уже на Виа дель Корсо; по правую руку от себя, сквозь узкий проход на улицу Тедалдини, они разглядели часть здания Дуомо, крытого красной черепицей, а пройдя еще квартал, увидели, уже с левой стороны, дворец Синьории — арки, окна и красновато-коричневую каменную башню, пронзающую нежную утреннюю голубизну флорентинского неба. Чтобы выйти к мастерской Гирландайо, надо было пересечь площадь Старого рынка, где перед прилавками мясников висели на крючьях свежие бычьи туши с широко раскрытыми, развороченными вплоть до позвоночника боками. Теперь друзьям оставалось миновать улицу Живописцев и выйти на угол Виа деи Таволини — отсюда они уже видели распахнутую дверь мастерской Гирландайо.
Микеланджело задержался на минуту, разглядывая Донателлову статую Святого Марка, стоявшую в высокой нише на Орсанмикеле.
— Скульптура — самое великое из искусств! — воскликнул он, и голос его зазвенел от волнения.
Граначчи удивился: ведь они знакомы уже два года, и все это время друг скрывал от него свое пристрастие к скульптуре.
— Я с тобой не согласен, — спокойно заметил Граначчи. — И хватит тебе глазеть — дело не ждет!
Мальчик с трудом перевел дух, и вместе они переступили порог мастерской Гирландайо.
2
Мастерская представляла собой обширное, с высоким потолком, помещение. В нем остро пахло красками и толченым углем. Посредине стоял грубый дощатый стол, укрепленный на козлах, вокруг него сидело на скамейках с полдесятка молодых учеников с сонными лицами. В углу, около входа, какой-то подмастерье растирал краски в ступе, а вдоль стен были свалены картоны, оставшиеся от написанных фресок: «Тайной Вечери» в церкви Оньисанти и «Призвания Первых Апостолов» в Сикстинской капелле в Риме.
В дальнем, самом уютном, углу сидел на деревянном возвышении мужчина лет сорока; в отличие от всей мастерской его широкий стол был в идеальном порядке — карандаши, кисти, альбомы лежали на нем один к одному, ножницы и другие инструменты висели на крючках, а позади, на полках вдоль стены, виднелись аккуратно расставленные тома украшенных рисунками рукописных книг.
Граначчи подошел к возвышению и встал перед учителем.
— Синьор Гирландайо, это Микеланджело, о котором я вам рассказывал.
Микеланджело почувствовал, что на него устремлен взгляд тех самых глаз, о которых говорили, что они видели и запоминали в одно мгновение гораздо больше, чем глаза любого другого художника в Италии. Мальчик тоже поднял свой взгляд: его глаза вонзились в Гирландайо, это были не глаза, а пара карандашей с серебряными остриями: они уже рисовали на воображаемом листе и лозу сидящего на помосте художника, и его васильковый кафтан, и красный плащ, наброшенный на плечи для защиты от мартовской стужи, и красный берет, и нервное, капризное лицо с полными пурпурными губами, и глубокие впадины на щеках, и сильные выступы скул под глазами, и пышные, разделенные прямым пробором черные волосы, спадающие до плеч, и длинные гибкие пальцы его правой руки, прижатой к горлу. Микеланджело припомнил слова Гирландайо, которые, как передавал Граначчи, он произнес несколько дней назад:
«Прискорбно, что теперь, когда я начал постигать суть своего искусства, мне не дают покрыть фресками весь пояс городских стен Флоренции!»
— Кто твой отец? — спросил Гирландайо.
— Лодовико ди Лионардо Буонарроти Симони.
— Слыхал такого. Сколько тебе лет?
— Тринадцать.
— Мои ученики начинают в десять. Что ты делал последние три года?
— Тратил понапрасну время в школе у Франческо да Урбино, зубря латынь и греческий.
Углы темно-красных, как вино, губ Гирландайо дернулись — это означало, что ответ мальчика ему понравился.
— Умеешь ты рисовать?
— Я умею учиться.
Граначчи, горя желанием прийти на помощь другу, но не смея признаться, что он таскал потихоньку у Гирландайо гравюры и давал их перерисовывать Микеланджело, сказал:
— У него прекрасная рука. Он изрисовал все стены отцовского дома в Сеттиньяно. Там есть такой сатир…
— А, мастер по стенным росписям, — усмехнулся Гирландайо. — Соперник для меня на склоне лет.
Все чувства Микеланджело были в таком напряжении, что он принял слова Гирландайо всерьез.
— Я никогда не пробовал писать красками. Это не мое призвание.
Гирландайо что-то хотел сказать в ответ, но тут же поперхнулся.
— Я тебя мало знаю, но если говорить о скромности, то ты наделен ею в должной мере. Значит, ты не хочешь быть моим соперником не потому, что у тебя нет таланта, а потому, что равнодушен к краскам?
Микеланджело скорее почувствовал, чем услышал, как укоризненно вздохнул за его спиной Граначчи.
— Вы не так меня поняли.
— Ты говоришь, что тебе тринадцать лет, а посмотреть — так ты очень мал. Для тяжелой работы в мастерской ты выглядишь слишком хрупким.
— Чтобы рисовать, больших мускулов не требуется.
И тут Микеланджело понял, что его поддразнивают, а он отвечает совсем невпопад и к тому же повысил голос. Все ученики, повернув головы, уже прислушивались к разговору. Через минуту Гирландайо смягчился: у него, по сути, было отзывчивое сердце.
— Ну, прекрасно. Предположим, ты для меня делаешь рисунок. Что бы ты нарисовал?
Микеланджело оглядел мастерскую, пожирая ее взглядом, как деревенские парни на осеннем празднике вина пожирают виноград, засовывая его в рот целыми гроздьями.
— Могу нарисовать вот хоть вашу мастерскую!
Гирландайо пренебрежительно рассмеялся, словно бы найдя выход из неловкого положения.
— Граначчи, подай Буонарроти бумагу и угольный карандаш. А теперь, если вы ничего не имеете против, я снова примусь за свою работу.
Микеланджело сел на скамейку около двери, откуда мастерская была видна лучше всего, и приготовился рисовать. Граначчи не отходил от него ни на шаг.
— Зачем ты выбрал такую трудную тему? Не спеши, рисуй как можно медленней. Может, он и забудет о тебе…
Глаза и рука, трудясь, помогали друг другу, они выхватывали из просторного помещения мастерской и заносили на бумагу самое существенное: длинный дощатый стол посредине с сидящими по обе его стороны учениками, помост, на помосте возле окна Гирландайо, склоненного за работой. Только теперь, впервые с той минуты, как Микеланджело переступил порог мастерской, он начал дышать ровно и спокойно. Вдруг он почувствовал, что кто-то подошел и встал у него за спиной.
— Я еще не кончил, — сказал он.
— Хватит, больше не надо. — Гирландайо взял листок и минуту разглядывал его. — Не иначе как ты уже у кого-то учился. Не у Росселли?
Микеланджело знал, что Гирландайо давно питает неприязнь к Росселли, своему единственному во Флоренции сопернику: у того тоже была художественная мастерская. Семь лет назад Гирландайо, Боттичелли и Росселли по приглашению папы Сикста Четвертого ездили в Рим расписывать стены только что отстроенной Сикстинской капеллы. Росселли добился расположения паны, угодив ему тем, что применял самую кричащую красную, самый яркий ультрамарин, золотил каждое облачко, каждую драпировку и деревцо, — и таким путем завоевал столь желанную им денежную награду.
Мальчик отрицательно покачал головой:
— Я рисовал в школе Урбино, когда учитель отлучался с уроков, рисовал и с фресок Джотто в церкви Санта Кроче, и с фресок Мазаччо в церкви дель Кармине.
Потеплев, Гирландайо сказал:
— Граначчи говорит правду. Рука у тебя крепкая.
Микеланджело протянул свою ладонь прямо к лицу Гирландайо.
— Это рука каменотеса, — с гордостью сказал он.
— Каменотесы нам не нужны, у нас в мастерской пишут фрески. Я возьму тебя в ученики, но при условии, как если бы тебе было всего десять лет. Ты должен уплатить мне шесть флоринов за первый год…
— Я не могу вам уплатить ничего.
Гирландайо бросил на него пронзительный взгляд.
— Буонарроти — это не какие-нибудь бедные крестьяне. Если твой отец хочет, чтобы ты поступил в ученики…
— Мой отец порол меня всякий раз, как я заговаривал о живописи…
— Но я не могу тебя взять до тех пор, пока он не подпишет соглашения цеха докторов и аптекарей. И разве он не выпорет тебя снова, если ты заведешь разговор об ученичестве?
— Не выпорет. Ваше согласие взять меня послужит мне защитой. И к тому же вы будете платить ему шесть флоринов в первый год моего ученичества, восемь во второй и десять в третий.
Гирландайо широко раскрыл глаза:
— Это неслыханно! Платить деньги за то, чтобы ты соизволил учиться у меня!
— Тогда я не буду на вас работать. Иного выхода нет.
Услышав такой разговор, подмастерье, растиравший краски, оставил свое занятие и, помахивая пестиком, изумленно глядел через плечо на Гирландайо и Микеланджело. Ученики, сидевшие у стола, даже не притворялись, что работают. Хозяин мастерской и желающий поступить в ученики мальчишка словно бы поменялись ролями: дело теперь выглядело так, будто именно Гирландайо, нуждаясь в услугах Микеланджело, захотел поговорить с ним и позвал его к себе через посыльного. Микеланджело уже видел, как складывались губы Гирландайо, чтобы произнести решительное «нет». Он стоял не шелохнувшись, всем своим видом показывая и почтительность к старшему, и уважение к себе. Его устремленный в лицо Гирландайо взгляд словно бы говорил: «Вы должны взять меня в ученики. Вы не прогадаете на этом». Прояви он малейшую слабость и неуверенность, Гирландайо тут же повернулся бы к нему спиной. Но, наткнувшись на столь твердый отпор, художник почувствовал невольное восхищение. Он всегда старался поддержать свою репутацию обходительного, достойного любви человека и поэтому сказал:
— Совершенно очевидно, что без твоей бесценной помощи нам никогда не закончить росписей на хорах Торнабуони. Приведи ко мне своего отца.
На Виа деи Таволини, где с самого раннего часа суетились и толкались разносчики товаров и шел оживленный торг, Граначчи ласково обнял мальчика за плечи:
— Ты нарушил все правила приличия. Но ты добился своего!
Микеланджело улыбнулся другу так тепло, как редко улыбался, его янтарные глаза с желтыми и голубыми крапинками радостно блеснули. И эта улыбка сделала то, что так неуверенно нащупывал карандаш, когда мальчик рисовал себя перед зеркалом в спальне: раскрывшись в белозубой счастливой улыбке, его губы словно бы налились и пополнели, а подавшийся вперед подбородок оказался на одной линии со лбом и уже отвечал всем требованиям скульптурной симметрии.
3
Идти мимо родового дома поэта Данте Алигьери и каменной церкви Бадиа для Микеланджело было все равно что идти по музейной галерее, ибо тосканцы смотрят на камень с такой же нежностью, с какой любовник смотрит на свою возлюбленную. Со времен своих предков-этрусков жители Фьезоле, Сеттиньяно и Флоренции ломали камень на склонах гор, перевозили его на волах вниз, в долины, тесали, гранили, созидая из него дома и дворцы, храмы и лоджии, башни и крепостные стены. Камень был одним из богатейших плодов тосканской земли. С детских лет каждый тосканец знал, каков камень на ощупь, как он пахнет с поверхности и как пахнет его внутренняя толща, как он ведет себя на солнцепеке, как под дождем, как при свете луны, как под ледяным ветром трамонтана. В течение полутора тысяч лет жители Тосканы трудились, добывая местный светлый камень — pietra serena, и возвели из него город такой удивительной, захватывающей дух красоты, что Микеланджело, как и многие поколения флорентинцев до него, восклицал: «Как бы я мог жить, не видя Дуомо!»
Друзья дошли до столярной мастерской, занимавшей нижний этаж дома на Виа делль Ангуиллара, в котором жило семейство Буонарроти.
— До скорого свидания, как сказала лисичка меховщику! — усмехнулся Граначчи.
— О, с меня наверняка спустят шкуру, но, не в пример лисичке, я останусь живым, — мрачно ответил Микеланджело.
Он завернул за угол Виа деи Бентаккорди, помахал рукой двум лошадям, высунувшим головы из дверей конюшни на другой стороне улицы, и по черной лестнице пробрался домой, на кухню.
Мачеха стряпала здесь свое любимее блюдо torta — кулебяку. С раннего утра цыплята, зажаренные в масле, были изрублены в фарш, куда добавлялись лук, петрушка, яйца и шафран. Затем из ветчины с сыром, крупчаткой, имбирем и гвоздикой готовились равиоли — пирожки наподобие пельменей, — которые укладывались в цыплячий фарш вместе со слоями фиников и миндаля и аккуратно завертывались в тесто. Всему изделию придавалась форма пирога — его надо было лишь испечь, поместив на горячие угли.
— Доброе утро, madre mia.
— А, Микеланджело! У меня для тебя сегодня приготовлено что-то особенное — такой салат, что слюнки потекут.
Полное имя Лукреции ди Антонио ди Сандро Убальдини да Гальяно занимало на бумаге куда больше места, чем список ее приданого, иначе зачем бы такой молодой женщине выходить замуж за сорокатрехлетнего седеющего вдовца с пятью сыновьями и стряпать на девятерых человек, составлявших семейство Буонарроти?
Каждое утро она вставала в четыре часа и шла на рынок, стараясь поспеть к тому времени, когда на мощенных булыжником улицах начинали громыхать крестьянские повозки, наполненные свежими овощами и фруктами, яйцами и сырами, мясом и птицей. Если она и не помогала крестьянам разгружаться, то облегчала кладь, выбирая себе товар прежде, чем он попадет на прилавок, — тут были самые нежные, сладкие бобы и piselli — горошек в стручках, превосходные, без малейшего изъяна, фиги и персики.
И Микеланджело, и его четыре брата звали свою мачеху
Микеланджело прекрасно знал, что мачеха была послушнейшим существом в семействе до тех пор, пока дело не касалось кухни: тут она превращалась в драчливую львицу, словно олицетворяя собой воинственного Мардзокко, геральдического льва республики. В богатую Флоренцию со всего света текли разнообразнейшие заморские редкие товары и пряности — алоэ, желтый имбирь, кардамон, тимьян, майоран, грибы, трюфели, молотый орех, калган. Увы, все это требовало денег! Микеланджело, спавший вместе с четырьмя своими братьями в комнате рядом со спальней родителей, не раз слышал, как еще до рассвета отец и мачеха, одевавшаяся к выходу на рынок, бранились друг с другом.
— Послушать тебя, так каждый день тебе нужен бочонок сельдей и не меньше тысячи апельсинов!
— Брось же скаредничать и выгадывать на корках от сыра, Лодовико. Тебе бы только складывать деньги в кошелек, а семья ходи с пустым брюхом.
— С пустым брюхом! Да ни один Буонарроти еще ни разу не оставался без обеда вот уже триста лет. Разве я не привожу тебе каждую неделю по теленку из Сеттиньяно?
— А почему мы должны каждый божий день есть одну телятину, когда на рынке полно молочных поросят и голубей?
В те дни, когда Лодовико приходилось сдаваться, он хмуро листал свои приходо-расходные книги, проникаясь уверенностью, что никогда уже не позволит себе съесть хотя бы кусок браманджьере: ведь птица, миндаль, свиное сало, сахар, гвоздика и дьявольски дорогой рис, закупаемые для этого блюда его легкомысленной супругой, разоряли семейство вконец. Но как только соблазнительные запахи из-под кухонной двери начинали прокрадываться через гостиную в его кабинет, он забывал свои страхи и дурные предчувствия, забывал свой недавний гнев, и к одиннадцати часам утра у него пробуждался зверский аппетит. Лодовико поглощал сытнейший обед, отодвигал стул от стола, растопыренными пальцами хлопал себя по вздувшемуся животу и произносил ту сакраментальную фразу, без которой прожитый день казался тосканцу тусклым и бесцельным:
— Ну и хорошо же я поел!
Выслушав столь лестное для себя признание, Лукреция прятала остатки обеда, чтобы сохранить их для сравнительно легкого ужина, приказывала служанке вымыть тарелки и горшки, затем шла к себе и спала до самого вечера: ее день был закончен, все его радости исчерпаны.
Иное дело Лодовико: весь крут его утренних размышлений и последующего грехопадения повторялся в обратном порядке. По мере того как время шло, а пища переваривалась и соблазнительные запахи выветривались из памяти, его опять начинали грызть тягостные мысли о дороговизне изысканного обеда, и он снова впадал в мрачную ярость.
Микеланджело прошел через пустую общую комнату с тяжелой дубовой скамьей перед камином, около которого у стены стояли воздуходувные мехи и несколько кресел с кожаными спинками и сиденьями: все эти чудесные вещи некогда смастерил своими руками родоначальник семейства Буонарроти. Рядом с этой комнатой, выходя окнами тоже на Виа деи Бентаккорди и на конюшни, был расположен кабинет отца: заполняя острый, в сорок пять градусов, угол кабинета, — ибо именно под таким углом тут, у каменного изгиба Колизея, пересекались улицы, — стоял треугольный стол, сделанный на заказ в столярной мастерской этажом ниже. Лодовико сидел за этим столом и терзался над своими пожелтевшими от старости пергаментными счетными книгами. Сколько Микеланджело помнил, единственным делом отца было раздумывать о том, как избежать лишних затрат и убытков и как сберечь жалкие клочки родового имения, основанного в 1250 году; от него оставалось теперь лишь четыре десятины земли в Сеттиньяно да городской дом. Дом этот находился неподалеку отсюда, права Лодовико на него юристы оспаривали, и семья жила в наемной квартире.
Услышав шаги сына, Лодовико поднял глаза. Природа щедро одарила Лодовико лишь одним даром — пышными волосами: их обилие позволило ему отпустить великолепные усы, сливавшиеся с широкой, падавшей на грудь бородою. Седина уже заметно тронула голову Лодовико, лоб его прорезали четыре глубокие морщины — следы долгих и тяжких дум над счетными книгами и фамильными документами. В маленьких карих глазах проглядывала тоска по утраченному богатству рода Буонарроти. Микеланджело знал, что отец его принадлежит к тем осторожнейшим людям, которые запирают дверь сразу на три ключа.
— Доброе утро, messer padre.
Лодовико тяжело вздохнул:
— Я родился слишком поздно. Сотню лет назад Буонарроти перевязывали свои виноградники колбасами.
Микеланджело ждал, что он еще скажет, но отец вновь погрузился в мечтательные раздумья, перебирая фамильные финансовые бумаги, этот Ветхий завет всей своей жизни. Лодовико подсчитывал до последнего флорина, сколько именно извлекало дохода каждое поколение Буонарроти из принадлежавших земель, домов, различных предприятий и денежных капиталов. История рода стала поистине специальностью Лодовико, все семейные легенды и предания он хотел вбить в головы и своим сыновьям.
— Мы — знатные горожане, — говорил им Лодовико. — Наш род столь же древен, как Медичи, Строцци или Торнабуони. Фамилию Буонарроти мы носим уже три сотни лет. — Голос его наполнялся горделивой энергией. — Триста лет мы платим налоги Флоренции.
Микеланджело запрещалось сидеть в присутствии отца без особого на то разрешения; выслушав какое-либо приказание, он должен был всякий раз кланяться. Скорей по обязанности, чем из интереса, он постепенно узнал, что в середине тринадцатого века, когда гвельфы захватили власть во Флоренции, род Буонарроти быстро возвысился: в 1260 году один из Буонарроти был советником при армии гвельфов; другой Буонарроти в 1392 году был даже предводителем гвельфов; с 1343 по 1469 год род Буонарроти десять раз давал членов флорентинской коллегии приоров или городского совета — это были самые почетные посты в городе; между 1326 и 1475 годами восемь Буонарроти служили гонфалоньерами или старшинами квартала Санта Кроче; между 1375 и 1473 годами еще двенадцать Буонарроти числились среди buonuomini, советников этого квартала, включая самого Лодовико и его брата Франческо, назначенных в совет в 1473 году. Последнее официальное назначение, которым был отмечен увядающий род Буонарроти, состоялось тринадцать лет назад, в 1474 году, когда Лодовико получил пост подесты, или управляющего, двух городков — Капрезе и Кьюзи ди Верна, расположенных в суровых Апеннинских горах. Там, в городской ратуше, где шесть месяцев жила семья Лодовико, и родился Микеланджело.
Отец внушал Микеланджело, что труд — низкое занятие для благородного горожанина, и сам мальчик видел, что все старания Лодовико были направлены к тому, чтобы не тратить денег, а не к тому, чтобы их заработать. В руках Лодовико еще были кое-какие средства, дававшие ему возможность жить как благородному человеку, но лишь при условии — не тратить лишнего. И однако, несмотря на всю изворотливость Лодовико и его решимость придерживаться этого правила, родовой капитал, иссякая капля по капле, был на исходе.
Стоя в углублении стены подле высокого окна и чувствуя, как нежные лучи мартовского солнца греют его худые плечи, мальчик мысленно перенесся в старый дом в Сеттиньяно, стоявший над долиной Арно, к тем временам, когда была жива его мать. Все тогда дышало у них любовью и весельем, но мать умерла, когда Микеланджело было шесть лет, и мрачный, погруженный в горькие думы отец с отчаяния укрылся в своем кабинете. Домом в течение четырех лет управляла тетка Кассандра, и одинокий мальчик был никому не нужен, кроме бабушки монны Алессандры да семейства знакомого каменотеса: тот жил поблизости, за холмом, его жена в свое время кормила Микеланджело грудью, когда мать заболела и лишилась молока.
Все эти четыре года, пока отец не женился во второй раз и Лукреция не настояла на переезде во Флоренцию, мальчик при первом удобном случае убегал в семейство Тополино. Он шагал по полю пшеницы, потом среди серебристо-зеленых олив, перебирался через ручей, служивший границей участка, и, поднявшись на холм, виноградниками спускался вниз, во двор каменотеса. Здесь он молча садился на место и принимался тесать светлый камень, добываемый в соседней каменоломне; обтесанные глыбы этого камня шли на постройку нового дворца во Флоренции. Словно бы заглушая тоскливое чувство одиночества, ребенок бил по камню точными, размеренными ударами, к которым был приучен здесь с самого раннего возраста, когда каменотес дал ему в руки, как давал своим собственным сыновьям, маленький молоток и острое стальное зубило.
Усилием воли Микеланджело заставил себя подавить воспоминание: покинув двор каменотеса в Сеттиньяно, мальчик вернулся к действительности, в каменный дом на Виа делль Ангуиллара.
— Отец, я только что был в мастерской Доменико Гирландайо. Он согласен взять меня в ученики.
4
Наступила тревожная, бьющая по нервам тишина, и Микеланджело услышал, как на той стороне улицы, в конюшне, заржала лошадь, как ворошит угли в очаге на кухне Лукреция. Опершись обеими руками, Лодовико поднялся с кресла и грозно шагнул к мальчику. Это необъяснимое желание сына сделаться ремесленником может стать последним толчком, который ввергнет пошатнувшийся род Буонарроти в бездну!
— Микеланджело, я сожалею, что вынужден отдать тебя учиться в цех шерстяников, где ты станешь скорей купцом, чем человеком благородного образа жизни. Но ведь я послал тебя в хорошую школу, из последних средств платил за твое учение большие деньги, и все лишь для того, чтобы ты получил образование и завоевал себе видное место в цехе. Потом у тебя будут свои собственные мастерские и лавки. Ведь именно так начинали первейшие богачи Флоренции, даже сами Медичи.
Голос Лодовико зазвенел еще тверже:
— Неужели ты думаешь, что я позволю тебе погубить свою жизнь и стать художником? Опозорить наш род? Ведь за триста лет еще ни один Буонарроти не докатился до того, чтобы зарабатывать на хлеб собственными руками.
— Это верно, — сердито ответил мальчик. — Мы ведь ростовщики.
— Мы принадлежим к цеху денежных менял, одному из самых уважаемых цехов во Флоренции. Давать деньги в рост — это почетное занятие.
Микеланджело почувствовал, что самое лучшее для него сейчас сказать что-нибудь смешное.
— Видали ли вы, как дядя Франческо свертывает свою лавочку возле Орсанмикеле, когда начинается дождь? Такой ловкой работы руками больше нигде не увидишь.
Едва Микеланджело помянул дядю Франческо, как тот сам вошел в кабинет. Ростом Франческо был крупнее Лодовико, в выражении лица у него сквозила куда большая бодрость, чем у брата, — он как бы являл собою деятельную, рабочую половину семейства Буонарроти. Два года назад он отделился от Лодовико, сколотил немалое состояние, купил несколько домов и зажил на широкую ногу; потом его втянули в разорительные денежные операции с иностранцами, он потерял все и должен был возвратиться в дом брата. А ныне, как только в городе начинался дождь, он снимал со своего складного столика бархатную скатерть и, подхватив мешок с монетами, стоявший у него на земле между ног, бежал по мокрым улицам к приятелю, закройщику Аматоре, который разрешал ему разместиться с меняльным столиком у себя под навесом.
Голос у дяди Франческо звучал хрипло.
— Микеланджело, ты еще столь зелен, что не видишь вороны в чашке молока, — сказал он племяннику. — Неужели тебе доставляет удовольствие унижать род Буонарроти?
Мальчик пришел в ярость.
— Я горжусь своим родом не меньше, чем вы оба. Но почему я не имею права учиться и исполнять прекрасную работу, которой гордилась бы вся Флоренция, как она гордится дверями Гиберти, статуями Донателло и фресками Гирландайо? Флоренция — хороший город для художника.
Лодовико положил руку на плечо мальчика, назвав его ласкательным именем — Микеланьоло. Из всех пяти сыновей это был его любимый сын, на него он возлагал самые светлые свои надежды: именно поэтому Лодовико нашел в себе мужество целых три года платить за учение мальчика в школе Урбино. Учитель был слишком горд, чтобы сообщить отцу, что его сын, с виду столь смышленый, больше рисует в своей тетрадке, чем заучивает тексты из греческих и латинских манускриптов. Что же касается логики, то у мальчика были собственные правила, опровергнуть которые Урбино не мог при всем своем красноречии.
— Микеланджело, все, что ты говоришь насчет художников, сплошная глупость. Мне бы надо просто побить тебя, чтобы ты набрался разума. Но тебе уже тринадцать лет; я платил деньги за то, чтобы тебя учили логике, и я хочу теперь убедиться, как ты с нею ладишь. Гиберти и Донателло начали свою жизнь ремесленниками, ремесленниками они ее и кончили. Тем же кончит и Гирландайо. Такая работа не возвысит человека в обществе ни на один локоть, а твой Донателло под старость столь обнищал, что Козимо де Медичи пришлось из милости назначить ему пенсию.
Услышав это, мальчик вспыхнул.
— Донателло разорился потому, что держал свои деньги в проволочной корзинке, подвешенной к потолку, и из нее брали все его друзья и помощники, когда им было надо. А Гирландайо уже и теперь почти что богатый человек.
— Заниматься художеством — все равно что мыть ослу голову щелоком, — сказал Франческо, вставляя пословицу, ибо сея тосканская мудрость была целиком вплетена в пословицы. — Пропадут попусту и труд и щелок. Каждый надеется, что в его руках и булыжник обернется чистым золотом. Напрасная мечта!
— А у меня нет другой мечты! — воскликнул Микеланджело. Он повернулся к отцу: — Лиши меня искусства, и во мне ничего не останется, я буду пуст, как гнилой орех.
— А я-то всем говорил, что мой Микеланджело сделает род Буонарроти вновь богатым! — кричал Лодовико. — Уж лучше бы мне об этом и не заикаться. Но я из тебя этот плебейский дух вышибу!
И, оттопырив локоть, он начал правой рукой, как палкой, колотить мальчика по голове. Желая помочь воспитанию племянника, который мог свихнуться в эти опасные годы, Франческо тоже отвесил ему несколько тяжелых затрещин.
Микеланджело пригибался и покорно втягивал голову в плечи, как животное, застигнутое бурей. Вырываться и бежать прочь не было смысла, ведь разговаривать с отцом пришлось бы снова не сегодня, так завтра. Все время он твердил про себя слова, которые любила повторять ему бабушка: «Терпи! Когда рождается человек, с ним рождается и его работа».
Краешком глаза он увидел, что в дверь кабинета вломилась тетя Кассандра — тучная, раздувшаяся, как тесто на опаре, женщина. Широкая кость, пышные бедра, груди и ягодицы, басистый, вполне под стать ее дородности, голос не делали, однако, тетю Кассандру счастливой. Заботиться о счастье других она тоже не считала нужным. «Счастье, — твердила она, — бывает только на том свете».
Густой, утробный голос Кассандры, требовавшей объяснить ей, что происходит, отдавался в ушах Микеланджело гораздо больнее, чем оплеухи ее мужа. Но вдруг все крики и удары оборвались, и мальчик понял, что в комнату вошла бабушка. По-старушечьи одетая во все черное, с чудесно изваянной головой, хотя, пожалуй, и некрасивая, бабушка применяла свою родительскую власть только в минуты острых семейных раздоров. Лодовико не любил ее обижать. Он сразу отошел в сторону и тяжело опустился в свое кресло.
— Ну, спор, можно сказать, кончен, — сказал он. — Я воспитал тебя, Микеланджело, не затем, чтобы ты заносился и мечтал о чем-то великом, — тебе надо лишь наживать деньги и поддерживать честь рода Буонарроти. Не вздумай еще раз заговорить о каком-то там ученичестве у художников!
Микеланджело был рад тому, что мачеха усердно хлопотала над своей кулебякой и не могла отлучиться из кухни: в комнату отца и без того набилось слишком много зрителей.
Монна Алессандра сказала, обращаясь к Лодовико, сидевшему у стола:
— Пойдет ли мальчик в цех шерстяников и будет сучить там пряжу или вступит в цех аптекарей и будет смешивать краски — какая разница? Ведь на те деньги, которые останутся от тебя, не прокормить даже пятерых гусей, не то что пятерых сыновей. — Старуха говорила это без всякого упрека: она хорошо знала, что причиной разорения семьи послужили опрометчивость и неудачи ее покойного мужа, Лионардо Буонарроти. — Всем пятерым твоим сыновьям, Лодовико, надо где-то пристраиваться: пусть Лионардо идет в монастырь, если он хочет, а Микеланджело в мастерскую к художнику. Раз мы не можем им помочь, то зачем же мешать?
— Я пойду в ученики к Гирландайо, отец. Вам надо подписать соглашение. Это будет на благо всей семьи.
Лодовико недоуменно посмотрел на сына. Неужели в него вселился злой дух? Уж не отвезти ли мальчишку в Арецио, чтобы изгнать этого духа?
— Микеланджело, ты несешь такую чушь, что внутри у меня все переворачивается от злости. — И тут Лодовико привел последний, решающий довод: — Ведь у нас нет ни единого скудо, а за ученичество у Гирландайо надо платить.
Это была минута, которой Микеланджело давно ждал. Он сказал тихо и мягко:
— Никаких денег не потребуется, padre. Гирландайо согласен, если я буду у него учиться, платить деньги вам.
— Платить мне! — подался вперед Лодовико. — Почему он должен платить лишь за то, что ты соизволишь у него учиться?
— Потому что он считает, что у меня крепкая рука.
Откинувшись на спинку кресла, Лодовико долго хранил молчание.
— Если господь не поддержит нас, — сказал он наконец, — мы будем нищими. Право, не могу понять, в кого ты такой вышел? Уж конечно, не в Буонарроти. Видно, порча идет от твоей матери. Тут кровь Ручеллаи!
Он произнес эту фамилию с такой гримасой, будто выплюнул кусок червивого яблока. Микеланджело еще не слыхал, чтобы в доме Буонарроти когда-нибудь называли вслух род его матери. А Лодовико сразу же перекрестился, видимо, больше от растерянности, чем из благочестия.
— Воистину я одержал столько побед над собою, сколько не одерживал ни один святой!
5
Боттега Доменико Гирландайо была самой многолюдной и самой процветающей во всей Италии. Помимо двадцати пяти фресок, которые надо было написать на хорах Торнабуони в церкви Санта Мария Новелла в оставшиеся два года из условленных пяти, Гирландайо заключил контракт еще на фреску «Поклонение волхвов» для Воспитательного дома и на мозаику для портала кафедрального собора. Несколько раз в неделю художник отправлялся верхом в соседний город, где его просили написать небольшой запрестольный образ для герцогского дворца. Никогда не искавший заказов, Гирландайо не умел от них и отказываться. В первый же день, как Микеланджело приступил к учению в мастерской, Гирландайо сказал ему:
— Если тебе принесет крестьянка простую корзину и попросит раскрасить ее, приложи к работе все старание: как эта работа ни скромна, но по-своему столь же серьезна, сколь и роспись стены во дворце.
Мастерская показалась Микеланджело очень шумной, но, несмотря на суету, все работавшие в ней относились друг к другу доброжелательно. Надзирал за учениками Себастьяно Майнарди, мужчина двадцати восьми лет. У него были длинные черные волосы, постриженные в точности так, как постригался Гирландайо, бледное длинное лицо, острый хрящеватый нос, торчащие зубы; он приходился Гирландайо зятем, хотя, как уверял Якопо делль Индако, озорной малый, сын пекаря, женился Себастьяно без малейшего на то желания.
— Гирландайо женил его на своей сестре, чтобы он работал на их семейство, — рассказывал Якопо. — Остерегайся, Микеланджело, и ты! Будь начеку!
Как почти во всех шутках Якопо, доля правды была и в этой: семья Гирландайо составляла, можно сказать, целую фирму художников; все они учились в мастерской отца, золотых дел мастера, придумавшего модный венок-гирлянду — флорентинские женщины украшали такой гирляндой волосы. Два младших брата Доменико — Давид и Бенедетто были, как и он, живописцами. Бенедетто, миниатюрист, любил с кропотливостью изображать лишь ювелирные дамские украшения и цветы; Давид, самый младший из братьев, вместе с Доменико заключил контракт на роспись в Санта Мария Новелла и помогал ему.
Доменико Гирландайо в свое время ушел из мастерской отца, поступив к Бальдовинетти, мозаичисту, и работал у него до двадцати одного года, после чего без особой охоты покинул учителя и открыл собственную мастерскую. «Живопись — это рисование, а живопись, рассчитанная на века, — это мозаика», — говорил Гирландайо, но, поскольку спроса на мозаику почти не было, ему пришлось заняться фресками: на этом-то поприще он и добился успеха, обратив на себя внимание всей Италии. Он впитал в себя и изучил буквально все, чему только могли научить старые мастера фрески, начиная с Чимабуэ. Мало того, он с блеском привнес в это искусство нечто свое, присущее только его натуре.
Гирландайо в самом деле женил Майнарди на своей сестре после того, как юноша-ученик помог ему написать чудесные фрески в церкви соседнего городка Сан-Джиминьяно, в котором числилось семьдесят шесть башен. Майнарди, принявший теперь под свое крыло Микеланджело, многим удивительно напоминал своего патрона Гирландайо — такой же добросердечный, одаренный, прошедший прекрасную выучку в мастерской Верроккио, он любил живопись больше всего на свете и, как Гирландайо, считал, что в фреске важны прежде всего красота и очарование. В картинах приходится изображать что-нибудь из Библии, из священной истории или греческой мифологии, но живописец не должен заглядывать в смысл сюжета, раскрывать его значение или судить о его истинности.
— Цель живописи, — объяснял Майнарди своему новому ученику, — быть украшением, воплощать сюжет зримо, наглядно, приносить людям счастье, — да, да, счастье, если даже они видят перед собой печальные образы святых, отданных на мучения. Никогда не забывай об этом, Микеланджело, и ты станешь признанным живописцем.
Если Майнарди был поставлен над учениками в качестве управителя, то, как скоро понял Микеланджело, вожаком у них был Якопо, тот самый шестнадцатилетний подросток с обезьяньим лицом, который постоянно отпускал шутки. У него был особый дар прикидываться занятым по горло даже тогда, когда он бил баклуши. Едва тринадцатилетний новичок появился в мастерской, как Якопо разъяснил ему с важным видом:
— Отдаваться одной лишь тяжкой работе и не видеть ничего, кроме работы, — это недостойно христианина. — Повернувшись к столу, за которым сидели ученики, он весело добавил: — Во Флоренции бывает в среднем девять праздников в месяц. Если учесть, что есть еще воскресенья, то выходит, что мы должны трудиться только через день.
— Не понимаю, какая тебе разница, Якопо, — ядовито отозвался Граначчи, — ведь все равно ты бездельничаешь и в будни.
Незаметно прошло две недели, и наступил тот дивный день, когда Микеланджело должен был подписать контракт и получить первое жалованье. И тут мальчик вдруг понял, как мало он сделал, чтобы заслужить два золотых флорина — свой первый аванс у Гирландайо. Ведь до сих пор он лишь бегал за красками к аптекарю да просеивал песок и промывал его через чулок в бочке.
Проснувшись еще затемно, он перелез через маленького брата Буонаррото, спрыгнул с кровати и нащупал на скамейке свои длинные чулки и длинную, до колен, рубашку. Проходя замок Барджелло, он увидел, что вверху, на крюке, укрепленном в карнизе, висит мертвое тело: должно быть, это был тот человек, который, когда его повесили две недели назад, остался жив, но наговорил властям таких дерзких слов, что восемь приоров решили повесить его вторично.
Заметив мальчика на пороге мастерской в столь ранний час, Гирландайо удивился, и его «buon giorno» прозвучало сухо и отрывисто. Уже несколько дней он сосредоточенно работал над этюдом, рисуя Святого Иоанна, совершающего обряд крещения над Иисусом, и был в дурном настроении, так как все не мог ясно представить себе образ Христа. Скоро он омрачился еще больше; его побеспокоил брат Давид, принеся пачку счетов, по которым надо было платить. Резким движением левой руки Доменико оттолкнул счета, продолжая энергично рисовать правой.
— Неужели ты не можешь, Давид, распорядиться сам и оставить меня в покое, когда я работаю?
Микеланджело следил за этим разговором с угрюмым опасением: вдруг они не вспомнят, какое дело на сегодня назначено? Граначчи по лицу Микеланджело видел, как он тревожился. Поднявшись со своей скамьи, Граначчи подошел к Давиду и что-то шепнул ему на ухо. Давид развязал кожаный мешочек, висевший у него на широком поясе, прошел через всю мастерскую и протянул Микеланджело два флорина и книгу договоров. Микеланджело быстро начертал в ней свое имя, подтверждая, что во исполнение Соглашения докторов и аптекарей он получил все положенное, затем вывел дату: «6 апреля 1488 года».
Микеланджело трепетал от радости, мысленно уже видя ту минуту, когда он отдаст эти два флорина отцу. Два флорина — это, конечно, не богатство Медичи, но и они, может быть, немного рассеют мрачную атмосферу в доме Буонарроти. И тут только до сознания мальчика дошло, что все вокруг него о чем-то шумно и горячо спорят. Перекрывая голоса товарищей, Якопо говорил:
— Ну, значит, условились! Рисуем по памяти фигуру карлика, ту, что на стене за мастерской. У кого карлик выйдет самым похожим, тот будет и победитель. Он же платит за обед. Чьеко, Бальдинелли, Граначчи, Буджардини, Тедеско — вы готовы?
Микеланджело почувствовал глухую боль в сердце. Рисовать вместе с другими его не пригласили. До того как Микеланджело познакомился с Граначчи, признавшим в своем соседе по кварталу хорошего рисовальщика, все детство его прошло в одиночестве, без близких друзей. Затевая свои игры, дети часто его даже не замечали. Почему? Потому что он был малорослым и болезненным? Потому что в нем чувствовалось нечто угрюмое, безрадостное? Потому что он с трудом вступал в разговор? Ему так страстно хотелось сойтись и подружиться с компанией подростков, работавших в мастерской, но оказалось, что это далеко не просто. В конце первой недели Граначчи стал ему внушать, как надо вести себя с учениками Гирландайо.
Джулиано Буджардини, крепкий, весьма простодушный мальчуган лет тринадцати, дружественно встретивший Микеланджело, когда тот появился в мастерской, однажды начал делать рисунок, набрасывая фигуры женщин. Мальчик не умел рисовать обнаженную человеческую фигуру и не очень-то хотел научиться.
— Ради чего ее рисовать? — спрашивал он. — Ведь мы всегда пишем открытыми только лицо и руки.
Видя, какие бесформенные, мешковатые фигурки выходят у Джулиано, Микеланджело, не раздумывая, схватил огрызок пера и провел им несколько линий, прорисовав под одеждой тела женщин и придав им ощущение движения. Тяжелые веки Буджардини дрогнули, он, прищурясь, долго глядел на исправленный рисунок, дивясь тому, как ожили его фигуры. Он был независтлив и не думал протестовать против вмешательства Микеланджело. Однако острый на язык Чьеко, учившийся в мастерской, как это полагалось, с десяти лет, — а сейчас ему было тоже тринадцать, — не удержался и крикнул:
— Ты, наверное, уже рисовал голых женщин!
— Где это я мог бы рисовать голых женщин во Флоренции? — возразил Микеланджело. — У нас это не принято.
Тедеско, костлявый рыжеволосый парень, потомок давних германских завоевателей, вторгавшихся на землю Тосканы, спросил с оттенком враждебности:
— Тогда откуда же ты знаешь, как придать движение грудям и бедрам женщин, где ты научился, как показывать тело под одеждой?
— Разве я не видел женщин, когда они собирают бобы в поле или идут по дороге с корзинами на головах? Что видят глаза, может нарисовать и рука.
— Гирландайо это не понравится! — паясничая и кривляясь, возвестил Якопо.
В тот же вечер Граначчи предупредил друга:
— Держись осторожней, Микеланджело, не вызывай к себе зависти. Чьеко и Тедеско учатся здесь давно. Разве они могут примириться с тем, что ты, полагаясь только на чутье, рисуешь куда лучше их, хотя они обучаются уже не один год? Расхваливай их рисунки при каждом удобном случае. А что у тебя на душе, держи про себя.
Произведения
Критика