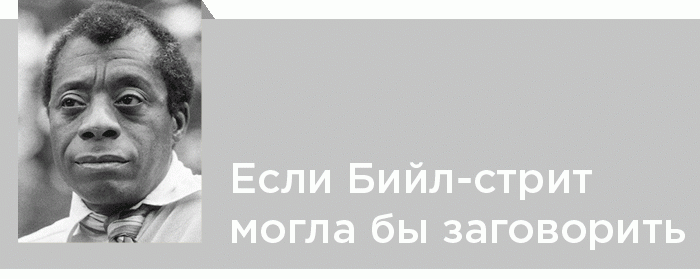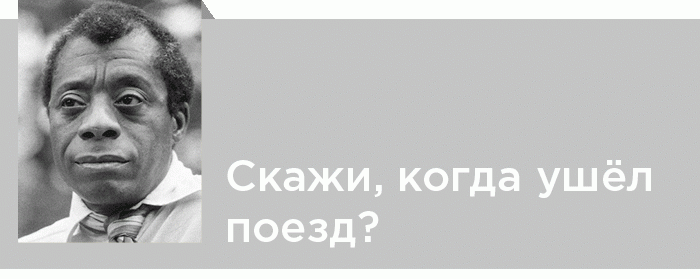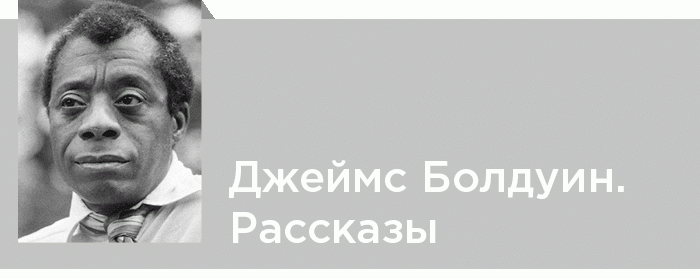Джеймс Болдуин. Цена билета
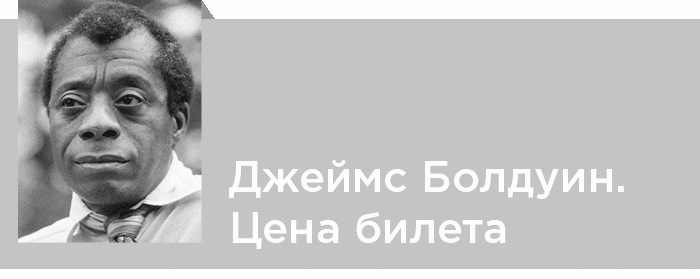
Т. Ротенберг
«Смерть писателя, разве что он так стар, что утратил живую связь с действительностью, всегда воспринимается как безвременная», — писал Джеймс Болдуин, размышляя о смерти Ричарда Райта, занимавшего наряду со многими яркими представителями афроамериканской культуры в его духовном мире особое место.
Райт умер в Париже в 1960 году. Болдуин прожил в Париже большую часть жизни. И умер во Франции, в своем доме на юге, 1 декабря 1987 года в возрасте шестидесяти трех лет. 8 декабря его отпевали уже на родине, в Нью-Йорке. Помещая сообщение о похоронах, журнал «Нью-Йорк таймс бук ревью» писал, что Болдуину «обязано целое поколение американских писателей — черных и белых». Еженедельник поместил надгробные речи четырех из них: Тони Моррисон, Майи Анджелу, Имаму Амири Бараки и Уильяма Стайрона. Тем, кому не довелось общаться с Джеймсом Болдуином, трудно понять светлую возвышенность их слов и оценить выбор фотографии на первой странице. Облаченный в длинный белый хитон, как бы парящий над землей, на которой он стоит, «Джимми» кажется загадочным юным ангелом, напоминающим непривычные для нас образы на картинах его друга — всемирно известного эфиопского художника Афеверка Текле.
Тони Моррисон подсчитала, что за свою жизнь Болдуин напечатал 6895 страниц. Для итогового сборника публицистики он отобрал ровно одну десятую опубликованного: почти семьсот страниц размышлений о прожитой жизни, ее драмах, открытиях и разочарованиях.
Не обретя покоя во Франции, ставшей страной его добровольного изгнания («Я покинул Америку потому, что сомневался, смогу ли выжить в пожаре, разгоревшемся вокруг проблемы цвета кожи», — вспоминал художник), он не раз возвращался в США — возвращался, но не мог жить в своем отечестве. Но и вдали от берегов Нового Света ему не удавалось забыть ни о том, что он черный, ни о том, что он американец. Крепнувшее с годами сознание того, что «банкет Запада кончился и солнце Запада зашло», неразрывно связывалось для него с убеждением, что путь из «западни истории» с неизбежностью будет долгим и трудным. И пройти этот путь предстоит вместе — черным и белым. Ибо, по мысли Болдуина, «история — это взаимность... Абсолютно очевидно: нельзя отрицать чью-либо историю, не отрицая и не презирая свою собственную... Нас разбросало, — продолжал свои невеселые размышления писатель, — каждого в свое собственное молчание... Но потеряны не все... Тот, кто не хочет отказаться от ответственности, начинает снова...»
Безвременная кончина помешала писателю завершить работу над романом о трех политических убийствах: Медгара Эверса, Малькольма Икса и Мартина Лютера Кинга. А названием рецензируемого собрания эссеистики он напомнил современникам о провидческих словах Лэнгстона Хьюза, озаглавившего один из сборников своих стихов «Билет в один конец» (1949). Жизнь нельзя прожить заново, нельзя исправить совершенных ошибок или вернуть потерянных друзей, утраченные иллюзии. Человек сам выбирает свой путь, свою судьбу: покупает «билет» и оплачивает его своей жизнью. Это и есть «Цена билета».
Джеймс Болдуин рано начал осмыслять свой путь, начал писать. Он писал рецензии на прочитанные книги и увиденные спектакли и фильмы, писал о поразивших его воображение людях и событиях. Его «история как роман», летопись художнического становления начинается в 1938 году, когда мальчишка из Гарлема попадает в диаметрально иной, незнакомый, волнующий мир Гринвич-Виллидж — мир искусства, где белых и черных, бедных и богатых уравнивало одно — талант. Конечно, и здесь никому не дано было поменять свой «билет», однако в Гринвич-Виллидж, как быстро понял подросток, человека оценивали сообразно главному в его натуре — таланту.
В среду артистической и писательской богемы Нью-Йорка он принес с собой тяжелое духовное наследие гарлемского детства: ощущение изначальной и непоправимой разделенности внешнего мира на «белое» и «черное» и «сокрушительное очарование отца», испытывавшего к старшему сыну сложное, противоречивое чувство любви-ненависти. Непредсказуемые вспышки отцовской ярости в ранние годы помогли будущему писателю «открыть в этом мире силу белых». В глазах Болдуина-старшего тщедушный, легко ранимый, мечтательный незаконнорожденный Джимми воплощал унижение, позор жизни. И неприятие этой жизни, ее неустроенности и неудач, в конце концов помутило рассудок страстного, импульсивного человека, прикончило его тогда, когда жена, годившаяся ему в дочери, готовилась произвести на свет его последнего ребенка. Со смертью отца ушла и ненависть к нему Джимми. Остались боль и «понимание того, что теперь долго придется ждать ответов на волнующие вопросы».
В Гринвич-Виллидж — поистине «другой стране» по сравнению с местами детства — в существование юноши вошли Мэриан Андерсон, Поль Робсон, звезды черного театра, черной музыки, черного кино. Здесь его понимали и любили. Отсюда он смог по-иному увидеть Гарлем, где белая учительница когда-то привила ему интерес к литературе и театру. Постепенно Болдуин начинает осознавать себя частью американской негритянской культуры. Проблема места этой культуры в жизни, сознании, истории Америки становится проблемой его жизни, существом его духовных поисков.
Именно в эти годы намечаются главные темы, занимающие Болдуина-публициста. Его интересуют факторы, сформировавшие его собственное мироощущение, расовые отношения, — первый включенный в антологию отрывок посвящен гетто, где он вырос («Гетто Гарлема: в Джорджии есть негр, в Гарлеме — еврей», 1948). В том же году Болдуин впервые выступает в роли критика, характерен и выбор книги: это «Американский миф» Росса Локвуда. Рецензент саркастически замечает, что автор «не хочет видеть, что с американским мифом что-то случилось». Тогда же появляется блестящая зарисовка президентских выборов в Атланте. Болдуин-репортер подчеркивает безразличие негров к политике: они уверены, что вся эта возня их не касается, они не ждут от правительства ничего хорошего.
Рубеж 50-х: Болдуин впервые попадает в Париж («Встреча на Сене: черный обнаруживает коричневого», 1950). Начавшиеся здесь встречи американских писателей-негров и африканских литераторов не могли не повлиять на мировоззрение молодого художника. Болдин остро почувствовал, что «большая часть американского опыта негритянского народа неотделима от жизни белого народа Америки». В известном смысле Европа оказалась для него чем-то ближе Африки.
К 50-м годам относятся первые выступления Болдуина на поприще театральной и кинокритики. Свою рецензию на голливудскую кинооперу «Кармен», сыгранную труппой черных исполнителей, он озаглавил «Кармен Джонс: темный цвет достаточно светел» (1955). Она может служить свидетельством постоянства угла зрения, ракурса видения Болдуина — интерпретатора произведений искусства. Любое явление культуры рассматривается им через призму расовых отношений. Такая позиция может порой показаться навязчивой, но она диктуется реальной исторической ситуацией. Она — яркий пример сознания, порожденного конкретным бытием. «Кармен» побуждает Болдуина сравнить насилие, запечатленное в произведении Бизе, с реальным насилием, царящим в негритянских гетто Америки. В новелле Мериме — литературном первоисточнике великой французской оперы — он не усматривает «подлинной человеческой причастности — ни друга, ни любовника». Симптоматично, как ни парадоксально, что от классики XIX столетия его анализирующая мысль легко переходит к характерным явлениям массовой культуры в США, эталоном которой (напомним, что речь идет о 50-х годах) Болдуин считает Микки Спиллейна: «Вот почему так важны для него (автора. — Т. Р.) все атрибуты мужского... Когда мужчина не способен любить женщину, он оказывается неспособным любить вообще, верить во что-либо; он попадает в полную изоляцию, может совершить любые преступления — потому что подобная изоляция невыносима». В утрате сущностного человеческого качества писатель видит знак смятения души американца, знамение грядущих перемен, «которые, подобно горькому лекарству, полезны для желудка».
«Мне нравится «Порги и Бесс», — пишет он в рецензии на экранизацию другой, не менее знаменитой оперы (1959). — Но я не считаю ее великой американской оперой. У нас ее еще нет. Преминджер приложил к ней свои белые руки... Когда-нибудь мы сами расскажем о себе правду. И с этого дня сможем назвать себя свободными людьми».
Между тем проблемы разрастались и углублялись. Франция оставалась чужой страной, американца тянуло из ее гостиниц в уличные кафе. Болдуин и здесь не обрел материальной обеспеченности. Однажды он даже попал в долговую тюрьму, из которой его вызволил друг. В городах США разгорался пожар борьбы за гражданские права, и писатель сознавал, что «честнее быть там, чем сидеть в Париже». Неоднократно он возвращался, ездил по Югу, ненадолго задерживался на Севере. Пережитое заставляло его изучать историю, думать о корнях, постоянно сопоставлять американскую историю с историей Европы, Африки. Каждая новая работа — роман, пьеса, сборник эссе — становилась звеном в цепи умозаключений. Каждый новый человек, оставивший глубокий след в сознании, становился еще одной вехой, порой превращаясь в героя современной мифологии, реальный и символический ее персонаж, значения которого так и не удавалось исчерпать в слове. Такими, на долгие годы захватившими художническое воображение Болдуина, фигурами стали Мартин Лютер Кинг и Малькольм Икс.
Особое место в творчестве писателя (и на страницах рецензируемого тома) принадлежит белым художникам слова, мастерам экрана, деятелям искусства разных стран и культур. В каждом обнаруживаются черты сходства и различия с автором эссе, его биографией и мировоззрением. Творчество сына протестантского пастора Ингмара Бергмана навело Болдуина на мысль о фильме-метафоре, который мог бы снять он сам, отпрыск негритянского проповедника-самоучки: «У меня нет северных саг, но у меня есть музыка Юга... Мой фильм начинался бы с кадров, в которых черные рабы поднимаются на борт корабля, носящего имя «Иисус»: белый корабль в черном море, с хозяевами белыми, как паруса, и рабами черными, как океан... Но у меня не получится так, как у Бергмана. В каком-то смысле ему легче с его прошлым, оно и дальше, и ближе...» («Северянин-протестант»).
В том же эссе, представляющем развернутое интервью с прославленным шведским режиссером (1960), мы находим и основанный на том же принципе отталкивания-сопоставления общий вывод о природе искусства, чрезвычайно важный для понимания творчества Болдуина: «Все искусство — своего рода исповедь, в той или иной степени «косвенная». Все художники, если им суждено выжить, вынуждены в конце концов рассказать историю целиком, исторгнуть свое страдание до конца».
Взволнованная исповедальность, отличающая писательский почерк Болдуина в любом из многих жанров его творчества, окрашивает одну из самых значительных работ, вошедших в рецензируемое собрание, — эссе о кино «Есть работа для дьявола» (1976). Представляющая несомненный интерес для киноведов-профессионалов, эта книга-размышление строго «кинематографической» тематикой отнюдь не исчерпывается. Скорее данная книга — о той неоднозначной, а подчас и двусмысленной функции, которую в давнюю пору невеселого гарлемского детства и отрочества автора, да и сегодня, при существенных коррективах на меняющийся характер американской действительности, продолжает выполнять «десятая муза» в существовании дискриминируемых представителей национальных меньшинств США.
Извращение изначальных гуманистических потенций кинематографа (для десятилетнего Джимми еженедельный сеанс в местном кинотеатре означал настоящий прорыв в «большую» действительность, никак не меньше) — такой представляется Болдуину сущность Голливуда как невиданно мощного аппарата насаждения расовых и социально-охранительных стереотипов. И пусть послевоенная «империя грез» во многом преобразила свой внешний облик, мимикрически приспособляясь к стихии демократических настроений «черных» и «коренных» американцев, «чиканос» и выходцев из Азии, для автора не секрет, что, по сути, в ее идеологической природе ничего не изменилось. Больше того: демагогически апеллируя к чувству национального достоинства афроамериканцев (примером такой демагогии было предложение владельцев одной из студий к Болдуину создать сценарий картины по нашумевшей «Автобиографии Малькольма Икс»), Голливуд делает все, чтобы так или иначе «нейтрализовать изнутри» заключенный в том или ином из произведений черной прозы или драматургии заряд революционного действия. Такая участь и постигла с постановочным размахом задуманный фильм по сценарию Болдуина, которого после многочисленных проволочек отстранили от какого-либо участия в процессе съемок. Нереализованный же сценарий в 1972 году вышел в свет под названием «Однажды, когда я блуждал во тьме».
Это — лишь один из лирических «сюжетов», составлявших подкупающее своей искренностью эссе «Есть работа для дьявола». Подкупает в нем и другое: зоркость и нелицеприятность наблюдений Болдуина в области развития так называемых «популярных жанров» кинематографа: фильмов-катастроф, фильмов ужасов и других. Эти наблюдения чередуются с емкими, лаконичными строками о встречах с актерами, музыкантами, писателями. Если одни из крупных художников нашего времени так и остаются для Болдуина в чем-то чужими (Бергман, Камю, Фолкнер), то Уильяма Стайрона он, напротив, не раз назовет «другом». Еще более прочувствованные строки писатель посвятит Норману Мейлеру («Черный парень смотрит на белого парня», 1961): «Норман — мой очень хороший друг... Для меня совершенно очевидно, что он — настоящий писатель, очевиден его неизмеримый писательский потенциал. Придет время, когда умолкнут газеты, улягутся сплетни и останется только его работа... Я думаю, что мы несем ответственность не только перед собой, но и перед своим временем, перед теми, кто придет после нас... Норман понимает нас... и было бы излишне говорить, что, когда у народа нет писателей, обладающих собственным видением, народ погибает». В неприязни американского обывателя к Мейлеру (затронувшей, стоит заметить, и часть критики, и представителей средств массовой информации) Болдуин видит закономерное явление: «Посредственность ненавидит все неординарное».
Однако хоть сам Болдуин прошел гораздо более суровые жизненные университеты, и он не был чужд иллюзий. Правда, иллюзии эти носили скорее этический, нежели политический характер. И тем не менее... Однажды ему очень захотелось поверить, что президент США — прежде всего верующий человек, а потом уже политическая фигура. И он обратился к президенту Картеру с письмом, в котором просил облегчить участь негров — политических заключенных. Но это едва ли не единственный случай самообмана, запечатленный в деятельности Болдуина-публициста и итоговой книге его публицистики.
Трудно сказать, часто ли обманывался Болдуин в людях, но несомненно, что ему очень хотелось верить в лучшее будущее молодого поколения американцев. Сетуя на растущую бездуховность социо-психологического климата в США, он призывал молодежь стремиться к общенациональным (и шире — общечеловеческим) идеалам, а не решать проблемы белых или черных в изоляции замкнутых стран или субкультур: «Вы — большинство. Перед вами мир. Стройте свое настоящее и создавайте свои этические ценности».
Но светлая вера писателя-гуманиста, стоит признать, зачастую не находила подкрепления в конкретном материале американской действительности, зорким наблюдателем и судьей которой Болдуин не переставал быть на протяжении четырех послевоенных десятилетий истории США. Этот материал, эта история давали слишком мало оснований для оптимизма. И у прозаика-мыслителя, всегда чутко вслушивавшегося в ритмы ее пульса, были все причины с горечью констатировать в одном из эссе: «Америка хочет чего угодно, но только не свободы — ни для себя, ни для других... Американские устои пришли в упадок, они не отвечают запросам реальности. Мир представляется американцам угрожающим, а другие народы — чужаками. И они не знают, что с ними делать. Американцы могут лишь наращивать военный бюджет... Насилие — ключ к американскому сознанию, на нем замешаны американские представления о мужественности... «Семья» Чарли Мэнсона — порождение этой зияющей пустоты... Я не уверен, что нынешняя сексуальная революция имеет отношение к сексу или к революции. Она поражает меня как реакция на духовный голод американской жизни».
Джеймс Болдуин был на редкость одарен талантом человечности. Чувство братства, человеческой близости не было для него отвлеченным понятием, привычным для сына проповедника, в юности собиравшегося стать пастором. У него было много настоящих друзей. С большой теплотой пишет он на страницах рецензируемой книги, например, о Марлоне Брандо и Аве Гарднер. «Старшей сестрой», человеческим и гражданским идеалом навсегда осталась для него Лоррейн Хэнсберри, памяти которой прозаик посвятил проникновенные строки («Дорогая Лоррейн...»). В глазах собратьев по цвету кожи, писал Болдуин, Хэнсберри была не просто драматургом, не просто художником слова, но «свидетелем». С той же любовью и преклонением отозвалась на его смерть молодая черная писательница Майя Анджелу. «Для меня, — сказала она на похоронах Болдуина, — благословением явилось то, что Джеймс Болдуин был моим братом».
Известность Болдуина в 60-80-е годы носила поистине интернациональный характер. Тем, кто знал его, кто читал его книги, безвременная кончина Болдуина принесла чувство невосполнимой потери. Для его читателей на разных языках и континентах наступила, если перефразировать заглавие позднейшей прижизненной книги его эссе, пора свидетельства невидимого: ушедшего писателя представляет ныне его обширное и многогранное творчество — 7000 опубликованных страниц, незавершенный роман о трех выдающихся сыновьях черной Америки, погибших в борьбе за гражданское равноправие, десятки, а может быть, и сотни страниц несобранных писем, дневников, заметок... Особое место в этом внушительном активе занимает автоантология эссеистики «Цена билета», подытожившая вехи трудного, порой мучительного, но всегда отмеченного бесстрашием художнического поиска и верностью гуманизму жизненного пути Джеймса Болдуина.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1988. – Вып. 5. – С. 63-68.
Произведения
Критика