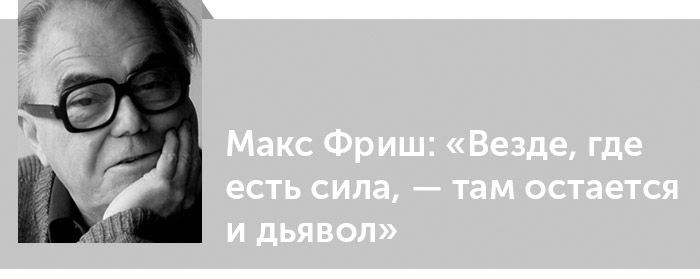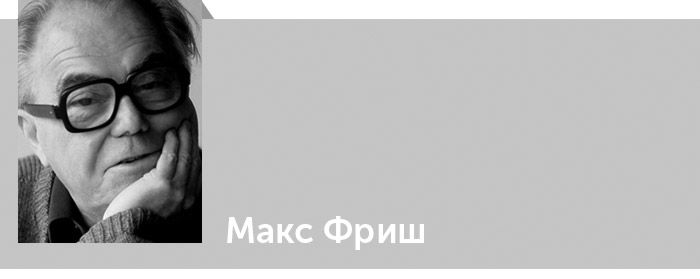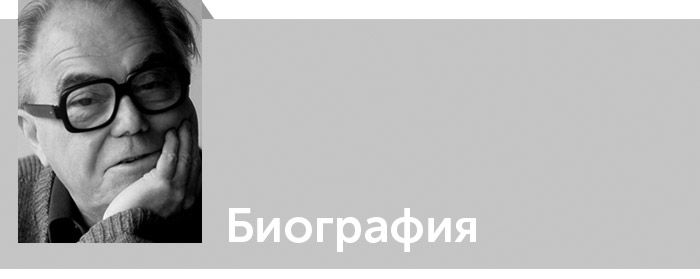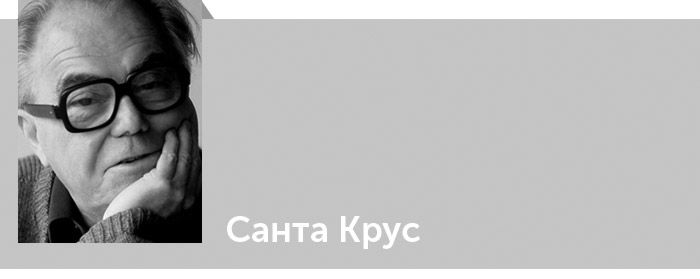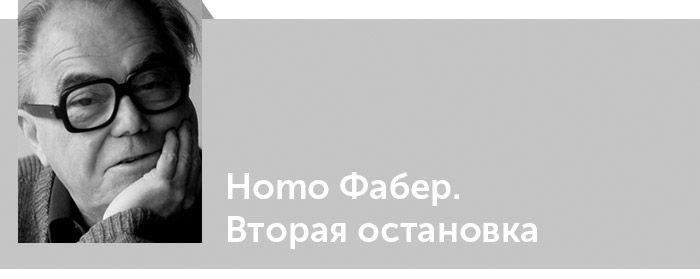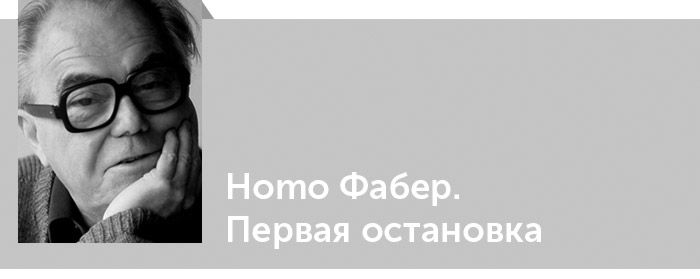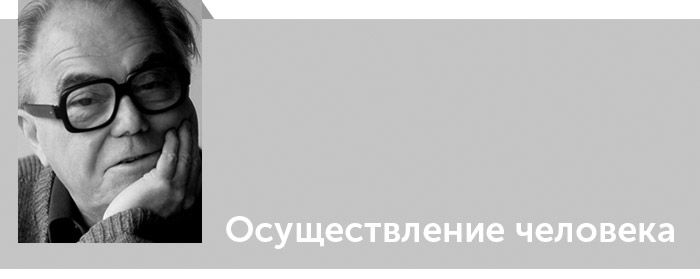Макс Фриш. Аналитик мечты
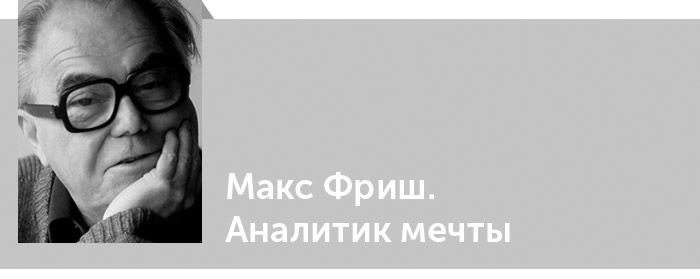
Марк Амусин
Макс Фриш — автор знаменитый и влиятельный в Европе второй половины прошедшего века. 15 мая 2011 года исполняется сто лет со дня его рождения. Повод поговорить о нем вполне достаточный. И все же задаюсь вопросом: почему меня, уже в который раз, влечет эта фигура, почему кажется, что нужно еще многое сказать о творчестве и судьбе Фриша?
Дело, наверное, в дразнящей протеичности его творчества, в невозможности “схватить” его статическую суть, даже меняя последовательно углы наблюдения и оптические инструменты. Фриш — один из самых нетипичных, ускользающих европейских художников второй половины ХХ века. Когда “археологи культуры” займутся пристальным изучением эпохи, они будут широко пользоваться его произведениями. Два эти утверждения как будто плохо согласуются. Но это нормально, когда речь идет о Фрише. Сам писатель противоречий никогда не чурался — скорее, он ощущал их как естественное состояние мира и среду своего обитания.
Наследие Макса Фриша не так велико по объему, но впечатляет жанровым разнообразием: романы и повести, пьесы, публицистика, мемуары. Особое место здесь занимают весьма оригинальные “дневники”, в которых актуальные заметки свободно сочетаются с эссеистикой и художественными набросками, — два тома таких дневников еще при жизни писателя получили широкую известность. Его тексты поражают калейдоскопическим богатством мотивов, чуть ли не балетными пируэтами сюжетов и смысла. Однако при внимательном рассмотрении за всем этим разнообразием обнаруживается некий общий знаменатель, некое глубинное и настоятельное влечение. Фриш — искатель иного и запредельного, не приемлющий обычный жизненный порядок, данный нам в ощущениях, правилах, привычках. Он тоскует по — недостижимой? — всеохватности, насыщенности, яркости бытия.
Может быть, секрет этой тоски — в неискоренимой детскости взгляда? Действительно, Фриш на протяжении всей жизни во многом оставался большим ребенком. Этот, скажем прямо, штамп имеет в данном случае вполне конкретный смысл. Ведь в чем главная особенность детского отношения к миру? Дети, отбрасывая все резоны и увещевания, вечно хотят невозможного: прожить не одну жизнь, а много; узнать, что говорят о тебе друзья, когда тебя с ними нет; побывать на собственных похоронах; съесть пирожок и сохранить его целым.
Не стоит отделываться привычно-пренебрежительным определением “инфантилизм”. Так ли уж глупы и наивны наши детские мечтания? Ведь в них не только недостаток знаний, каприз и прихоть, но и способность расцвечивать, “приумножать” действительность, нашу бедную, безальтернативную действительность. Суть этого мироощущения прекрасно выражена в словах из песенки Алисы (вложенных в ее уста Владимиром Высоцким): “О как бы хотелось, хотелось бы мне, / Когда-нибудь, как-нибудь выйти из дому / И вдруг оказаться вверху, в глубине, / Внутри и снаружи, где все по-другому”.
Но ведь подобные несбыточные желания как раз и развертываются тематически в произведениях Фриша, властно влияя на решения и поступки его героев. Проявилось это уже в удачном драматургическом дебюте — пьесе “Санта Крус”. Вполне подростково-романтический антураж: замок, экзотический остров, корабли, пираты, пиастры, любовь, ревность… Здесь вызываются на рандеву полярные модусы существования. Пелегрин, бродяга и бард, воплощает начало мечты, тоску человеческого духа по вечной молодости, вечному движению, абсолютной свободе. Он удивляется людям, погрязшим в трясине обыденности. Он жаждет охватить, испытать все многообразие жизни и потому боится остановиться в своем беге, обрасти ракушками оседлости, быта, длительных привязанностей. Единственная верность, которую он признает, — это верность каждому данному моменту бытия, своим ощущениям и влечениям в данный момент.
Противоположное начало представлено фигурой Барона — жизнестроителя, человека порядка и ответственности. В любых обстоятельствах он руководствуется чувством долга, которое всегда возвращает его к неизменной схеме поведения и отношений с людьми. Женщина, Эльвира, оказывается между этими полюсами, между изменчивостью и постоянством. Днем она преданная жена Барона, помощница в его трудах. Но по ночам, во сне, она возвращается в юность, в свою беззаконную и безрассудную любовь к Пелегрину.
В написанном десять лет спустя романе “Штиллер” мотив уклонения от житейских проблем и психологических “долгов”, мотив попытки к бегству развернут в намного более реалистических обстоятельствах. Анатоль Штиллер, молодой цюрихский скульптор, потерпев несколько болезненных поражений в личной жизни и самореализации, исчезает из родного города, чтобы начать за океаном другую жизнь в образе мистера Уайта. (Школьники и гимназисты, особенно российские, с давних пор были склонны отправляться в Америку после провала на экзаменах или любовного разочарования.) Содержание романа — отчаянное стремление изобличенного “прогульщика” не возвращаться “в школу”, в личностную оболочку и жизненные обстоятельства, от которых он бежал.
А взять чисто том-сойеровский ход с посещением собственных похорон! Фриш дает этот мотив наброском в романе “Назову себя Гантенбайн”, а потом подробно его развертывает в киносценарии “Цюрих транзитный”. Впрочем, главное, конечно, не в самой экзотической ситуации. Главное — головокружительная перспектива свободы, вдруг распахивающаяся перед человеком, которого окружающие по недоразумению сочли погибшим.
Сквозь эти повторяющиеся сюжетные коллизии просвечивают главные экзистенциальные заботы, может быть даже обсессии, обуревавшие Макса Фриша. Отразились они и в его поисках призвания и жизненного пути. В юности Фриш путешествовал на гроши, писал для газет репортажи, в том числе спортивные, сочинял прозу. Чуть позже решил стать архитектором. Архитектура в сущности — фантазия, взнузданная строгостью формул и конструкций, отвердевающая в плоти стройматериалов. Что же — союз мечты и действительности? В данном случае он оказался весьма проблематичным. После десяти лет совмещения архитектуры и литературы Фриш решительно выбрал последнюю.
Между тем “большой мир” бесцеремонно вторгался в частную жизнь индивида Фриша. Писатель вступал в пору человеческой и творческой зрелости в суровое время. А то обстоятельство, что он провел годы войны в своей благополучной Швейцарии, пусть и на солдатской службе, охраняя традиционный нейтралитет родины, наградило его устойчивым комплексом вины. В конце 40-х он много ездил по Европе. Разрушенные города Германии, разрушенные города Польши; пепел Освенцима и пепел Хиросимы, нависшая над цивилизацией угроза самоуничтожения — все это глубоко повлияло на его сознание. Нет, жизненный порядок, который привел к войне с ее чудовищными последствиями, не заслуживал приятия.
В известном смысле Фриш принадлежал к “поколению развалин”, как называли немецкую, да и всю западноевропейскую молодежь, оглушенную катаклизмом Второй мировой. Оглядываясь, они действительно видели лишь руины. Но одновременно это было и “поколение мечты”. В интеллектуальном пространстве Франции на передний план выдвинулся экзистенциализм. Антифашистски настроенные литераторы Германии объединились в Группу 47, ставшую брендом новой немецкой литературы. В итальянской культуре господствовали неореализм и левый католицизм.
Все эти духовные течения объединяло одно: разрыв с прошлым, отрицание основ буржуазной цивилизации, уверенность в том, что, начав с чистого листа, можно учредить не только более справедливую общественную систему, но и новый строй человеческих, межличностных отношений — без лжи, меркантилизма, борьбы за превосходство.
Фриш, при всей сосредоточенности на уникальном собственном “я”, обречен был совпасть с матрицей западного интеллектуала той поры. Левогуманистическая ангажированность, оппозиционность по отношению к господствующей системе оказалась для писателя естественной политической нишей. Впрочем, он и тогда, и в последующие годы стремился по всем вопросам придерживаться собственных, личностно выверенных взглядов, а не примыкать к партиям и лагерям.
Жизненный порядок, с которым Фриш отказывался мириться, имел две ипостаси. Первая — социально-политическая сфера, где существуют фашизм, войны, политическое насилие и демагогия, угнетение и эксплуатация. И писатель занимает по отношению ко всему этому вполне недвусмысленную позицию. В 40-е годы одна за другой появляются пьесы Фриша на актуальные темы: “Опять они поют”, “Китайская стена”, “Когда окончилась война”. Но в каждой из них, отталкиваясь от современнейших реалий, писатель переводил разговор в сферу широких, надвременных обобщений, размышлений о природе человека и цивилизации.
“Китайская стена”, где тысячелетняя история и современность причудливо переплетаются, отмечена влиянием брехтовского “эпического театра”. С Брехтом Фриш в ту пору познакомился — и подпал под его обаяние. Что привлекало его в этом суховатом рационалисте, почти догматике, обладавшем остро нацеленным, гротесковым воображением? Может быть, он тянулся к Брехту, уже знаменитому, как ученик тянется к учителю, вдруг оказавшемуся не таким уж строгим, вполне доступным? Действительно, Фриш отмечал в своих дневниках особую простоту, беспафосность повадок Брехта, упразднявших всякую дистанцию между мэтром и его партнерами по общению. Но привлекало его и другое: Брехт подчинил свою жизнь мысли, он ищет у других не признания, а стимулирующих интеллектуальных вызовов. Он, со своим подчеркнутым антиромантизмом, трезвостью и материализмом, — подлинный поэт современности.
Впрочем, жесткость марксистских убеждений Брехта оставалась Фришу чужда. И тут — снова парадокс. Создатель “эпического театра” свято верил в действенность своего творческого метода, в его способность изменить мышление и жизненную позицию зрительской аудитории. Фриш, по натуре более склонный к увлечениям и обольщениям, был намного скептичнее своего старшего товарища относительно преобразующих возможностей искусства.
Гораздо глубже, однако, уязвлял Фриша другой атрибут реальности — “антропологический детерминизм”. Именно он ответствен за тоскливую однолинейность жизненного пути. Именно он обрекает личность на размеренное, механическое существование, на подчинение рутине и ритуалу.
Мы живем, не чувствуя собственной жизни. Отшлифованный график, повторение привычного и пройденного: проснуться, позавтракать, на работу, с работы, новости, ужин, постель… Иногда происходят события, чаще — случаи, да и те обычно доходят до нас газетной строкой или телевизионной картинкой. И за этим регулярным мельтешением мы не замечаем или не осознаем, как бездарно и безнадежно тратится скупо отмеренное нам жизненное благо, как каждое “завтра” или просто “потом” приближает нас к концу… А герои Фриша жаждут вечной новизны и свежести восприятия, стремятся переживать каждое мгновение, каждое свое психофизическое состояние как неповторимое, с наивысшей интенсивностью и остротой.
Перед писателем вставала непростая задача: совместить прихотливо-субъективные устремления его натуры, мечтательно-экзистенциалистскую фронду против общего порядка бытия с манифестацией общественной позиции. Попытку синтеза он предпринял в пьесе “Граф Эдерланд” (первая редакция — 1951). Главный ее герой, прокурор, десятилетиями добросовестно служил государству и закону. Вдруг, посреди жизни, ему открывается вся убогость, тусклость жизни, которую он вел — или она вела его? Триггером становится странное судебное дело: банковский кассир, доселе неприметный и дисциплинированный, без видимых причин зарубил топором привратника своего банка.
Тут с глаз прокурора словно спадает пелена: “Бывают минуты, когда удивляешься скорее тем, кто не берет в руки топор. Все довольствуются своей призрачной жизнью. Работа для всех — добродетель. Добродетель — эрзац радости. А поскольку одной добродетели мало, есть другой эрзац — развлечения: свободный вечер, воскресенье за городом, приключения на экране <…> Надежда на свободный вечер, на воскресенье за городом, эта пожизненная надежда на эрзац, включая жалкое упование на загробную жизнь...”
От речей прокурора мороз по коже. В этом безжалостном зеркале — наш удел, без утешительной дымки надежды, без амортизирующих прокладок привычки. Прокурор (Фриш?) замахивается на весь строй отношений в современном обществе, на систему мотивов и стимулов человеческого поведения!
И вот герой пьесы выскальзывает из привычной жизненной яви в сновидческую и жуткую реальность легенды. Он обретает себя заново в образе графа Эдерланда из старинного предания, идущего по земле с топором в руке, вершащего расправу над стражами порядка и незыблемости. Казалось бы, он далек от каких-либо революционных планов. Его цель — найти тот блаженный топос, где можно “жить без всякой надежды на другой раз, на завтра”, где все будет — “здесь и сегодня”. Таким местом видится ему остров Санторин, где — скандирует Эдерланд — “высоко над шумящим прибоем — город. <…> Город словно из мела — такой белоснежный. Он протянул свои башни навстречу ветру и свету <…> в чистое светлое небо, не оставляющее надежд на потусторонний мир...”
Но тут — резкое переключение смысловых регистров. Герой, стремившийся лишь прорубить путь к мечте сквозь джунгли бюрократизированного мира, припасть к истокам подлинности, вдруг видит себя во главе целого повстанческого движения. Обездоленные и аутсайдеры всех сортов объединяются “под знаком топора”, чтобы крушить опостылевший порядок.
В финале пьесы неумолимая логика обстоятельств ставит Эдерланда перед странным выбором: взойти на эшафот — или возглавить правительство. Поскольку оба варианта очень далеки от исходных намерений героя, ему остается лишь снова прибегнуть к магии сна, чтобы вырваться из закольцованной коллизии: “Я вам приснился… Теперь — быстро — проснуться… проснуться… проснуться”.
Соединение в этой пьесе-параболе экзистенциального бунта с мотивами социального протеста и рефлексией о парадоксах политического действия многим тогда показалось неорганичным, искусственным. Среди критиков оказался и молодой друг Фриша, Фридрих Дюрренматт, тоже претендовавший на первенство в швейцарской литературе. Сам Фриш не был удовлетворен художественным результатом и создал еще две редакции пьесы. А ведь можно увидеть в этой “несведенности” мотивов новаторское достоинство: прокурор, возвещающий приговор цивилизации рутины и службы, и Эдерланд, безответственно вовлекший тысячи людей в кровавый, безнадежный мятеж, — не одно и то же “лицо”. Точнее, драматургический статус двух этих ипостасей образа — разный.
Писатель продолжал искать некую универсальную парадигму, которая покрывала бы и его общественно-политический критицизм, и его сугубо индивидуалистические порывы к освобождению от всяческих уз и ограничений. И заветное слово нашлось — Утопия. Именно в утопической перспективе протест “едоков хлеба” против скудости их жизненных условий сближался с тоской поэтов о царстве гармонии, свободы и спонтанности.
То был краткий исторический промежуток, в котором понятие “утопия” не выглядело одиозным или заслуживающим пренебрежения. С легкой руки нетрадиционного марксиста-философа Эрнста Блоха оно вошло в обиход многих художников и интеллектуалов Запада, отвергавших унылую реальность зрелого капитализма, но и не готовых принимать штампы советской пропаганды или связывать себя партийно-коммунистической дисциплиной. Двум типам детерминизма и конформизма — восточному и западному — они противопоставляли “принцип надежды”: не наивный оптимизм, а убежденность в том, что следование идеалу, сколь угодно запредельному, придает смысл жизни и меняет мир, окружающий тебя.
(Отдельный разговор, выходящий за рамки этого эссе, — особое место, которое занимала во внутреннем мире Фриша Россия. Россия, с ее просторами и такой чужой, но влекущей культурой, служила этому швейцарцу-диссиденту залогом иных возможностей, иного “чувства жизни”. К тому же под знаком Утопии Фриш неожиданно сближается с поисками русских мыслителей и художников, в частности Платонова. Вспомним — в “Счастливой Москве” Платонов, задолго до Штиллера и Эдерланда, вдруг заставляет своего героя Сарториуса начисто поменять свою идентичность, обернуться новой личностью — и все ради разрушения рамок, расширения своего экзистенциального пространства.)
Для Макса Фриша идея утопии была важна и в связи с опытом его любимого автора, Роберта Музиля, который в своем монументальном и неоконченном “Человеке без свойств” проникновенно рассуждал об утопии как о прибежище и путеводной звезде всякого истинного художника и, шире, всякой неординарной личности. Герой романа Ульрих и есть человек-утопия: он не хочет сливаться с халтурной, приблизительной действительностью, он верит, что предназначен для будущего, которое дано пока лишь в проблесках и предчувствиях, и с веселым презрением отказывается сотрудничать с “сущим”, признавать его онтологический приоритет.
Фриш принимает эту установку — она отвечает его изначальному несогласию с всеобщим “порядком вещей”. И в своих пьесах и романах зрелой поры, то есть 50 — 60-х годов, он, в духе утопии и принципа надежды, экспериментирует с идентичностью, с версиями судьбы и жизненной позиции, с формами “сопротивления” обществу — в попытке переиграть унылую реальность.
Вот искрометная философская комедия “Дон Жуан, или Любовь к геометрии” (1953). Здесь автор облекает в изящный театральный реквизит серьезнейшие размышления о свободе, о бремени страстей и стереотипов. Дон Жуан у Фриша — Пелегрин навыворот, его влечет к себе все неизменное, себе тождественное. Геометрия в глазах героя пьесы воплощает ясность, надежность бытия, в ней — образ бесконечности. Эмоциональная зыбкость, определяющая человеческие отношения, страшит его. Накануне свадьбы с донной Анной, в маскарадную ночь он встретил девушку в маске — и покорил ее. По чистой случайности девушка эта оказалась именно донной Анной, тьма и соблазны ночи свели жениха и невесту. Но на месте каждого из них мог оказаться другой/другая! Дон Жуана осеняет: нельзя строить свою жизнь на песке переменчивых чувств и влечений! И он бежит из-под венца, из марева эмоций к бодрящей ясности одиночества и математической логики.
Герой, как и Пелегрин, как и Ульрих у Музиля, отстаивает — на свой лад — духовную и поведенческую независимость, право “играть в шахматы в публичном доме”. Но Фриш тут же демонстрирует границы, которые действительность ставит самоопределению личности. Случайно оказавшись в роли соблазнителя, Дон Жуан оказывается не в силах избавиться от нее, уйти от стереотипа, который навязывает ему окружение. Он вязнет в трясине инспирированных невольно вожделений, становится жертвой мифа о себе самом.
В этом смысле пьеса перекликается с опубликованным год спустя “Штиллером”. Ведь главная проблематика романа возвышается над плоскостью житейско-психологических комплексов героя и его отношений с ближними. Штиллер не просто бежит от своей проигранной судьбы, пытаясь “сменить кожу”. Он скорее ставит эксперимент: может ли человек вовсе обойтись без прошлого (как Петер Шлемиль у Шамиссо пытался обойтись без тени), без жесткого “имиджа”, в который тебя всегда загоняет взгляд “других”.
“Андорра”, самая знаменитая пьеса Фриша, — тоже о взгляде “других”. Это притча о том, как клеймо чужака, еврея в частности, обособляет и “овеществляет” человека. Благонравные бюргеры среднеевропейской (модельной) Андорры уверены, что мальчик Андри — еврей (на самом деле он кровный андорранец, внебрачный сын местного учителя). На сцене разыгрывается мистерия отчуждения, выталкивания человека из социума в гибельную пустоту. “Мнение народное” наделяет Андри стереотипными “еврейскими” качествами, которые ему совершенно не свойственны: алчностью, трусостью, душевной холодностью, неспособностью к производительному труду.
В “Андорре” с блистательной наглядностью демонстрируется процесс прогрессирующего отторжения “жида” окружающей средой: от глухой неприязни и стремления замкнуть юношу в рамки его мнимой национальной идентичности, через подозрения и ложные обвинения, к акту коллективного принесения чужака в жертву.
В романе “Homo Faber” Фриш бросает вызов технократическому — в самом широком смысле слова — мироощущению. Он подвергает героя, образцового инженера Вальтера Фабера, череде совпадений и испытаний, никак не укладывающихся в теорию вероятностей. Фабер находит своего старого друга повесившимся на заброшенной плантации в Центральной Америке; девушка, встреченная им на океанском лайнере и ставшая его любовницей, оказывается его дочерью; мало того, вскоре она погибает в результате несчастного стечения обстоятельств. Сам Фабер тоже обречен — он болен раком. И все это… нет, не скажем “из-за того, что…”. С точки зрения расхожей морали некоторая душевная черствость и себялюбие не составляют вины. Автор избегает слишком явных параллелей с античной трагедией Рока, даром что главные события романа разыгрываются на земле Эллады. Здесь уместнее оборот “для того, чтобы...”. Новый, драматический опыт меняет человеческую стать героя. В финале он постигает мир, с которым расстается, в его чувственном богатстве, в насыщенности его красок, звуков, запахов, через метафоры и образы, через радость и боль, а не в “оцифрованных”, среднестатистических параметрах.
И все же результаты изощренных философско-психологических экспериментов, которые ставил Фриш в своих произведениях, не назовешь утешительными. Герои его, как правило, проигрывают свои партии. Им не удается выпрыгнуть из собственной шкуры, переменить участь, избавиться от отчуждения, одолеть рутину и инерцию. Уязвимая, трепещущая человеческая “самость” бьется в сетях природного и социального порядка, как птица в тенетах.
Собственную судьбу писатель тоже рассматривал скорее как череду личностно-творческих трудностей и поражений — особенно в том, что касалось семейных уз и отношений с женщинами. Остановиться на этом моменте необходимо, даже при всем уважении к его частной жизни — тем более что сам Фриш постоянно превращал перипетии своих браков и партнерских союзов в материал для художественного анализа.
В конце 30-х он после длительного романа расстался с невестой Кэте Рубензон, еврейкой из Германии (отзвуки этого события явственно слышны в “Homo Faber”). Первый брак Фриша, с Гертрудой Констанцией фон Мейенбург, продержался лет двенадцать, после чего писатель оставил семью, в которой было трое детей. Самым драматичным опытом его личной жизни стала, очевидно, встреча с замечательной австрийской поэтессой Ингеборг Бахман, которая принесла Фришу подлинное счастье, но и тяжелые переживания. Могла ли совместная жизнь двух столь незаурядных творческих личностей обойтись без страха утратить что-то из своей свободы, без соперничества, без невольной борьбы за “приоритет”? А к этому примешивалась и намного более банальная ревность… В повести “Монток” — “это искренняя книга, читатель” — Фриш деликатно и откровенно коснулся некоторых обстоятельств этого жизненного романа.
Были и другие брачно-партнерские союзы, в том числе и длительные. Как правило, жены и подруги писателя были изрядно младше его. С Марианной Элерс, родившейся в 1939 году, Фриш прожил дольше, чем с кем бы то ни было. Они зарегистрировали свой брак в конце 60-х, а десять лет спустя и эта связь распалась. В чем тут дело? Может быть, Макс Фриш — в точности его герой Пелегрин, не способный терпеть долго семейные узы, всегда жаждущий новизны? Создавая образы Пелегрина, а позже Штиллера, писатель, конечно, опирался на интроспекцию и в чем-то предугадал собственную судьбу. Но дело не только в этом. Увлечения, кризисы, разрывы, глубокое недовольство партнершами и собой — все это было частью литературно-жизненного экспериментирования. В отношениях между мужчиной и женщиной Фриш тоже руководствовался утопическими установками. Он жаждал союза, в котором интенсивность чувств и родство душ партнеров, их равенство и взаимная открытость способны превозмочь монадную замкнутость всякого индивидуального существования.
Отсюда — часто повторяющийся в его прозе символический мотив обнажения, сбрасывания одежды и кожи. В жизни это оборачивалось тягостными приступами гнева, которые он следующим образом описывает в “Монтоке”: “Я не выношу сам себя. Я не могу проснуться, как просыпаются посреди невыразимо кошмарного сна. <…> К благоразумию возврата нет, благоразумие оскорбляет меня, оно меня унижает. <…> А ведь начал я так спокойно; то, что я имел в виду, был не упрек, а нечто гораздо более важное: правда, моя правда. Я разрываю на себе рубашку, но хочу-то разорвать кожу. <…> Я с радостью умер бы в этот миг, только бы хоть раз понятно выразиться, ничего не требуя”.
С годами тень разочарования, одиночества все более сгущалась над ним. Впрочем, многие из его друзей и коллег, из знаменитых писателей, интеллектуалов Европы того славного периода, потерпели личностное и экзистенциальное поражение. Ингеборг Бахман лет через десять после расставания с Фришем умерла в римской больнице от ожогов, полученных при пожаре в доме. Существует версия, что истинной причиной ее смерти стала невозможность принимать в больнице наркотики, к которым Бахман пристрастилась. В 1970 году покончил с собой другой знаменитый поэт, тоже находившийся в любовной связи с Бахман и, конечно, хорошо знакомый с Фришем, — Пауль Целан. А Уве Йонсон, замечательный прозаик и младший товарищ Фриша (их переписка издана отдельным томом)? И его брак потерпел крушение, и он умер в одиночестве, по сути в эмиграции, при странных обстоятельствах — труп его обнаружили спустя недели после смерти.
Макс Фриш дружил с Дюрренматтом, с Грассом, с Мартином Вальзером — и эти дружбы распались. Да, творческим личностям трудно поддерживать нормальные человеческие отношения. Скажете — старая истина! Верно. Однако на примере именно этой генерации — немецкоязычных литераторов, получивших известность после Второй мировой войны, — она подтверждается с особой наглядностью. Казалось бы — властители умов, законодатели интеллектуальной моды, соль и совесть общества… Но задумаемся — не были ли они скорее кучкой художников, идеалистов и протестантов, с очень тонкой кожей или вовсе без оной, остро переживавших свой разлад с окружающим миром, сирость в нем?
Поэтому они тянулись к себе подобным, к “братьям по духу”. Но людям, постоянно находящимся под светом медийных прожекторов, живущим в атмосфере эстетических, политических, групповых споров и соперничества, обязанным постоянно высказываться по самым разным вопросам, вдвойне трудно относиться друг к другу непосредственно и искренне. Врозь им было зябко, неуютно, вместе — тесно. Отсюда — охлаждения, конфликты, разрывы.
Накапливавшуюся годами напряженность и неудовлетворенность строем своей жизни Фриш излил в двух главных произведениях 60-х годов: романе “Назову себя Гантенбайн” и пьесе “Биография”. Нет нужды говорить, что активным эмоциональным фоном обоих произведений служит стремление преодолеть межличностные барьеры и житейские ограничения, достичь блаженного состояния подлинности.
В художественном пространстве “Гантенбайна” реально-условная человеческая судьба разлагается на элементы, разворачивается веером вариантов, и каждому из них даруется возможность воплощения, самобытия. Несвязанные поначалу эпизоды и наброски “собираются” постепенно вокруг двух сюжетно-образных стержней, обозначенных именами главных персонажей — Эндерлин и Гантенбайн. Истории обоих — версии осмысления неким повествующим “я” неудачного любовно-брачного опыта, поиски более счастливого, пусть и воображаемого, исхода.
Первый вариант — уже знакомая попытка вообще уклониться от колеи обыденности. У Эндерлина завязывается роман со случайно встреченной женщиной. И он отчаянно пытается удержать это приключение/переживание на стадии прекрасной однократности, спонтанности, не дать ему перейти в предсказуемую стадию длящейся любовной связи. Ведь продолжение известно: обрастание общими знакомыми, житейскими ритуалами, пересудами, повторяемость, привыкание. И как горький итог — утрата партнерами живого интереса друг к другу: “Вот вы, стало быть, здесь лежите, пара с мертвыми для любви телами, каждую ночь в общей комнате. <…> Вот вы, стало быть, здесь живете”.
Другой мотив, связанный с Эндерлином, — ситуация осведомленности о собственном конце. Человек прочел не предназначенное для его глаз медицинское заключение: жить ему — не более года. Изменится ли его образ поведения в свете этого беспощадного знания? Впадет он в отчаяние или сохранит достоинство, обретет неведомую раньше свободу?
Вариант Гантенбайна — попытка решения жизненных проблем игрой в слепоту. Герой добровольно надевает черные очки слепого — “что толку видеть?” — и освобождается от необходимости замечать раздражающие, провоцирующие на конфликт моменты и обстоятельства, реагировать на них. Такая модель поведения порождает множество смешных и печальных коллизий, сопровождаемых проницательными рассуждениями о природе семейной жизни, об отношениях членов пары друг с другом и с окружающим миром. В итоге выясняется, что и эта форма “преодоления быта” требует немалых психологических затрат — выдержки, осторожности, изобретательности. А главное — и она не может заменить душевной деликатности и щедрости, готовности понимать и прощать.
Житейско-психологические итоги этого моделирования окрашены экклезиастовым скептицизмом. Все возвращается на круги своя, преодолеть законы жизненной гравитации не удается, какую маску на себя ни примеряй: “Мне она понемногу надоедает, эта игра, которую я уже знаю <…> действия и отказ от действия взаимозаменяемы; иногда я действую лишь потому, что отказ от действия, точно так же возможный, тоже ничуть не изменит того факта, что время проходит; что я старею”.
Но материя и форма фришевской прозы противятся этой фаталистической примиренности. И тут надо вернуться к природе и определениям Утопии, занимавшей столь важное место в жизненном мире Фриша. Задумаемся: разве литература как таковая не есть “утопия в пути”? Литературный текст — “иномирие”, где власть принадлежит воображению. Осуществляя творческий проект, автор обретает если не всесилие, то демиургическую власть, строит замок, где он сам себе король.
Могут сказать: литература тоже принадлежит сфере “всеобщего”, а значит, неподлинного, в ней приходится пользоваться языком с его нормами и штампами, в ней господствуют правила сюжетосложения и жизнеподобия… Но текст тексту рознь. Макс Фриш был одним из тех, кто в ХХ веке осуществлял литературную революцию, ниспровергал принятые конвенции и условности, умножал степени повествовательной свободы.
Начат этот “поход” еще в пьесах 40 — 50-х годов. В “Санта Крус”, “Опять они поют”, “Графе Эдерланде” автор, пользуясь оригинальными композиционными приемами, учреждал нестандартные хронологические связи, иной строй причинно-следственных отношений. Второй акт “Санта Крус” — сон, который видит героиня пьесы Эльвира, возвращаясь в нем на семнадцать лет назад, к первой встрече с Пелегрином. Сон здесь — магическое устройство, свободно сочленяющее модусы воображаемого и реального, позволяющее героям легко скользить из настоящего в прошлое и обратно. А управляет этим устройством поэт Педро: он участвует в действии и в то же время наблюдает его со стороны, ему ведомы концы и начала этой истории. Сон и всеведущий комментатор совместно сооружают ажурнейшую “ловушку для времени”, реализуя метафору вечного возвращения. Раз за разом Эльвира отдается своей любви и идет за Пелегрином, раз за разом Пелегрин, пресытившийся любовью, оставляет женщину одну на берегу, снова и снова Барон, отправившийся на поиски неизведанного, останавливается на краю авантюры, чтобы протянуть руку Эльвире, спасти ее.
Сходным образом в “Графе Эдерланде” сон становится и движителем драматического действия, и залогом вариативности бытия, его “податливости” перед напором воображения и желания. А в пьесе “Опять они поют” Фриш непринужденно вводит план потустороннего существования, которое своей суровой чистотой оттеняет мелочность, ограниченность, порой злое безумие “этого мира”.
Но в “Гантенбайне” утопические посылки “внедряются” в ткань текста наиболее последовательно и изощренно. Повествующее “я” здесь особенно изменчиво и активно, оно постоянно генерирует все новые ракурсы изображения и анализа. Время тут может течь вспять, биографии героев — претерпевать скачкообразные изменения, рассказчик поочередно идентифицируется с каждым из них, интонационный регистр охватывает диапазон от проникновенной исповедальности до саркастической отстраненности.
Особое достоинство ситуационной модели Гантенбайна — в ее гибкости: она легко отделяется от плоскости отношений пары и транспонируется в другие жизненные сферы. Например, ее можно использовать для критики социального конформизма: “Мир ему [Гантенбайну] будут представлять таким, каков он в газетах, и, притворяясь, будто он верит этому, Гантенбайн сделает карьеру. Недостаток способностей может его не заботить; миру как раз и нужны такие люди, как Гантенбайн, которые никогда не говорят, что они видят, и начальники будут его высоко ценить; за материальными следствиями такой высокой оценки дело не станет”.
Но тут же выясняется, что маска слепого может выполнять и провокативную функцию: “Не обойдется, вероятно, и без неловкостей, например, если он встретит господина, который представляется как монсеньор, а Гантенбайн по слепоте спросит, кто же это прежде говорил о └еврейском отродье”; говорил-то ведь сам монсеньор. При этом они будут есть икру”.
А вот Гантенбайн является в гости к рассказчику, старому приятелю — и тот, восполняя слепоту гостя, свежим взглядом оценивает изменения в своем образе жизни и статусе: оказывается, он, при всем своем радикализме, принадлежит теперь к сословию богатых…
Еще один сдвиг — и Гантенбайн в парадоксальной роли незрячего гида: попробуйте-ка, перескажите слепому свои впечатления от лицезрения античных руин и прочих достопримечательностей. “Некоторые так жалеют его, что в поисках слов, которые дали бы ему представление о священности этих мест, сами начинают видеть. Слова их беспомощны, но глаза их оживают...”
Что же здесь утопического? А общая стратегия текста и его “фактура”, оспаривающие безальтернативность эмпирического существования. Автор, высшая повествовательная инстанция, демонстрирует здесь свое творческое могущество и одновременно приобщает читателя к “умной игре рассудка”, раскрывает многодонность, неисчерпаемость реальности, взятой под знаком “преображающего воображения”.
Фриш еще с начала 60-х годов, со времен создания “Гантенбайна”, очень много размышлял на тему старения, с плохо скрытой горечью отмечая первые его признаки. Со временем этот интерес становился почти обсессивным. В своих “Дневниках 1966 — 1971” писатель составлял длинные опросники, в которых анализировал самые разные аспекты проблемы — психологические, биологические, социальные. Самоощущению человека в старости полностью посвящена повесть “Человек появляется в эпоху голоцена”. Вряд ли это объяснялось одним лишь страхом немощи и неизбежного конца. Фриш был одним из самых чутких исследователей процесса истекания песка в часах — и не только отдельной человеческой жизни. Он проникновенно изображал морщины, склеротические прожилки, возрастные приращения и превращения на коллективном “портрете Дориана Грея” современной цивилизации. Фриш чувствовал, что, как индивид и художник, он репрезентирует определенный фазис европейской духовной жизни, близкий к завершению.
Поколение “развалин и мечты”, поколение писателей и интеллектуалов, оказавшихся на первых ролях в 40-е, утрачивало позиции. Все их попытки раскачать общественную рутину, катализировать социальные и культурные перемены — призывами к бунту или бродяжничеству, к критическому мышлению или панэротизму — оказались безрезультатными. Был момент, когда цель казалась достижимой — жаркое лето 1968 года. Но европейская молодежная революция захлебнулась. Питавшая этих людей эпохальная духовная энергия явно шла на спад — и это совпало для многих с угасанием энергии личностной. Некоторые успели умереть молодыми.
Фриш, проживший долгую жизнь, в полной мере испил чашу разочарования. Разочарования, сказал я? Да разве он был очарован надеждой на реальное преображение человеческой природы и общественных отношений? Ведь речь мы тут вели об утопии, о виртуальном пространстве мечты. Тем не менее он с горечью признавал в 80-е годы, что близкие его сердцу концепции социальной справедливости и подлинной демократии оказались на грани банкротства.
“Реальный социализм”, существовавший в странах Восточного блока, был очень далек от его идеалов и упований. В европейско-американской ойкумене по-прежнему торжествовали отчуждение, потребительство, социальный эгоизм (одно из публицистических выступлений Фриша на эту тему называется “В конце Просвещения стоит Золотой телец”). Неудивительно, что под старость Фриш был гораздо ближе к “критическому пессимизму” Франкфуртской школы, чем к марксистско-брехтовской вере. “Франкфуртцы”, как известно, декларировали одновременно полную дегуманизированность позднекапиталистической цивилизации — и ее тотальность, практическую незыблемость.
(Кстати, почему судьбы Просвещения были так важны для писателя, заплатившего щедрую дань постмодернизму? Наверное, потому, что в культурной почве Просвещения укоренен тип человека, на который Макс Фриш ориентируется как на высокую и недогматичную норму, — человека, заинтересованного в мире и себе самом, вопрошающего, действующего, любящего, страдающего и постоянно рефлексирующего по поводу своего удела и своей свободы.)
И все же “принцип надежды” оставался стержнем его мироощущения. В одной из своих поздних речей (знаменательно озаглавленной “Мы надеемся”) Фриш произносит следующие слова: “Утопия, будь то утопия братского общества без господства человека над человеком, или утопия брака без подчинения <...> или утопия любви, которая не творит себе кумира из любимого <…> или утопия постоянной готовности к формированию и реформированию самого себя, <...> короче, утопия творческого, а значит, осмысленного существования между рождением и смертью — не дискредитируется нашей неспособностью └дотянуть” до нее. <…> Утопия необходима. Она — магнит, который не отрывает нас от действительности, но задает направление нашей жизни на протяжении двадцати пяти тысяч рутинных дней”.
И сегодня, когда дух времени, Zeitgeist, от лица которого говорил (играл) Макс Фриш, иссяк, наследие писателя не покрылось хрестоматийным глянцем. Своими пьесами, романами, эссеистикой и — шире — всей своей творческой и личностной активностью он дал заражающий пример противостояния конформизму, “сумеркам смысла”, энтропии. “Творческое, а значит, осмысленное существование” — это слова существенные, ключевые. Аннулировать свинцовые законы жизненной гравитации не дано, но сопротивляться им нужно. И Фриш занимался этим на протяжении всей своей жизни — упорно и изобретательно, сопрягая фантазию с анализом, серьезность — с комизмом, скепсис — с мечтой.
Тот, кто прочтет книги Макса Фриша, не сможет не “заразиться” его темами, вопросами, которые тот обращал к самому себе, к обществу, к бытию. Я приветствую входящих в это особое, магическое пространство. Безмятежнее их жизнь не станет. Но насыщеннее, интереснее — несомненно.