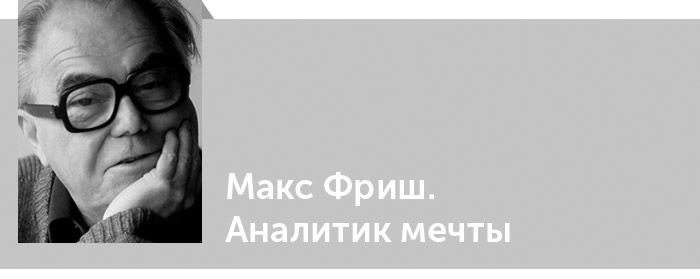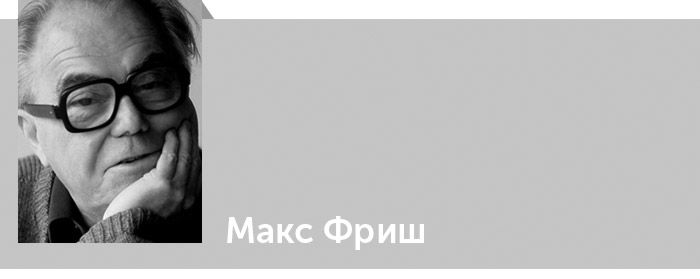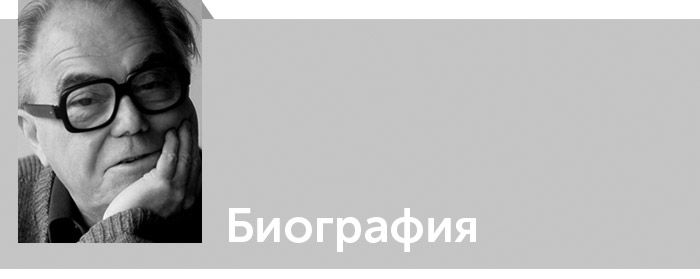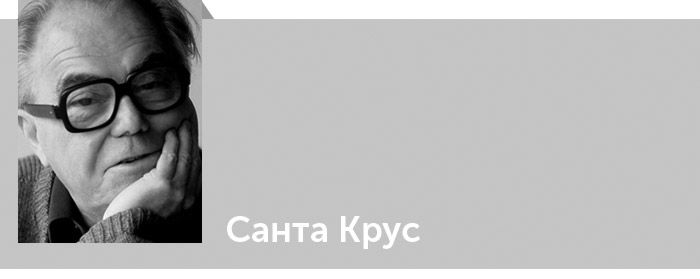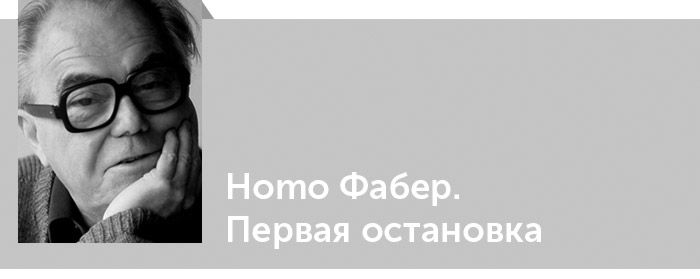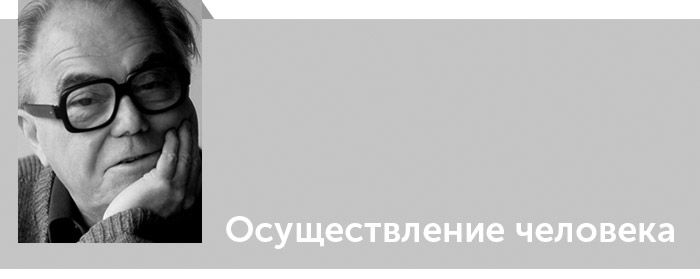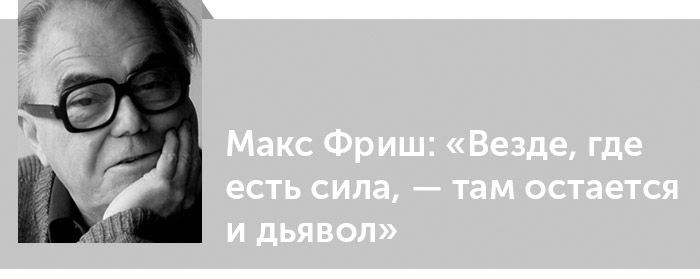Макс Фриш. Homo Фабер. Вторая остановка
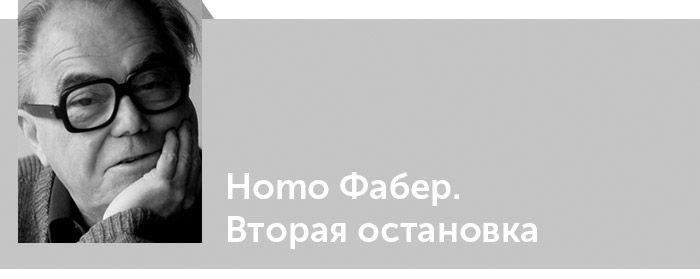
Афины, больница.
Начало записей 19 июля.
Они отняли у меня мою портативную машинку "Гермес" и заперли ее в белый шкаф, потому что сейчас полдень, потому что мертвый час. Приходится писать от руки! Я терпеть не могу писать от руки, я сижу на кровати в одних пижамных штанах, и мой маленький вентилятор (подарок Ганны) гудит с утра до вечера; в остальном - мертвая тишина. Сегодня снова сорок градусов в тени! Эти часы тишины (13:00-17:00) самые ужасные. При этом у меня остается уже мало времени, чтобы все записать. Ганна ежедневно навещает меня, и всякий раз я пугаюсь, когда она стучит в белую двустворчатую дверь; Ганна вся в черном в моей белой комнате. Почему она никогда не садится? Она каждый день ходит на могилу, она каждый день ходит в институт - вот пока все, что я знаю про Ганну. Она стоит у открытого окна, а я вынужден лежать, и меня это нервирует и ее молчание - тоже. Может ли она простить? Могу ли я что-нибудь исправить? Я не знаю даже, что Ганна делала с тех пор; об этом - ни слова. Я спросил Ганну, почему она не садится. Я вообще Ганну не понимаю - ее усмешка, когда я о чем-нибудь спрашиваю, ее глаза, глядящие куда-то мимо меня; иногда я боюсь, что она еще сойдет с ума. Сегодня - шесть недель с того дня.
8.VI. Нью-Йорк.
Обычная Saturday-party [субботняя вечеринка (англ.)] у Вильямса, я не хотел идти, но надо было: собственно говоря, никто меня, конечно, не принуждал, но все же я пошел. Я не знал, что делать. К счастью, меня ожидало сообщение, что турбины в Венесуэле подготовлены наконец к монтажу, значит, надо вылетать как можно скорее. Но я все спрашивал себя, справлюсь ли я на этот раз со своей задачей. Когда Вильямс, этот неистребимый оптимист, положил мне на плечо руку, я кивнул ему в ответ, но про себя я продолжал сомневаться.
- Come on, Walter, have a drink [давай выпьем, Вальтер (англ.)].
Как обычно, все стоят группками, не знаешь, куда приткнуться.
- Roman holidays, oh, how marvellous [отпуск в Риме - как это прекрасно (англ.)].
Я никому не сказал, что моя дочь умерла, потому что никто не знал, что у меня была дочь, и я не ношу траурной ленточки в петлице, потому что не хочу, чтобы мне задавали вопросы, ведь все это никого не касается.
- Come on, Walter, another drink [давай выпьем-ка еще, Вальтер (англ.)].
Я слишком много пью.
- Walter has trouble, - рассказывает всем Вильямс, - Walter can't find the key of his home [у Вальтера неприятности, он не может найти ключ от своей квартиры (англ.)].
Вильямс считает, что я должен играть хоть какую-то роль в этом обществе, пусть комическую, это лучше, чем вообще никакую. Оказывается, нельзя просто стоять в углу и грызть миндаль.
- Fra Angelico, oh, I just love it [Фра-Анджелико, о, я его обожаю! (англ.)].
Все все понимают лучше меня.
- How did you en joy the Masaccio fresco? [Вам понравилась фреска Мазаччо? (англ.)]
Я не знаю, что сказать в ответ.
- Semantics! You've never heard of Semantics? [Семантика! Вы никогда не слышали о семантике? (англ.)]
Я сам себе кажусь идиотом...
Я жил в гостинице на Таймс-сквер. Табличка с моей фамилией все еще висела на дверях моей квартиры, но Фредди, привратник, понятия не имел, где мой ключ. А я ведь просил Айви передать ключ Фредди. Но она этого не сделала, и мне пришлось звонить в свою собственную дверь. Я просто не знал, что делать. Всюду можно попасть: в учреждения, в кино, в подземку, только не к себе в квартиру. Я отправился на экскурсию по городу, чтобы убить время. Небоскребы казались мне надгробиями (впрочем, это мне всегда казалось). Я слушал пояснения, которые передавали по радио: "Рокфеллеровский центр, небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг, здание ООН" и так далее, словно я не прожил одиннадцать лет на Манхэттене. Потом я пошел в кино. А после кино поехал подземкой по обычному маршруту - Айрат, Экспресс-Аптаун, без пересадки на Коламбэс-Серкл, хотя, если бы я пересел, от станции "Индепендент" мне было бы ближе к дому; но в течение одиннадцати лет я никогда не пересаживался и на этот раз не пересел, а вышел, где всегда выходил, и по дороге, как часто и прежде, зашел в китайскую прачечную, где меня еще помнили. "Хелло, мистер Фабер!" Мне дали три рубашки, которые несколько месяцев ждали моего возвращения, оттуда я пошел в гостиницу, где мне нечего было делать, и несколько раз подряд набрал свой собственный номер - конечно, никто не подошел! - а потом, к сожалению, отправился к Вильямсу.
- Nice to see you [рады вас видеть (англ.)], - и тому подобное.
Перед этим я еще зашел в свой гараж, чтобы выяснить, стоит ли еще там мой "студебекер", но мне не пришлось даже спрашивать - он был виден издали (пронзительно красный, как губная помада) на фоне черной стены.
Потом, как я уже говорил, - сюда, на Saturday-parti.
- Walter, what's the matter with you? [Вальтер, что с вами? (англ.)]
Собственно говоря, я всегда ненавидел эти сборища. Мне не дано быть остроумным, но это еще не значит, что мне должны класть руку на плечо.
- Walter, don't be silly [Вальтер, не валяйте дурака (англ.)].
Я знал, что мне не справиться с монтажом. Я был пьян, это я тоже знал. Они думали, я этого не чувствую. Я их знаю как облупленных. Если уйдешь, никто этого не заметит. И я ушел. Я шел по ночной Таймс-сквер (надеюсь, в последний раз) к телефону-автомату, чтобы еще раз набрать свой собственный номер. И сейчас еще я не понимаю, почему кто-то снял трубку.
- This is Walter [это Вальтер (англ.)], - говорю я.
- Who? [Кто? (англ.)]
- Walter Faber, - говорю я. - This is Walter Faber.
Такого не знают.
- Sorry [извините (англ.)], - говорю я.
Быть может, я набрал не тот номер; я открыл огромный телефонный справочник, чтобы проверить свой номер телефона, а потом набираю снова.
- Who's calling? [Кто говорит? (англ.)]
- Walter, - говорю я, - Walter Faber.
Мне ответил тот же голос, что и в первый раз, и я на мгновение растерялся; я что-то ничего не мог понять.
- Yes, what do you want? [Да, что вам угодно? (англ.)]
Собственно говоря, ничего не случится, если я отвечу. Я взял себя в руки и, прежде чем повесили трубку, спросил только, чтобы хоть что-то сказать, туда ли я попал.
- Yes, this is Trafalgar 4-55-71 [да, это Трафальгар 4-55-71 (англ.)].
Я был пьян.
- That's impossible [не может быть (англ.)], - говорю я.
Быть может, мою квартиру кому-то сдали, быть может, изменился номер, в конце концов, все бывает, я это понимаю, но мне от этого не легче.
- Trafalgar 4-55-71, - говорю я. - That's me [это мой номер (англ.)].
Я слышу, как мой собеседник закрывает рукой микрофон и с кем-то что-то обсуждает (с Айви), слышу смех, а потом вопрос:
- Who are you? [Кто вы такой? (англ.)]
Я в свою очередь спрашиваю:
- Are you Walter Faber? [Вы Вальтер Фабер? (англ.)]
В конце концов он вешает трубку, а я отправляюсь в бар. У меня кружится голова, я терпеть не могу пить виски; потом я прошу бармена найти по телефонной книге номер мистера Вальтера Фабера и соединить меня; он все это проделал и передал мне трубку; долго никто не подходил, потом снова голос:
- Trafalgar 4-55-71. Hello!
Ни слова не говоря, я вешаю трубку.
_Операция навсегда излечит меня от моей болезни, операция эта, по данным статистики, в 94,6 процента кончается удачно, и я нервничаю не из-за предстоящей операции, а только оттого, что ее со дня на день откладывают. Я не привык болеть. Нервничаю я еще и тогда, когда Ганна меня утешает, потому что она ведь не верит статистике. А я в самом деле убежден в благополучном исходе операции да к тому же рад, что ее будут делать не в Нью-Йорке, или Дюссельдорфе, или в Цюрихе; мне необходимо видеть Ганну, говорить с ней. Я не могу себе представить, как ведет себя Ганна вне этой комнаты. Ест ли она? Спит ли она? Каждый день она ходит в институт (от 8:00 до 11:00 и от 17:00 до 19:00), и каждый день она ходит на могилу нашей дочери. А что помимо этого? Я попросил Ганну, чтобы она садилась. Почему она молчит? Даже если Ганна садится, она сидит не больше минуты, потому что всегда оказывается, что чего-то нет на месте, пепельницы или там зажигалки, она поднимается и снова стоит. Если Ганна не в силах выносить мое общество, зачем же она приходит? Она поправляет мне подушки. Будь у меня рак, они бы меня немедленно оперировали, это ведь логично, я объяснял это Ганне, надеюсь, убедил ее. Сегодня мне не делали укола! Я женюсь на Ганне._
9/VI. Лечу в Каракас.
На этот раз я лечу через Майами и Мериду в Юкатан, откуда ежедневно есть самолеты на Каракас, но в Мериде мне приходится прервать полет (боли в желудке).
Потом снова попадаю в Кампече. (Шесть с половиной часов езды на автобусе от Мериды.)
На маленькой станции узкоколейки, где кактусы растут между шпалами и где я с Гербертом Хенке уже однажды (два месяца назад) ждал поезда, прислонившись головой к стене, закрыв глаза и раскинув руки и ноги, - все, что со мной произошло с тех пор, как я здесь в первый раз ждал поезда, представилось мне вдруг галлюцинацией. Здесь ничего не изменилось.
Тот же липкий воздух...
Тот же запах рыбы и ананаса...
Те же тощие собаки...
Дохлые собаки, которых никто не убирает, грифы на крышах домов у Рыночной площади, жара, гнилая вонь моря, над ним - белесое солнце, а над берегом - черные тучи, и на солнце они отсвечивают голубовато-белым блеском, словно вспышки кварцевой лампы.
Снова этот путь в поезде!
Я даже обрадовался, когда вновь очутился в Паленке, там тоже ничего не изменилось: терраса с нашими гамаками, наше пиво, наш попугай; меня здесь еще помнят, даже дети меня узнали; я купил и роздал им мексиканские сласти; один раз я даже выехал к нашим развалинам, где уж во всяком случае ничего не изменилось: ни души, только стаи птиц, как тогда, все точь-в-точь как тогда, два месяца назад. И ночь такая же, как и тогда, когда в Паленке умолкал движок: индюк, гуляющий вокруг террасы, его резкое клокотание, потому что он не любит зарниц, черная свинья в луже, ватная луна, лошадь, щиплющая траву...
И всюду моя неотступная мысль.
Если бы сейчас и в самом деле было еще то время! Вернуться назад всего только на два месяца, на два месяца, которые здесь ничего не изменили; почему теперь не может быть апрель! А все остальное - это только моя галлюцинация.
Потом еду один на лендровере...
Я разговариваю с Гербертом.
Я разговариваю с Марселем.
Я купаюсь в Рио-Усумасинта - она вот изменилась: уровень воды заметно поднялся, зеленой ряски больше нет, потому что течение стало сильнее, и уже неизвестно, удастся ли мне найти брод и не утонуть, переправляясь на тот берег.
Переправиться удалось.
Герберт тоже изменился - это видно было с первого взгляда. Герберт с бородой, но не только это, он вообще изменился - стал подозрителен.
- Старик, ты зачем сюда приехал?
Герберт думает, что я приехал по поручению его семьи либо его фирмы, чтобы вернуть его в Дюссельдорф, и не верит, что я приехал, чтобы его повидать; однако я приехал только ради этого; не так уж много у меня друзей на свете.
Он сломал свои очки.
- Почему ты их не починишь? - спрашиваю я.
Я чиню его очки...
Когда идет ливень, мы сидим в бараке, словно в Ноевом ковчеге; света нет, потому что батареи, которые питали прежде и радиоприемник, давным-давно сели; то, что я рассказываю ему о последних событиях, его совершенно не интересует, даже события в Германии; я все же рассказываю о призыве геттингенских профессоров; о личном я не говорю.
Я спрашиваю его про машину.
Герберт ни разу не ездил в Паленке.
Я привез газолин для Герберта, пять канистр, чтобы он в любое время мог уехать; но он об этом и не думает.
Он усмехается в бороду.
Мы совсем не понимаем друг друга.
Он усмехается, когда видит, что я бреюсь старой бритвой, потому что здесь нет тока, а я не хочу обрастать щетиной, ведь мне нужно ехать дальше.
У него никаких планов нет!
Его "нэш-55" стоит под навесом из листьев, как в прошлый раз, даже ключ по-прежнему торчит в машине; индейцы явно не знают, как заводится мотор, все было нетронутым, но в чудовищном состоянии, так что я сразу же взялся за работу.
- Если тебя это забавляет, - говорит он, - пожалуйста, мне не жалко.
Герберт отправляется на охоту.
Я разбираю мотор и вижу, что он совершенно заржавел, должно быть от дождей, каждую деталь нужно почистить, все заросло каким-то илом; острый запах цветочной пыльцы, которая прилипла к машинному маслу и почти не счищается, но я рад, что у меня есть работа.
Вокруг стоят дети племени майя.
Они способны простоять целый день и глядеть, как я разбираю мотор, я расстелил листья банановой пальмы на земле и кладу на них деталь за деталью.
Зарницы, но дождя нет.
Женщины тоже глазеют; кажется, они только и делают, что рожают; малыш, которого мать держит на руках, сосет грудь, опираясь ножками на ее огромный живот; она стоит и глазеет, ни слова не говоря - все равно я не мог бы понять, что она говорит.
Герберт возвращается со связкой игуан.
Они еще живые, но совершенно неподвижные, пока до них не дотронешься рукой, их головки, похожие на головы ящериц, обмотаны соломой, потому что они больно кусаются, а когда их сваришь, мясо по вкусу напоминает курятину.
Вечером мы лежим в гамаках.
Пива нет, только кокосовое молоко.
Зарницы.
Меня очень тревожило, что могут украсть какую-нибудь из деталей мотора, но Герберт не разделял моей тревоги: он убежден, что индейцы не прикоснутся к этим деталям. О возможности бунта больше и речи не было! Они работают, и даже усердно, говорит Герберт, слушаются беспрекословно, хотя и убеждены, что все это не имеет смысла.
Он усмехается в бороду.
Будущее немецкой сигары!
Я спрашиваю Герберта, что он, собственно говоря, намерен делать: собирается ли он остаться здесь или хочет вернуться в Дюссельдорф? Какие у него планы?..
- Nada [никаких (исп.)].
Я ему как-то сказал, что встретился с Ганной и что собираюсь на ней жениться; но я даже не знаю, слышал ли это Герберт.
Герберт, похожий на индейца!
Жара...
Светлячки...
Потеешь, как в парильне.
На следующий день внезапно хлынул дождь, лил он только четверть часа, но зато как из ведра, настоящий ливень, потоп, а потом снова засияло солнце; однако вода не сошла, вся земля покрылась коричневыми бочагами, а я как раз до этого выкатил машину из-под навеса, чтобы работать на свежем воздухе; я же не мог знать, что именно в том месте, куда я ее поставил, образуется такой бочаг. В отличие от Герберта я вовсе не находил это смешным. Машина оказалась в воде по колеса, а о деталях мотора, которые я разложил на земле, и говорить нечего. Когда я это увидел, меня охватило отчаяние. Герберт выделил мне двадцать индейцев, только чтобы меня успокоить, как он сказал; он вел себя так, словно все это его не касалось - ни рубка деревьев, к которой приступили по моему приказу, ни сооружение козел для машины. Я потерял целый день на то, чтобы собрать все детали мотора; мне пришлось залезть в этот мутный бочаг и руками копошиться в теплом иле. Все это я делал один, потому что Герберта это нисколько не интересовало.
- Да брось ты! - вот и все, что он мне сказал. - К чему это!
Я заставил индейцев выкопать отводные каналы, чтобы вода наконец спала; только благодаря этому удалось найти все пропавшие части, да и то с большим трудом, потому что некоторые из них просто утонули в иле.
Его постоянная присказка: "Nada".
Он молол всякую чушь, и я ему не возражал. Без этого "нэша" Герберт совсем погибнет. Я не дал себя расхолодить и продолжал работать.
- Да что ты тут будешь делать без машины? - сказал я.
Когда я наконец снова собрал мотор и он заработал, Герберт усмехнулся и сказал только: "Браво!" - потом хлопнул меня по плечу: пусть этот "нэш" будет мой, он мне его дарит!
- На что мне "нэш"! - сказал Герберт.
Герберта нельзя было отговорить от его дурацкой затеи: когда я сел в заново собранную машину, чтобы еще раз все проверить, и включил мотор, Герберт стал изображать полицейского-регулировщика; вокруг нас стояли детишки племени майя и матери в белых рубашках, все с младенцами на руках, а потом подошли мужчины, которые сперва держались в стороне, в зарослях, у всех у них за поясами были кривые ножи; многие месяцы они не слышали шума мотора, а я дал полный газ, колеса вращались на холостом ходу в воздухе. Герберт делает знак - стоп! И я заглушаю мотор, я сигналю. Герберт делает знак - проезд открыт! Индейцы (их собиралось все больше) глядели на нас и не смеялись, хотя мы и валяли дурака; все стояли молча и, я бы сказал, сосредоточенно наблюдали, как мы (собственно говоря, зачем?) играли в уличное движение.
_Спор с Ганной о технике. По ее мнению, техника - это уловка, хитрость, с помощью которой хотят так перестроить мир, чтобы там не было места чувству. Мания технократов - свести все в мироздании к полезной деятельности, как бы заставить мир служить себе, потому что они не в силах противостоять ему как партнеры, бессильны его охватить. Техника - это хитрая попытка преодолеть сопротивление мира, сделать его путем изменения темпа жизни более плоским, стереотипным, чтобы убить жизнь духа (я не совсем понял, что Ганна хотела этим сказать). Технократ отчужден от живого мира (что Ганна этим хотела сказать, я тоже не совсем понял). Ганна ни в чем меня не упрекает; она считает, что поведение мое по отношению к Сабет можно объяснить; я пережил с Сабет такого рода отношения (так думает Ганна), которых я прежде не знал, я не понял их природы и поэтому внушил себе, будто влюблен. Эта ошибка не случайная, а, наоборот, присущая моей натуре (?), как, впрочем, и выбор профессии, и вообще вся моя жизнь. Моя ошибка заключается в том, что я, как и все люди техники, живу забывая о смерти. Дословно она сказала следующее: "Для тебя жизнь - это не что-то целое, неделимое, а простая сумма, поэтому ты не ощущаешь хода времени и не принимаешь в расчет смерть". Жизнь, по мнению Ганны, - это некий законченный образ, существующий во времени. Ганна признала, что не может в точности объяснить, что она хочет этим сказать. Но, во всяком случае, она знает, что жизнь - это не только материя и поэтому ее нельзя подчинить технике. Моя ошибка с Сабет, считает она, заключается в следующем: я хотел начать все сначала, я вел себя так, словно не существует понятия возраста, поэтому эти отношения противоестественны. Мы не можем преодолеть старость с помощью простого сложения, не можем преодолеть ее, женясь на наших детях._
20/VI. Прибыл в Каракас.
Наконец все организовалось: турбины были доставлены на место и рабочей силой меня тоже обеспечили. Я работал, пока мог, и то, что теперь, когда приступили к монтажу турбин, мне пришлось все бросить из-за болей в желудке, конечно, досадно, но что поделаешь. В мой прошлый приезд (15-16/VI) я был, конечно, в куда лучшей форме, но тогда они еще ничего не подготовили для монтажа. А теперь я оказался не в состоянии наблюдать за его ходом, и в этом, конечно, была и моя вина; больше двух недель провалялся я в гостинице, а это удовольствие небольшое. Я надеялся, что в Каракасе меня ждет письмо от Ганны. Я послал телеграмму в Афины, но ответа так и не получил. Мне хотелось написать Ганне, и я несколько раз начинал письмо; но я не имел никакого представления, где она теперь находится, и мне ничего не оставалось, как писать (хоть чем-то мне же надо было заняться в этой гостинице), не отправляя того, что пишу.
Монтаж шел своим чередом - без меня.
_Дьякониса принесла мне наконец зеркало - я испугался. Я всегда был худой, но все же не такой худой, как теперь, не такой, как старый индеец в Паленке, который водил нас в сырые гробницы. Я в самом деле немного напуган. Прежде я не имел привычки смотреть в зеркало, разве только когда брился, я и причесывался без зеркала, и все же человек обычно знает, как он выглядит. У меня всегда был чересчур длинный нос, но уши раньше не привлекали моего внимания. На мне сейчас пижама без воротника, может быть, поэтому так торчит моя слишком длинная шея, жилы на ней вздуваются, когда я поворачиваю голову, между жилами какие-то ямы, впадины, которых я прежде никогда не замечал. Мои уши как у арестанта! Не могу же я всерьез думать, что голова у меня стала меньше. Я спрашиваю себя, не стал ли мой нос симпатичнее, и прихожу к выводу, что носы никогда не выглядят симпатично, а скорее нелепо, почти непристойно. Наверняка я тогда в Париже (два месяца назад!) выглядел иначе, а то Сабет никогда бы не согласилась пойти со мной в оперу. А ведь загар у меня с лица еще не сошел, только вот с шеи. Она какая-то белая, вся в крупных порах, как свежеощипанная курица. Рот мой мне еще кажется приятным, сам не знаю почему, рот и глаза, которые, кстати, оказались не карими, как я всегда думал, потому что так написано в графе примет в паспорте, а зеленовато-серыми; все же остальные черты лица принадлежат не мне, а кому-то чужому, который явно переработался. Зубы мои всегда ни к черту не годились. Как только снова буду на ногах, первым делом пойду к зубному врачу, чтобы счистить камень, а быть может, и полечить гранулему. Боли я никакой не чувствую, только что-то пульсирует под челюстью. Волосы я всегда стриг очень коротко, потому что это удобно, и ни с висков, ни на затылке я еще нисколько не облысел. Поседел я, собственно говоря, уже давно, волосы у меня светлые, отливающие серебром, но меня это никогда не огорчало. Когда я лежу на спине и держу над собой зеркало, то выгляжу совсем как прежде, разве что немного похудел, но это легко объяснить диетой. А быть может, все дело здесь в этом белесом свете, который просачивается в комнату сквозь щели жалюзи, - из-за этого света становишься бледным, несмотря на загар, вернее, каким-то желтым. Ужасно выглядят только зубы. Но я их всегда боялся. Какие бы меры ни принимать, они все равно разрушаются, словно выветриваются. Вообще человек в целом, как конструкция, еще может сойти, но материал никудышный: плоть - это не материал, а проклятие.
P.S. Никогда еще не было столько смертей, как за эти последние три месяца. Сейчас я узнал, что профессор О., с которым я неделю назад говорил в Цюрихе, тоже умер.
P.P.S. Я только что побрился, потом сделал себе небольшой массаж лица. Просто смешно, какая чушь приходит на ум от безделья. У меня нет никаких оснований пугаться. Мне не хватает движения и свежего воздуха - только и всего._
9-13/VII. На Кубе.
Вот что привело меня в Гавану: мне надо было пересесть с самолета на самолет, потому что я ни в коем случае не хотел лететь через Нью-Йорк, на "КЛМ" я летел из Каракаса до Кубы, а оттуда на Лиссабон. В Гаване я провел четыре дня.
Четыре дня ничего не делать, только глядеть.
Эль Прадо.
Старая улица со старыми платанами, как Рамбла в Барселоне. Корсо вечером, аллея, по которой ходят красивые люди. Все это невероятно, я иду и иду; кроме этого, мне здесь делать нечего.
Желтые птицы, в сумерках они стаями перелетают с дерева на дерево.
Все хотят почистить мне ботинки.
Полунегритянка-полуиспанка высовывает мне язык, потому что я загляделся на нее; я любуюсь ее розовым языком на смуглом лице, я смеюсь и приветствую ее - она тоже смеется, красные губы - словно венчик цветка, окружающий белые зубы (если можно так выразиться), ее глаза... - мне ничего от нее не надо.
- How do you like Habana? [Как вам нравится Гавана? (англ.)]
Я всегда злюсь, что меня принимают за американца только потому, что я белый. На каждом шагу сутенеры:
- Something very beautiful! D'you know what I mean? Something veiy young! [Очень красивая! Вы понимаете, что я хочу сказать? Очень молоденькая! (англ.)]
Все гуляют, все смеются.
Это похоже на сон.
Белые полицейские, которые курят сигары; военные моряки, которые тоже курят сигары; и те и другие - мальчишки, в узких штанах, обтягивающих бедра.
Castillo del Morro [мавританский дворец (исп.)] (Филиппа II).
Я разрешаю почистить мне ботинки.
Я принимаю решение жить по-другому.
Я радуюсь...
Я покупаю сигары, две коробки.
Закат солнца.
В море купаются голые мальчишки. Солнечный отсвет на их мокрой коже, жара. Я сижу и курю сигару, над белым городом собираются грозовые тучи, черно-фиолетовые, а верхушки домов освещены последним отсветом заходящего солнца.
Эль Прадо. Зеленые сумерки, продавцы мороженого; на невысокой каменной стене под фонарями сидят девчонки группами и смеются.
Там алее.
Это особым образом приготовленная кукуруза, завернутая в листья банановой пальмы; ее продают на улице и едят на ходу, не теряя времени.
Меня охватывает тревога. Почему, собственно говоря?
В Гаване мне делать совершенно нечего.
Я иду отдохнуть в гостиницу (уже не в первый раз), принимаю душ, а потом, раздевшись донага и включив вентилятор, лежу на кровати, лежу и курю сигару. Я не закрываю двери своей комнаты. В коридоре убирает девчонка - тоже полунегритянка-полуиспанка, убирает и поет; я курю сигару за сигарой.
Мне хочется, чтобы эта девчонка пришла ко мне. Почему она не приходит!
При этом я ужасно устал, так устал, что не в силах встать и взять пепельницу; я лежу на спине и курю сигару, держа ее так, что с нее не падает беловатый пепел.
Партагас.
Когда я возвращаюсь на Прадо, то мне снова кажется, что это галлюцинация: девушки - одна лучше другой, мужчины тоже очень красивые, все вокруг поражает красотой, все жители здесь - это смесь негров и испанцев; я не устаю глазеть, восхищаюсь их легкой и плавной походкой, девушки в голубых юбках колоколом и белых платках на голове, повязанных как у негритянок; их голые спины - такие темные, как тень под платанами, поэтому сперва видишь только их юбки, синие или лиловые, белые платки на головах и белые зубы, сверкающие, когда они смеются, белки глаз; поблескивают серьги.
The Caribbean bar [карибский бар (англ.)].
Я снова курю.
"Ромео и Джульетта".
Какой-то молодой человек, которого я сперва принял за сутенера, настаивает на том, чтобы угостить меня виски, потому что у него родился сын.
- For the first time! [Первый! (англ.)]
Он обнял меня и все твердил:
- Isn't it a wonderful thing? [Разве это не здорово? (англ.)]
Он представился мне и захотел узнать, как меня зовут, сколько у меня детей, особенно его интересовали сыновья. Я сказал:
- Five [пятеро (англ.)].
Он немедленно решил заказать пять виски.
- Walter, - говорит он, - you're my brother! [Вальтер, ты мне брат! (англ.)]
Едва мы успели чокнуться, как он убежал, чтобы еще кого-то угостить виски и расспросить, сколько у того детей, особенно сыновей.
Какой-то сумасшедший мир.
Наконец разразилась гроза - я сидел один под аркадами на желтой качалке, а вокруг лило как из ведра, внезапный ливень и сильный ветер, аллея мигом стала пустынной, словно подали знак тревоги, хлопали ставни, по асфальту стучали струи.
Я качался и глядел.
Мне нравилось, что я здесь.
Время от времени дождь заливает под арку, ветер осыпает меня лепестками цветов, словно конфетти, терпкий запах нагретой солнцем зелени, внезапный холодок пробегает по коже, сверкает молния, но дождь шумит так, что заглушает гром, я качаюсь и смеюсь, - ветер, рядом со мной качаются пустые кресла, развевается кубинский флаг.
Я насвистываю.
Я ненавижу Америку!
Я качаюсь и мерзну.
"The American Way of Life" [американский образ жизни (англ.)].
Я принимаю решение жить по-другому. Вспышки молнии, после них будто слепнешь, на мгновение открывается такая картина: серовато-зеленая пальма, ее треплет ветер, тучи лиловые с ослепительно синими прожилками, волнистое, отдающее жестью море; жестяное море гудит, и меня это по-детски радует, мне весело - я пою.
- "The American Way of Life"!
Даже если судить по одному тому, что они едят и пьют, - эти трезвенники, которые не знают, что такое вино, эти пожиратели витаминов, которые пьют холодный чай, жуют вату и не знают, что такое настоящий хлеб, это племя кока-колы, которое я больше не в силах выносить...
При этом я живу на их деньги!
Я снова даю почистить себе ботинки.
На их деньги!
Семилетний мальчишка - он уже чистил мне ботинки - похож теперь на котенка, которого окунули в воду. Я треплю его по курчавым волосам.
Он скалит зубы.
Волосы у него не черные, а скорее пепельно-серые, коричневато-серые, на ощупь похожие на конский волос, но курчавые и коротко подстриженные, а под ними прощупываешь детский череп, теплый, - то же чувство, которое бывает, когда глядишь на остриженного пуделя.
Он только скалит зубы и работает щетками.
Он мне нравится.
Его белые зубы.
Его нежная юная кожа.
Его глаза напомнили мне негритянку в туалете в Хьюстоне, штат Техас, которая склонилась надо мной, когда мне стало плохо; я обливался потом, у меня кружилась голова, а она стояла возле меня на коленях, и меня поразили белки ее больших глаз, которые совсем не похожи на глаза белых, красивые, как глаза у зверей.
Мы заговорили об автомобильных марках.
Его ловкие руки так и мелькали.
Нет никого, кроме нас, мальчишки и меня, а кругом потоп, он сидит на корточках и до блеска полирует мои ботинки своей суконкой.
"The American Way of Life"!
Одно их уродство, если сравнить их со здешними людьми, говорит само за себя: их розовая кожа, похожая на жареную колбасу, - до чего она отвратительна! Они не перемерли просто потому, что есть пенициллин, вот и все, а еще делают вид, будто счастливы, - только потому, что они американцы, потому что ни в чем себе не отказывают, а на самом деле что в них хорошего, долговязые и крикливые - парни вроде Дика, которого я еще когда-то ставил себе в пример! А как они держат себя на своих "парти" стоят, засунув левую руку в карман, плечом прислонившись к стене, в правой руке стакан, стоят непринужденно, будто они покровители всего человечества; их похлопывание по плечу, их оптимизм, пока они трезвые, но как напьются, они начинают реветь, орать про закат белой расы... Импотенция...
Я злюсь на самого себя!
(Если бы можно было начать жизнь сначала!)
Ночью я пишу письмо Ганне.
На другой день я поехал на пляж. Небо было безоблачно. Стояла полуденная жара; набегали волны, ударялись о гравий; всякий пляж напоминает мне теперь Теодори.
Я плачу.
Вода прозрачная, видно морское дно; я плыву, опустив лицо в воду, чтобы глядеть на морское дно; моя собственная тень на дне словно лиловая лягушка.
Написал письмо Дику.
Что может предложить Америка: комфорт, наиболее рационально оборудованный мир, все ready for use [готово к употреблению (англ.)], мир, выхолощенный "американским образом жизни"; куда бы они ни пришли, для них всюду highway [открытая дорога (англ.)], мир, плоский как рекламный щит, размалеванный с двух сторон, их города, вовсе не похожие на города, иллюминация, а наутро видишь пустые каркасы, - трескотня, способная обмануть только детей, реклама, стимулирующая оптимизм, неоновый щит, которым хотят оградиться от ночи и смерти...
Потом я взял напрокат лодку.
Чтобы побыть одному!
Их сразу отличаешь даже в купальных костюмах, сразу видно, что у них есть доллары; их голоса невыносимы (как на Аппиевой дороге), голоса жевательной резинки, состоятельного плебса.
Написал письмо Марселю.
Марсель прав: он верно говорил про их фальшивое здоровье, фальшивую моложавость, про их жен, которые не желают признать, что стареют; они пользуются косметикой даже в гробу, вообще у них порнографическое отношение к смерти; их президент, который должен улыбаться, словно розовощекий бэби, с обложки любого журнала, а не то они не захотят его переизбрать, их непристойная моложавость...
Я все греб и греб дальше от берега.
На море было тоже невероятно жарко.
Совсем один.
Я перечел письма к Дику и к Марселю и разорвал их, потому что они получились не деловые; по воде плавали белые клочки бумаги; у меня на груди тоже белые волосы - седые.
Совсем один...
Потом я веду себя просто как мальчишка: я рисую на горячем песке женщину и ложусь рядом с ней, хотя она только из песка, и громко с ней разговариваю.
Она дикарка!
Я не знал, куда девать этот день, куда девать самого себя, странный день; я сам себя не понимал и не пойму, как он прошел, этот день, время после обеда казалось вечностью, - день голубой, невыносимый, но прекрасный и нескончаемый, - пока я снова не оказался у каменной стены на Прадо (уже вечером), я сидел с закрытыми глазами; я теперь пытаюсь себе представить, что нахожусь в Гаване, что сижу на каменной стене на Прадо. Я не могу себе этого представить, и мне страшно.
Все хотят почистить мне ботинки.
Вокруг одни только красивые люди, я любуюсь ими, словно диковинными зверями, их белые зубы сверкают в сумерках, их смуглые плечи и руки, их глаза, их смех, потому что они радуются жизни, потому что праздничный вечер, потому что они красивы.
Мне хотелось глядеть и глядеть...
Во мне бушевала страсть...
Вхолостую.
Я существовал только для чистильщиков сапог.
Сутенеры...
Продавцы мороженого...
Они развозили мороженое на особых тележках - нечто среднее между детской коляской и маленьким буфетом, к этому приделано полвелосипеда, а над ним что-то вроде балдахина из заржавевших жалюзи; освещение как от карбидной лампы, зеленые сумерки, синие юбки колоколом.
Лиловый месяц.
Потом история с такси: было еще совсем рано, но я не мог больше шататься как труп среди живых на Корсо - мне захотелось вернуться в гостиницу и принять снотворное; я остановил такси; а когда распахнул дверцу, то оказалось, что там сидят две дамы, одна темноволосая, другая блондинка; я сказал: "Sony" - и захлопнул дверцу, но шофер выскочил, чтобы меня вернуть. "Yes, sir! - крикнул он и снова распахнул дверцу. - For you, sir!" [Пожалуйста, сэр! Для вас, сэр! (англ.)] Я рассмеялся - вот это сервис - и сел в машину.
Наш роскошный ужин!
Потом мой позор...
Я знал, что когда-нибудь это случится; я лежал в своем номере и не мог уснуть, хотя смертельно устал; ночь была жаркая, время от времени я обливал водой свое тело, которое предало меня, но снотворного не принял; мое тело еще годится на то, чтобы наслаждаться ветерком от вентилятора, который кружился, обдувая то грудь, то ноги, то снова грудь.
Меня мучила одна только мысль: рак желудка.
В остальном я был счастлив.
Серый рассвет, стая птиц; я беру свою портативную машинку и пишу наконец мой отчет в ЮНЕСКО относительно монтажа турбин в Венесуэле, который завершен.
Я сплю до полудня.
Я ем устрицы, потому что не знаю, чем заняться, работа моя сделана; я курю слишком много сигар.
(Из-за этого у меня боли в желудке.)
Вечером - неожиданное происшествие.
Я сажусь на стену на Прадо рядом с незнакомой девушкой и заговариваю с ней; мне кажется, что это та самая, которая накануне показала мне розовый язык.
Она этого не помнит. Она смеется, когда я говорю ей, что я не американец.
По-испански я говорю слишком медленно.
- Say it in English! [Скажите это по-английски! (англ.)]
У нее длинные тонкие руки.
Моих знаний испанского хватает, только чтобы разговаривать с рабочими во время монтажа; смешно вот что: я говорю не то, что хочу, а то, что могу сказать; она смеется. Я - жертва моего малого запаса слов. Ее удивление, ее приветливый взгляд, когда я рассказываю о себе, сам удивляясь своей жизни, которая, как я уже говорил, мне кажется лишенной смысла.
Хуане восемнадцать лет.
(Она еще моложе нашей девочки.)
Suiza [Швейцария (исп.)] - она думает, это Швеция.
Руки она откинула назад, голову прислонила к чугунному фонарю, ее белый платок оттеняет черноту волос; я поражен красотой ее ног; мы курим; мои руки, такие белые рядом с ее руками, охватывают мое правое колено.
Ее непосредственность.
Она никогда еще не покидала Кубу.
Я всего третий вечер в Гаване, но все здесь уже знакомо: зеленые сумерки, прорезанные неоновой рекламой, продавцы мороженого, шершавая кора платанов, птицы, оглашающие ночь щебетом, сетка теней на земле, красный цветок ее губ.
Ее жизненная цель - Нью-Йорк.
Нам на головы падает птичий помет.
Ее непосредственность.
Хуана работает упаковщицей и подрабатывает на улице только в конце недели, потому что у нее есть ребенок и живет она не в самой Гаване.
Вокруг нас бродят молодые матросы.
Я рассказываю ей о своей дочери, которая умерла, о свадебном путешествии со своей дочерью, о Коринфе, о гадюке, которая укусила ее чуть повыше левой груди, о ее похоронах, о моем будущем.
- I'm going to many her [я собираюсь на ней жениться (англ.)].
Она меня неверно поняла.
- I think she's dead [а я думала, она умерла (англ.)].
Я уточняю.
- Oh, - смеется она, - you're going to marry the mother of the girl, I see! [Вы женитесь на матери девушки, понимаю! (англ.)]
- As soon as possible [да, очень скоро (англ.)].
- Fine [отлично (англ.)], - говорит она.
- My wife is living in Athens [моя жена живет в Афинах (англ.)].
Ее серьги, ее гладкая кожа.
Она ждет своего брата.
Я спрашиваю Хуану, верит ли она в смертный грех, верит ли она в богов; она смеется - сверкают белые зубы. Я спрашиваю Хуану, верит ли она, что змеями (вообще) управляют боги - вернее, демоны.
- What's your opinion, sir? [А вы как считаете, сэр? (англ.)]
Потом появляется парень в полосатой голливудской рубашке, этакий сутенер, который уже со мной заговаривал, - это ее брат. Его рукопожатие.
- Хелло, приятель!
Во всем этом нет ничего особенного, все в порядке вещей. Хуана бросает на землю окурок и тушит каблуком, потом она кладет свою смуглую руку мне на плечо.
- He's going to marry his wife, he's a gantel-man! [Он хочет жениться на своей жене, он джентльмен! (англ.)]
Хуана убегает.
- Wait here, - говорит ее брат и оборачивается, чтобы меня удержать. Just a moment, sir, just a moment! [Подождите здесь! Минутку, сэр, одну минутку! (англ.)]
Моя последняя ночь в Гаване.
На земле нет времени, чтобы спать!
У меня решительно не было никакой причины быть счастливым, но я был счастлив. Я знал, что все, что я вижу, я покину навсегда, но не забуду: аркаду ночью, где я сижу в качалке, гляжу и слушаю ржание лошади проезжающего мимо извозчика, испанский фасад напротив с желтыми занавесками, которые ветер вырывает из черных окон, скрежет гофрированного железа - звук, пронизывающий до мозга костей, мою радость, когда я слышу этот звук, мое наслаждение, ветер, один только ветер, который лишь сотрясает пальму, ветер, который не сгоняет туч; я качаюсь и обливаюсь потом, зеленая пальма, гибкая, как прут, ее листья позвякивают, как ножи, пыль, чугунный литой фонарь, который начинает мигать; я качаюсь и смеюсь, вздрагивающий, умирающий огонь фонаря, должно быть сильный сквозняк, лошадь продолжает ржать, она едва тащит пролетку против ветра; все летит, рвется с петель эмблема парикмахера, звон меди в ночи, а невидимое море перебрасывает свои брызги через стену, когда волны с грохотом разбиваются о берег; вода шипит, как машина для варки кофе, ветер все усиливается; мне хочется пить, губы стали соленые, настоящая буря без дождя, ни одной капли не падает на землю; они не могут упасть, потому что нет туч, небо усыпано звездами, а воздух насыщен только горячей, сухой пылью, так и пышет жаром, словно из духовки; я качаюсь и пью шотландское виски, одну-единственную рюмку, я больше не выношу алкоголя, я качаюсь и пою. И так часами! Я пою! Я ведь не умею петь, но никто меня не слышит, стучат копыта лошади по булыжнику пустынной площади, убегает последняя девчонка, ее юбка летит впереди нее, обвивая ее смуглые ноги, ее черные волосы тоже летят, летит и зеленое жалюзи, которое сорвалось с какого-то окна, ее улыбка - сверкают зубы в вихре пыли, а ветер гонит зеленое жалюзи все вперед, к морю; город, весь белый, освещен каким-то красноватым отсветом, который пробивается сквозь пыль, жара, флаг Кубы, - я качаюсь и пою, вот и все, а рядом со мной качаются пустые кресла, мигает фонарь, вихрем проносятся лепестки цветов. Я люблю жизнь!
Суббота, 13/VII, лечу дальше.
Утро в Прадо, после того как я побывал в банке, чтобы разменять деньги, совершенно пустынная аллея, скользкая от птичьего помета и наметенных лепестков цветов.
Солнце...
Все на работе.
Птицы...
Какой-то мужчина просит у меня огонька, чтобы закурить, и, хотя он занят, все же провожает меня немного, только чтобы спросить:
- How do you like Havana? [Вам нравится Гавана? (англ.)]
- I love it [я полюбил ее (англ.)], - говорю я.
Это, должно быть, тоже сутенер. Он проявляет ко мне удивительное участие.
- You're happy, aren't you? [Вам хорошо, верно? (англ.)]
Он восхищается моей камерой.
- Something very beautiful! D'you know what I meen? Something very young! [Очень красивая! Вы понимаете, что я хочу сказать? Очень молоденькая! (англ.)]
Когда я ему говорю, что сегодня улетаю, он спрашивает меня, в котором часу я должен быть на аэродроме.
- Ten o'clock, my friend, ten o'clock [В десять часов, мой друг, в десять часов (англ.)].
Он глядит на часы:
- Well, now it's nine o'clock, sir, that's plenty of time [хорошо, сейчас девять часов, сэр, еще есть время (англ.)].
Я еще раз иду взглянуть на море.
Вдали видны рыбачьи баркасы.
Прощание.
Я еще раз сижу на прибрежных камнях и еще раз выкуриваю сигару, но я больше не снимаю. К чему? Ганна права: потом все это смотришь как фильм; этого все равно уже нет, и удержать это невозможно...
Прощание.
_Ганна была у меня. Я сказал ей, что она выглядит как невеста. Ганна вся в белом! Она почему-то вдруг сняла траур; ее отговорка - на улице будто бы слишком жарко. Я так много рассказывал ей о грифах, что теперь она не хочет сидеть у моей кровати, как черная птица; она думает, что я не замечу эту ее милую предупредительность, потому что прежде (всего несколько недель назад) я многого не замечал. Ганна долго рассказывала о себе.
P.S. Однажды, еще когда Ганна была ребенком, она подралась со своим братом и поклялась себе, что никогда не полюбит мужчину, потому что брату удалось положить ее на обе лопатки. Она невероятно разозлилась на Господа Бога за то, что он сделал мальчишек сильнее девчонок, она находила, что он сделал непорядочно, - не брат, а Бог. Тогда Ганна решила стать умнее, чем все мальчишки Швабинга [район Мюнхена], и основала тайный клуб девочек, чтобы низвергнуть Иегову. Во всяком случае, ее устраивало бы только такое небо, где были бы и богини. Сперва Ганна обратилась к Божьей Матери, ее привлекли иконы, где Дева Мария сидит в самом центре; она преклоняла перед этими образами колени и крестилась, как ее подруги-католички, тщательно скрывая это от своего папы. Единственный мужчина, к которому она питала доверие, был старик по имени Армин, и он сыграл известную роль в ее жизни в детские годы. Я не знал, что у Ганны есть брат. Она рассказала мне, что он живет в Канаде и очень энергичен, он и теперь еще всех кладет на лопатки. Я спросил ее, как она жила тогда с Иоахимом, как, где, сколько времени. Я о многом спрашивал, но Ганна всегда отвечала: "Да ты же это все сам знаешь!" Больше всего она рассказывала об Армине. Он был слепой. Она и сейчас еще любит его, хотя он уже давным-давно умер - вернее, пропал без вести. Ганна была тогда школьницей, девочкой, которая еще носила гольфы; она регулярно бегала к нему в Английский парк, где он всегда сидел на одной и той же скамье, а потом вела его по Мюнхену. Он любил Мюнхен. Он был стар, по ее тогдашним представлениям, даже очень стар: ему было от пятидесяти до шестидесяти лет. Она всегда спешила, она встречалась с ним только во вторник и пятницу, в те дни, когда у нее были уроки музыки (скрипка), зато она приходила на эти свидания в любую погоду, вела его по городу и показывала витрины. Армин был совсем слепой, но он мог себе представить все, что ему рассказывали. Ганна говорит: ни с кем не было так хорошо бродить по свету, как с ним. Я спросил ее еще о том, как она рожала нашего ребенка. Я ведь при этом не был. Как я могу себе это представить? А Иоахим, конечно, был. Он знал, что это не его ребенок, но вел себя как настоящий отец. Ганна говорит, что она рожала легко: она помнит только, что почувствовала себя очень счастливой, став матерью. И вот еще что меня удивило: оказывается, моя мать знала, что ребенок, родившийся у Ганны, был моим ребенком, но, кроме нее, этого никто в Цюрихе не знал, мой отец об этом и понятия не имел. Я спросил Ганну, почему мать ни в одном письме об этом не упоминала. Что это, заговор женщин? Они просто не говорят с нами о том, чего мы не понимаем, и обращаются с нами как с несовершеннолетними. Вообще мои родители, уверяет меня Ганна, совсем не такие, как я думаю, во всяком случае, по отношению к Ганне они были безупречны. Надо только послушать, что Ганна рассказывает о моей матери! Я кажусь себе слепцом! Еще долгие годы мать и Ганна переписывались; кстати, мать умерла вовсе не от той болезни, о которой мне сообщили. Ганна была удивлена, что я всего этого не знал. Она была на похоронах матери в 1937 году. Любовь Ганны к древним грекам началась, как ей кажется, тоже в Английском парке; Армин знал греческий, и девочка читала ему вслух тексты из учебников, а он учил их наизусть. Он имел над ней огромную власть. Впрочем, он никогда не приводил Ганну в свою квартиру. Она и сейчас еще не знает, где он жил и как. Ганна встречалась с ним в Английском парке и расставалась с ним всегда там же, и никто на свете не знал об их уговоре: вместе поехать в Грецию; они твердо собирались, как только она подрастет и сможет распоряжаться собой, отправиться в Грецию, и там Ганна покажет ему греческие храмы. Говорил ли старый человек все это всерьез или нет, понять трудно; Ганна, во всяком случае, воспринимала все совершенно серьезно. Ганна в гольфах! Однажды, я помню, в кафе "Одеон" в Цюрихе я видел того пожилого господина, за которым Ганна всегда заходила, чтобы отвести его к трамвайной остановке и посадить в трамвай. Это кафе "Одеон" я, собственно говоря, ненавидел. Там собирались эмигранты, интеллигенция, богема, профессора и старые кокотки, которые охотились за деловыми людьми, приехавшими из провинции; я ходил в это кафе только ради Ганны. Господин этот жил в пансионе Фонтана; я ждал (спрятавшись за углом) на улице Глория, пока Ганна не доставит старика на место. Вот это, оказывается, и был Армин! Я-то не принимал его всерьез. Ганна говорит: "А он тебя принимал всерьез". Ганна и сейчас еще говорит об Армине так, словно он жив, словно он все видит. Я спросил, почему Ганна так и не поехала с ним в Грецию. Ганна меня высмеяла - ведь это была только шутка, ребячество! В Париже (с 1937 до 1940 года) Ганна жила с одним французским писателем, который как будто довольно известен; я забыл его фамилию. А вот еще чего я совершенно не знал: Ганна была в Москве (1948) со своим вторым мужем. Однажды она снова побывала в Цюрихе (1953), но без нашей дочки; она любит Цюрих, словно ей не пришлось там так много пережить; побывала она в кафе "Одеон". Я спросил, как умер Армин. В Лондоне (1942) Ганна с ним еще раз встретилась. Армии хотел покинуть Англию, и Ганна проводила его на пароход, которого он сам не видел; вероятно, этот пароход потопила немецкая подводная лодка; во всяком случае, он так никуда и не прибыл._
15/VII. Дюссельдорф.
Я не знаю, что обо мне подумал молодой техник, которого господа из правления фирмы "Хенке - Бош" предоставили в мое распоряжение; могу только сказать, что в то утро я сдерживался, пока мог.
Небоскреб, сверкающий никелем.
Мне казалось, что мой долг, как друга Герберта, сообщить правлению фирмы, как выглядит их плантация в Гватемале; другими словами, я летел из Лиссабона в Дюссельдорф, толком не обдумав, что же мне надлежит делать или говорить, и теперь сидел в правлении, не зная, с чего начать, хотя меня приняли очень вежливо.
- У меня есть фильмы, - говорю я.
Я все больше убеждался, что эту плантацию в Гватемале они уже начисто списали со счета и слушали теперь меня из чистой вежливости.
- Сколько времени надо, чтобы просмотреть ваши фильмы?
Собственно говоря, я им только мешал.
- Почему вы говорите "несчастный случай"? - спросил я. - Мой друг ведь повесился, неужели вы этого не знаете?
Конечно, они это знали.
У меня было чувство, что они не принимают меня всерьез, но все же уклониться было трудно, им пришлось согласиться посмотреть цветной фильм. Техник, которого мне предоставили, чтобы подготовить конференц-зал правления для просмотра привезенных мною лент, меня только нервировал: он был очень молод, мил, но совершенно не нужен. Мне нужны были аппаратура, экран, подводка, а не техник.
- Благодарю вас, - сказал я.
- Не за что, сударь.
- Я знаю эту аппаратуру, - сказал я.
Но отделаться от него было невозможно.
Я впервые сам смотрел эти фильмы, они еще не были смонтированы, поэтому естественно, что без конца повторялись одни и те же кадры, это ведь неизбежно; я сам был поражен, сколько закатов солнца я отснял: в одной пустыне Тамаулипас я снял три заката, можно было подумать, что я путешествую как специалист по солнечным закатам, просто смешно; мне было стыдно перед юным техником, поэтому я проявлял такое нетерпение.
- Большой резкости не получится.
Наш лендровер на берегу Рио-Усумансинта...
Грифы за работой...
- Пожалуйста, дальше, - говорю я.
Потом первые индейцы, которых мы повстречали утром и которые нам сообщили, что сеньор умер, - на этом кончилась первая катушка. Меняем катушку, на это уходит некоторое время, разговариваем про эктахром. Я сижу в мягком кресле и курю, потому что мне нечем заняться, а рядом пустые кресла членов правления; вот только ветер их не раскачивает.
- Пожалуйста, дальше, - говорю я.
Иоахим висит на проволоке.
- Стоп, - говорю я. - Пожалуйста, остановите.
К сожалению, этот кадр вышел очень темным, не сразу удается разобрать, что здесь снято: не хватало света - ведь я снимал в помещении, но с той же диафрагмой, с какой до этого снимал грифов, раздирающих дохлого осла, а там сияло солнце; я сказал:
- Вот это доктор Иоахим Хенке.
Он взглянул на экран:
- К сожалению, резче не получится, сударь.
Вот и все, что он сказал.
- Пожалуйста, дальше, - сказал я.
Снова Иоахим, висящий на проволоке, но на этот раз снятый сбоку, поэтому здесь лучше видно, что случилось; удивительная вещь: не только на моего юного техника, но и на меня эти кадры не производят никакого впечатления, - фильм как фильм, вроде тех, что все мы не раз смотрели в хронике; не хватает вони, острого ощущения реально случившегося; мы говорим об освещении, а тем временем на экране появляется могила, вокруг молящиеся индейцы, все это очень затянуто; потом вдруг развалины Паленке, паленкский попугай. Конец катушки.
- Нельзя ли открыть окно? - говорю я. - Духота, как в тропиках.
- Прошу вас, сударь.
Все получилось так нескладно из-за того, что на таможне перерыли коробку с катушками, вернее, из-за того, что я не надписывал последние отснятые фильмы (после путешествия на теплоходе); я ведь хотел господам из правления фирмы "Хенке - Бош", которые соберутся здесь в 11:30, показать только то, что относится к Гватемале. Мне нужна была пленка, на которую я заснял свое последнее путешествие к Герберту.
- Стоп, - говорю я, - это Греция.
- Греция?
- Стоп! - кричу я. - Стоп!
- Прошу вас, сударь.
Этот парень просто сводил меня с ума, его услужливое "прошу вас", его снисходительное "прошу вас", словно он единственный человек на свете, который разбирается в такой аппаратуре, его дурацкая болтовня об оптике, в которой он ничего не смыслит, но главное - его противное "прошу вас" и при этом уверенность, что он все знает лучше всех.
- Другого способа нет, сударь, только все просмотреть и отобрать. Когда катушки не надписаны, другого способа просто нет.
Конечно, он не виноват в том, что катушки не надписаны; в этом отношении он был прав.
- Эта пленка начинается, насколько я помню, - сказал я, - с появления господина Герберта Хенке - мужчины с бородой, лежащего в гамаке.
Снова тушится свет, темнота, гудение проекционного аппарата.
Чистая игра случая! Достаточно было посмотреть первые метры: Айви на причале в Манхэттене, она машет мне рукой (я снимал это при помощи телеобъектива), Гудзон, освещенный утренним солнцем, черные буксиры. Манхэттен, чайки...
- Стоп! - говорю я. - Пожалуйста, следующую.
Снова он меняет катушку.
- Вы, видно, объехали полсвета, сударь, как бы я тоже хотел ездить!
Было уже 11:00.
Мне пришлось принять мои таблетки, чтобы быть в форме, когда явятся господа из правления; я проглотил эти таблетки без воды, я не хотел, чтобы техник заметил.
- Нет, - говорю я, - опять не то.
Снова он меняет катушку.
- Это вокзал в Риме, да?
Я не отвечаю. Я жду следующей катушки. Я напряженно слежу, чтобы немедленно остановить. Я знал, что я могу увидеть: Сабет на теплоходе; Сабет играет в пинг-понг на прогулочной палубе (со своим другом с усиками); Сабет в бикини; Сабет, которая показывает мне язык, заметив, что я ее снимаю, - все это должно было быть в той катушке, которая начиналась с Айви; значит, это уже миновало. Но на столе еще лежали шесть или семь катушек; и вдруг она возникает на экране - как будто иначе и быть не может - чуть ли не в натуральную величину. В цвете.
Я встал с места.
Сабет в Авиньоне.
Я не остановил, а дал прокрутить всю ленту, хотя техник мне несколько раз говорил, что это не может быть Гватемала.
И сейчас еще вижу эту ленту.
Ее лицо, которого никогда больше не будет...
Сабет во время мистраля; она идет против ветра, терраса, сад Папы, все развевается - волосы, юбка, юбка, как шар... Сабет стоит у перил, она кивает.
Сабет в движении...
Сабет, когда она кормит голубей.
Ее смех, но беззвучный...
Авиньонский мост, старый мост, который обрывается посреди реки. Сабет мне что-то показывает, ее недовольная гримаса, когда она замечает, что я ее снимаю, вместо того чтобы глядеть; она морщит лоб над переносицей, она что-то говорит.
Пейзажи.
Вода Роны, видно, очень холодная. Сабет осторожно окунает в нее ногу и отрицательно качает головой; заход солнца, моя длинная тень.
Ее тело, которого больше нет...
Античный театр в Ниме.
Завтрак под платанами, официант, который принес нам еще бриошей, ее болтовня с официантом; она глядит на меня и наливает мне в чашку черного кофе.
Ее глаза, которых больше нет...
Мост Гард.
Сабет покупает открытки, чтобы написать маме. Сабет в своих черных джинсах; она не замечает, что я ее снимаю; Сабет, которая откидывает привычным жестом свой конский хвост за спину.
Гостиница "Генрих IV".
Сабет сидит на подоконнике, скрестив ноги, босиком; она ест вишни и глядит на улицу, она выплевывает косточки прямо вниз; идет дождь.
Ее губы...
Сабет разговаривает с французским мулом, который, по ее мнению, слишком тяжело навьючен.
Ее руки...
Наш "ситроен" образца 57-го года.
Ее руки, которых больше нет, она гладит мула...
Бой быков в Арле.
Сабет причесывается, зажав заколку своими крепкими зубами; она снова замечает, что я ее снимаю, и вынимает заколку изо рта, чтобы сказать мне что-то - наверно, она просит не снимать, - и вдруг смеется.
Ее крепкие зубы...
Ее смех, которого я никогда больше не услышу...
Ее юный лоб...
По улице идет процессия (мне кажется, это тоже в Арле); Сабет вытягивает шею, чтобы лучше видеть, она курит, зажмуривая глаза от дыма, руки она засунула в карманы штанов. Сабет стоит на цоколе, чтобы глядеть поверх толпы. Над процессией плывет балдахин, должно быть, звонят в колокола, но этого не слышно, несут фигуру Богородицы; за ней идут мальчики из хора, должно быть, они поют, но и этого не слышно.
Платановая аллея. Прованская аллея.
Наш пикник на дороге. Сабет пьет вино. Ей трудно пить из горлышка; она закрывает глаза и несколько раз пробует, потом вытирает рот, у нее явно ничего не выходит, и она отдает мне бутылку, пожимая плечами.
Пинии, которые гнет мистраль.
Еще раз пинии во время мистраля.
Ее походка...
Сабет направляется к киоску, чтобы купить сигареты. Она идет. Сабет в своих черных штанах, как обычно, она стоит на тротуаре, чтобы поглядеть направо и налево, ее конский хвост при этом болтается, потом она наискосок перебегает улицу прямо ко мне.
Ее прыгающая походка...
Снова пинии во время мистраля.
Сабет спит, полуоткрыв рот, детский рот, ее растрепанные волосы, ее серьезное лицо, закрытые глаза...
Ее лицо, ее лицо...
Ее дышащее тело...
Марсель. Погрузка быков в порту: коричневых быков выводят на разостланную на асфальте сетку, потом их подхватывает подъемный кран; они цепенеют от страха, когда висят в воздухе, их ноги беспомощно торчат из петель сетки, глаза закатываются, словно в эпилептическом припадке.
Пинии во время мистраля; еще раз.
L'unite d'habitation [единство жилища (фр.)] (Корбюзье).
В целом освещение этого фильма совсем неплохое, во всяком случае куда лучше, чем лент, отснятых в Гватемале; цвет получился просто великолепный, я был поражен.
Сабет собирает цветы...
Я приладился (наконец!) держать камеру так, чтобы она не качалась из стороны в сторону, поэтому движение объекта получается гораздо четче.
Прибой...
Пальцы Сабет - она впервые увидела пробковый дуб, - ее пальцы, когда она отламывает кусочек коры и кидает его в меня!
(Дефект пленки.)
Прибой в полдень, и больше ничего.
Снова Сабет, когда она причесывается. Волосы у нее мокрые, голову она чуть наклонила набок, чтобы легче расчесать; она не видит, что я снимаю, и что-то рассказывает, продолжая расчесывать волосы; они темнее, чем обычно, потому что мокрые, совсем рыжие, ее зеленая расческа вся в песке; Сабет продувает расческу, ее мраморная кожа с капельками воды, она продолжает рассказывать...
Подводная лодка в Тулоне.
Молодой бродяга с омаром в руках, омар двигает клешнями, и Сабет всякий раз пугается...
Наша маленькая гостиница в Ле-Трайя.
Сабет сидит на молу...
Еще раз прибой.
(Слишком затянуто!)
Сабет еще раз на молу; она стоит, наша мертвая дочка, и поет, снова засунув руки в карманы штанов; она думает, что она здесь совершенно одна, и поет, но этого не слышно...
Конец катушки.
Что подумал обо мне юный механик и что он сказал, когда собрались господа из правления, я не знаю; я сидел в вагоне-ресторане экспресса (то ли "Гельвеция-экспресс", то ли экспресс "Красоты природы", я уже не помню) и пил минеральную воду. Как я ушел из здания фирмы "Хенке - Бош", я тоже уже не знаю; я просто ушел, ничего не объяснив, не найдя никакого благовидного предлога.
Я только оставил им нужные фильмы.
Я сказал механику, что мне необходимо уйти, и поблагодарил его за помощь. Я вышел в прихожую, где оставил пальто и шляпу, потом попросил секретаршу принести мне портфель, который я оставил в комнате правления. Я стоял у лифта; было 11:32, и все как раз собирались идти на просмотр, а я извинился, ссылаясь на боли в желудке (что было неправдой), и сел в лифт. Мне предложили отвезти меня на машине в гостиницу или в больницу; но у меня ведь вовсе не было никаких болей, я поблагодарил и пошел пешком. Я шел не торопясь, не имея никакого представления, куда иду: я не знаю, как выглядит теперь Дюссельдорф; я шел по городу, где такое же движение, не обращая внимания на светофоры, я шел, мне кажется, как слепой. Я направился к вокзалу, купил в кассе билет и сел в первый отходящий поезд, - и вот теперь я пью минеральную воду в вагоне-ресторане и гляжу в окно; я не плачу, мне просто хочется больше не быть, не существовать, исчезнуть... Зачем глядеть в окно? Мне больше не на что смотреть. Ее руки, которых нигде больше нет, ее движения, когда она откидывает волосы на затылок или причесывается, ее зубы, ее губы, ее глаза, которых нигде больше нет, ее лоб: где мне все это искать? Я хотел бы одного - чтоб меня вообще никогда не было. Зачем я еду, собственно говоря, в Цюрих? Зачем в Афины? Я сижу в вагоне-ресторане и думаю: почему бы мне не взять вот эти две вилки, не поставить их торчком и не уронить на них свое лицо, чтобы избавиться от глаз?
Моя операция назначена на послезавтра.
_P.S. В течение всего своего путешествия я не имел ни малейшего представления о том, что Ганна делала после несчастья. Я не получил от нее ни одного письма! Я и теперь еще этого не знаю. Когда я ее спрашиваю, она мне отвечает: "Что я могу делать!" Я вообще перестал что-либо понимать. Как может Ганна после всего случившегося еще выносить меня? Она приходит сюда, чтобы поскорее уйти, а потом снова возвращается, она приносит мне все, что мне хочется, она меня выслушивает. Что она думает? Волосы у нее стали совсем седые. Почему она не говорит мне, что я загубил ее жизнь? После всего, что случилось, я не могу себе представить, как она живет. Один-единственный раз я понял ее - тогда, у кровати мертвой дочери, когда она била меня кулаками по лицу. С тех пор я ее больше не понимаю._
16/VII. Цюрих.
Я поехал из Дюссельдорфа в Цюрих, как мне кажется, только потому, что не видел свой родной город уже многие десятилетия.
Вильямс ждал меня в Париже...
Делать мне в Цюрихе было нечего.
В Цюрихе, когда профессор О. остановил возле меня машину и вышел, чтобы со мной поздороваться, я его снова не узнал; точь-в-точь как в прошлый раз: череп, обтянутый кожей - не человеческой кожей, а дубленой желтой кожей, как на портфелях, живот как мяч, уши торчком, та же сердечность, та же улыбка, похожая на оскал черепа, глаза все еще живые, но совсем провалившиеся; я знал только, что я знаком с ним, но в первое мгновение опять не мог сообразить, кто это.
- Все торопитесь? - смеялся он. - Все торопитесь?
Спросил, что я делаю в Цюрихе.
- Вы что, меня снова не узнаете?
Вид у него был жуткий, я не находил слов; конечно, я его узнал, только в первую минуту я растерялся от испуга, а потом меня сковал страх, что я ляпну что-нибудь невозможное. Я ответил:
- Нет, сегодня я не спешу.
Мы пошли вместе в кафе "Одеон".
- Мне очень жаль, - сказал я, - что я вас не сразу узнал тогда в Париже.
Но он на меня не сердился, он смеялся; я слушал его, глядя на его старые зубы: это только казалось, что он смеется, его зубы были слишком велики, у него теперь не хватало ни кожи, ни мускулов для несмеющегося лица; я беседовал с черепом, я должен был взять себя в руки, чтобы не спросить профессора О., когда же он наконец умрет. Он смеялся:
- Что это вы рисуете, Фабер?
Я рисовал на мраморной крышке столика, - собственно говоря, не рисовал, а просто черкал карандашом; в желтом мраморе была какая-то жилка, она напоминала улитку, и я превратил ее в спираль, в незатейливую спираль; но, когда он спросил меня об этом, я спрятал в карман карандаш, и мы продолжали наш разговор о мировой политике, но его смех мне настолько мешал, что я уже был не в силах вымолвить слово.
Что же это я такой молчаливый?
Один из старых официантов кафе "Одеон", венец Петер, узнал меня; он нашел, что я нисколько не изменился.
Профессор О. смеялся. Он выразил сожаление, что я в свое время не довел свою диссертацию (о так называемом максвелловском демоне) до конца.
В кафе было полным-полно кокоток, как и прежде.
- Знаете ли вы, - смеялся он, - что кафе "Одеон" снесут?
И вдруг его вопрос:
- Как поживает ваша красивая дочь?
Он видел Сабет, когда мы с ним простились тогда, в кафе, в Париже; как он сказал, "недавно в Париже"! Это было после обеда, перед тем как мы с Сабет пошли в оперу, в канун первого дня нашего свадебного путешествия...
Я ничего не ответил, только сказал:
- Откуда вы знаете, что это была моя дочь?
- Я так подумал.
Снова его смех.
В Цюрихе мне делать было решительно нечего; и в тот же день (после болтовни в "Одеоне" с профессором О.) я поехал в Клотен, чтобы лететь дальше. Мой последний полет!
Снова "суперконстэллейшн".
Это был, собственно говоря, спокойный полет, только слабый фен поднялся над Альпами, которые я с детских лет неплохо знаю, но впервые над ними лечу: голубое небо перед закатом, обычный фен, а внизу - Фирвальдштетское озеро, справа - Веттергорн, за ним Эйгер и Юнгфрау, а быть может, и Финстерааргорн, так точно я наших гор уже не помню, у меня другое в голове...
А что, собственно говоря?
Долины в скупом свете надвигающихся сумерек, склоны, на которые уже спустилась тень, ущелье, где уже давно зашло солнце, белые ленточки горных речек, пастбище, стога сена, красные в отсвете заката, стадо в лощине, белая галька на границе леса - как белые личинки! (Сабет, конечно, назвала бы это иначе, но я не знаю как.) И я уперся лбом в холодное стекло; бесполезные мысли...
Хочется вдыхать запах сена!
Никогда больше не летать!
Хочется ходить по земле - вон там, внизу, у сосен, на которые еще падает солнечный свет; вдыхать запах смолы, слышать, как шумит вода, как она грохочет, пить воду...
Все проносится мимо, как в кино!
Хочется взять в руку горсть земли...
Вместо этого мы продолжаем набирать высоту.
Зона жизни - какая она, собственно говоря, узкая, несколько сот метров, а выше атмосфера слишком разреженная, становится чересчур холодно, можно сказать, человечество живет в оазисе, на дне зеленой долины, у нее есть узкие разветвления, а потом оазис кончается, леса уже не растут (у нас на высоте двух тысяч метров, в Мексике - четырех тысяч метров), выше еще встречаются стада, они пасутся как бы на границе возможной жизни, там еще есть цветы (я их не вижу, но знаю, что они есть), яркие и пахучие, но крохотные, есть насекомые, а потом только камни, только лед.
Я увидел новое озеро, образовавшееся благодаря плотине.
Его вода как перно, зеленоватая и мутная, а в ней отражается снежная вершина, у берега стоит лодка; вокруг ни души.
Плывет туман.
Трещины в ледниках зеленые, как бутылочное стекло.
Сабет сказала бы: как изумруд! Снова наша игра со счетом до двадцати одного очка! Скалы после заката: как золото. Я нахожу: как янтарь, потому что они матовые и почти прозрачные, или как кости, потому что светло-желтые и пористые. Тень нашего самолета над моренами и ледниками: всякий раз, когда она проваливается в бездну, кажется, что она погибла, что ее туда заманили; но вот через мгновение она снова ползет по следующей скальной стене; кажется, будто ее прилепили мастерком штукатура, но она не держится, а скользит и снова падает в пустоту по ту сторону гребня. Тень нашего самолета как летучая мышь! - так сказала бы Сабет, я ничего не нахожу и теряю очко, но у меня другое на уме: я вижу следы на снегу, следы человеческих ног, они выглядят как заклепки, а Сабет сказала бы - как бусы, голубоватые, они висят длинной нитью на шее снежника. Вот о чем я думаю: если бы я сейчас стоял на той вершине, что бы я стал делать? Уже слишком поздно, чтобы начинать спуск; в долине сгустились сумерки, и вечерние синие тени покрыли ледники, переламываясь на отвесных скалистых стенах. Что же делать? Мы пролетаем мимо; я вижу белый крест на вершине, там горит огонек, но очень одиноко; этот огонек не могут увидеть те, кто взбирается на вершину, потому что надо начать спускаться прежде, чем он загорается. За то, чтобы увидеть его, надо заплатить своей жизнью, но он очень красив; еще мгновение, и все это скрывается за облаками; воздушные ямы, южный склон Альп весь в облаках, как и следовало ожидать: они как вата, как гипс, как цветная капуста, как мыльная пена с пузырями, отливающими всеми цветами радуги; не знаю, что бы еще придумала Сабет, контуры их очень быстро меняются, иногда в облаках получается прорыв, и тогда можно заглянуть вглубь: черный лес, горная речка, лес как еж - но все это длится мгновение, облака плывут, находят друг на друга, тени верхнего слоя облаков на нижнем, тени как занавеси; мы пролетаем сквозь них, перед нами горы облаков, освещенные солнцем; кажется, наш самолет разобьется об эти горы, горы из водяных испарений, белые, упругие, зернистые, словно греческий мрамор.
Мы влетаем в эти горы.
Со времени моей вынужденной посадки в пустыне Тамаулипас я всегда садился в самолете так, чтобы видеть шасси, как только его выпустят; меня всегда занимало, не превратится ли посадочная дорожка в последнюю минуту, когда ее коснутся колеса, в пустыню...
Милан.
Отправляю телеграмму Ганне, что я прилетаю.
Кому же еще?
Трудно себе представить, почему шасси, состоящее из двух пар колес и особых рессор на трубчатой рамке из блестящего металла, густо покрытой смазкой, как и полагается, - трудно себе представить, почему это шасси должно вдруг повести себя как демон, который превращает посадочную дорожку в пустыню; все это, конечно, бредни, которые я сам не принимаю всерьез; мне за мою жизнь ни разу не пришлось столкнуться ни с одним демоном, не считая так называемого максвелловского демона, который, как известно, вовсе не демон. Рим.
Отправил телеграмму Вильямсу - сообщил ему, что ухожу с работы.
Постепенно я начинал успокаиваться.
Когда мы полетели дальше, наступила уже ночь, да и наш курс пролегал немного севернее, так что я не смог ночью различить Коринфский залив.
Все как обычно.
Красные искры, вспыхивающие в ночи...
Зеленый бортовой огонек на крыле...
Лунный свет на крыле...
Раскаленное докрасна сопло мотора...
Я следил за всем с напряженным вниманием, словно летел впервые в жизни; я видел, как медленно выползало шасси, видел, как луч прожектора скользил под нашими крыльями, белым светом озарял пропеллеры, потом снова гас, они под нами, улицы Афин или Перея; мы спускались, уже видны желтые посадочные сигналы, посадочная площадка, снова вспыхнул свет нашего прожектора, потом обычный мягкий толчок (на этот раз без потери сознания) и облако пыли, поднимающееся под шасси.
И вот я отстегиваюсь.
Ганна стоит среди встречающих.
Я вижу ее из окна.
Ганна вся в черном.
У меня только портфель, машинка, пальто и шляпа, так что все формальности на таможне улаживаются мгновенно; я выхожу первым, но не решаюсь даже помахать рукой. Немного не дойдя до барьера, я остановился (так говорит Ганна) и подождал, пока Ганна сама ко мне подойдет. Я впервые увидел Ганну в черном. Она поцеловала меня в лоб. Шоферу такси она велела ехать в гостиницу "Эстиа Эмборрон".
_Сегодня мне можно пить только чай, они еще раз сделают все обследования - и все. Завтра наконец операция._
До сегодняшнего дня я всего один-единственный раз был на ее могиле, потому что они меня здесь (я ведь пришел только на обследование) сразу же оставили: раскаленная от солнца могила, цветы вянут за полдня...
_18:00.
Они забрали у меня машинку.
Ганна приходила еще раз.
24:00.
Я еще ни минуты не спал, и спать мне совсем не хочется. Я все знаю. Завтра они меня разрежут, чтобы установить то, что они уже знают: что спасти меня нельзя... Они снова меня зашьют; и, когда я очнусь после наркоза, мне сообщат, что сделали операцию. И я в это поверю, хотя все знаю. Я не хочу признаться, что боли вернулись, что приступы сильнее, чем прежде. Многие говорят: если бы я узнал, что у меня рак желудка, я пустил бы себе пулю в лоб, - но это ведь только слова. Я хочу жить, как никогда прежде, и, даже если бы мне осталось жить только год, жалкий год, или три месяца, или даже два (это были бы сентябрь и октябрь), я не потерял бы надежду, хотя знаю, что погиб. Но я не один, Ганна мой друг, и я не один.
02:40.
Написал Гамме письмо.
04:00.
Распоряжение на случай смерти: все мои бумаги, письма, записи, дневники должны быть уничтожены, потому что все это ложь. Быть на земле - значит быть на свету. Где-нибудь (как тот старик из Коринфа) погонять осла - это тоже профессия, важно только одно: крепко держаться света, радости (как наша девочка, когда она пела), сознавая, что сам угаснешь; видеть дрок, асфальт, море, крепко держаться времени - вернее, вкладывать вечность в мгновение. Быть вечным - значит прожить свою жизнь.
04:15.
У Ганны тоже больше нет квартиры, только сегодня (вчера!) она мне это сказала. Она живет теперь в пансионе. Моя телеграмма из Каракаса ее уже не застала в прежней квартире. Как раз примерно в то время Ганна села на теплоход. Сперва у нее была мысль прожить год на островах, где у нее были знакомые греки еще с той поры, как велись раскопки (Делос); на островах жизнь, говорят, очень дешева. В Миконосе можно купить дом за двести долларов, считает Ганна, а в Аморгосе - за сто. Она больше не работает в институте, а я об этом и не подозревал. Ганна пыталась сдать свою квартиру вместе с обстановкой, но в такой краткий срок ей этого сделать не удалось, тогда она все продала, а многие книги раздарила. Она просто была больше не в силах оставаться в Афинах, сказала она. Когда она решила сесть на теплоход, она подумывала о Париже, а может быть, и о Лондоне; все это было весьма неопределенно, потому что в ее возрасте, считает Ганна, не так-то легко найти новую работу, например работу секретарши. Но Ганне никогда не приходило в голову обратиться ко мне за помощью, поэтому она и не писала. Собственно говоря, у Ганны была одна-единственная цель - уехать из Греции! Она покинула город, не попрощавшись ни с кем из своих здешних знакомых, за исключением директора института, которого она очень ценила. Последние часы перед отъездом она провела на могиле; на борту ей надо было быть в 14:00, отплытие - в 15:00, но по какой-то причине отплытие задержалось почти на час. И вдруг (говорит Ганна) этот отъезд показался ей бессмысленным; и она сошла с теплохода в последнюю минуту, прихватив с собой только ручной багаж. Три больших чемодана, которые были уже на теплоходе, получить назад не удалось. Чемоданы эти поплыли в Неаполь и вскоре должны оттуда прибыть. Сперва она жила в гостинице "Эстиа Эмборрон", но оставаться там надолго ей не по средствам; она дала о себе знать в институте, но оказалось, что ее помощник за это время успел занять ее место, с ним подписали договор на три года, уже ничего нельзя было изменить, он достаточно долго ждал этого места и добровольно отказаться от него не желал. Директор будто бы держал себя очень мило, но институт недостаточно богат, чтобы дважды оплачивать одну и ту же должность. Они только могли предложить ей время от времени аккордные работы и наилучшие рекомендации, чтобы она искала работу в других городах. Но Ганна решила остаться в Афинах. Ждала ли Ганна здесь меня или, наоборот, хотела покинуть Афины, чтобы больше никогда со мной не встречаться, я не знаю. Только по чистой случайности она вовремя получила мою телеграмму из Рима: как раз в тот момент, когда пришла телеграмма, она была в своей пустой квартире, чтобы передать ключи привратнику. Теперь Ганна работает гидом, по утрам - в музее, после обеда - в Акрополе, а по вечерам - в Сунионе. Чаще всего ей попадаются группы, которые осматривают все эти места за один день, - туристы Средиземноморского бюро путешествий.
06:00.
Написал Ганне еще одно письмо.
06:45.
Я не знаю, почему Иоахим повесился, а Ганна меня все об этом спрашивает. Откуда мне это знать? А она все снова возвращается к этому, хотя я знаю об Иоахиме куда меньше Ганны. Она говорит: "Когда родился ребенок, он никогда не напоминал мне тебя. Это был мой ребенок, только мои. Что же касается Иоахима, то я любила его именно потому, что он не был отцом моего ребенка, и первые годы все было очень просто". Ганна считает, что наш ребенок никогда бы не появился на свет, если бы мы тогда не расстались. В этом Ганна убеждена. Видимо, все это решилось для Ганны еще до того, как я приехал в Багдад; она всегда хотела иметь ребенка, потом она забеременела; и только когда я уехал, обнаружила, что хочет иметь ребенка без отца, не нашего, а своего ребенка. Она была одна и счастлива, что беременна; и когда она отправилась к Иоахиму, чтобы он ее переубедил, она внутренне уже была исполнена решимости рожать; ее не смущало тогда, что Иоахим считает, будто это он подсказал ей важное решение в поворотный момент ее жизни. Он влюбился в Ганну, и вскоре они поженились. Моя неудачная фраза, которую я при нашей первой встрече сказал ей вечером в ее квартире: "Ты ведешь себя как наседка!" - ее сильно взволновала, потому что когда-то Иоахим, как она сама мне призналась, тоже бросил ей эту фразу. Иоахим заботился о ребенке, но не вмешивался в вопросы воспитания. Это ведь был не его ребенок, да и не мой ребенок, а ребенок без отца, просто ее ребенок, ее собственный ребенок, до которого не было дела ни одному мужчине; с этим Иоахим легко мирился, особенно в первые годы, пока девочка была еще совсем маленькая и так или иначе должна была находиться всецело в ведении матери; в то время Иоахим великодушно разрешил это Ганне, потому что в этом было ее счастье. Обо мне, говорит Ганна, речь никогда не заходила. У Иоахима не было никаких оснований ревновать, да он и не ревновал ко мне. Он видел, что я как отец не играю никакой роли - ни для внешнего мира (там просто об этом ничего не знали), ни тем более для Ганны, которая меня начисто забыла (как Ганна меня много раз уверяла) и ни в чем не упрекала. Отношения между Иоахимом и Ганной начали осложняться, когда девочка подросла и перед ними встали вопросы ее воспитания; дело было здесь не столько в том, что их мнения расходились, - это бывало очень редко, а в том, что Ганна считала себя единственной и последней инстанцией во всех вопросах, касающихся ребенка, а с этим Иоахим никак не мог примириться. Ганна признает, что Иоахим был вполне уживчивым человеком и что все конфликты возникали только по этой причине.
Было ясно, что он все больше и больше мечтал о ребенке - об общем ребенке, который вернет ему положение отца в семье, и полагал, что с его рождением все бы образовалось само собой; Эльсбет считала Иоахима отцом, любила его, но он не доверял ей, думает Ганна, и все время казался себе лишним в семье. В те годы было достаточно веских оснований, чтобы не рожать на свет новых детей, а тем более для полуеврейки немецкого происхождения; еще теперь Ганна горячо отстаивает вескость этих причин, словно я намерен с ней спорить. Иоахим, однако, считал эти причины отговоркой; он был исполнен подозрения: ты не хочешь, чтобы в доме был отец! Ему казалось, что Ганна готова иметь детей только при условии, что отец исчезнет. Оказывается - я этого не знал, - Иоахим оформил все документы на выезд за океан еще в 1935 году и был готов пойти на все, чтобы никогда не расставаться с Ганной. Ганна тоже никогда не думала, что они расстанутся, она собиралась уехать с Иоахимом в Канаду или Австралию; она даже приобрела еще профессию лаборантки, чтобы в любом месте быть его помощницей. Однако всего этого не случилось. Иоахим узнал, что Ганна сделала себе операцию, чтобы не иметь детей, и это стремительно приблизило развязку. Хотя он и смог, к досаде своей родни, освободиться от воинской повинности. Иоахим добровольно пошел служить в вермахт. Ганна не могла его забыть. У нее были в дальнейшем еще романы, но она всю свою жизнь посвятила девочке. Она работала в Париже, потом в Лондоне, Восточном Берлине, Афинах. Она скиталась вместе со своим ребенком. Там, где не было школ на немецком языке, она сама занималась с дочерью и в сорок лет стала играть на скрипке, чтобы аккомпанировать ей. Ничто не казалось Ганне трудным, если речь шла о дочке. Когда немецкие войска оккупировали Париж, она скрывалась с больной девочкой в подвале и выходила на улицу, только чтобы купить лекарство. Однако Ганна не избаловала свою дочку; для этого Ганна слишком умна, считаю я, хотя она все время (особенно в последние дни) называет себя идиоткой. "Почему ты это сказал?" - спрашивает она у меня теперь постоянно. Почему я сказал тогда "твой ребенок", вместо того чтобы сказать "наш ребенок"? Был ли это упрек с моей стороны или просто трусость? Я не понимаю ее вопроса. Знал ли я тогда, насколько я прав? И почему я недавно сказал: "Ты ведешь себя как наседка"? Эту фразу я уже несколько раз брал назад с тех пор, как узнал, сколько Гамме пришлось пережить; но сама Ганна никак не может отделаться от этой фразы. Могу ли я ее простить? Ганна плакала, стоя на коленях, хотя каждую минуту могла войти дьякониса. Ганна, которая целует мою руку, - такой Ганны я не знаю. Я понимаю только, что Ганна, после всего что произошло, никогда больше не покинет Афины, могилу нашего ребенка. "Мы оба здесь останемся", - думаю я. Я понимаю также, почему она отказалась от квартиры, где теперь всегда была бы пустая комната; уже достаточно трудно было Ганне отпустить девочку одну путешествовать, пусть только на полгода. Ганна всегда знала, что когда-нибудь ее дочка покинет дом; но даже Ганна не могла предвидеть, что в этом путешествии Сабет встретится со своим отцом, который все погубит...
08:05.
Они пришли за мной.