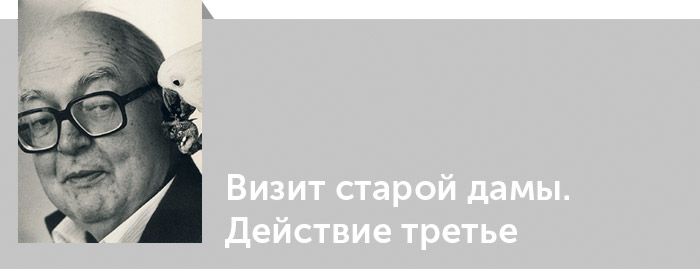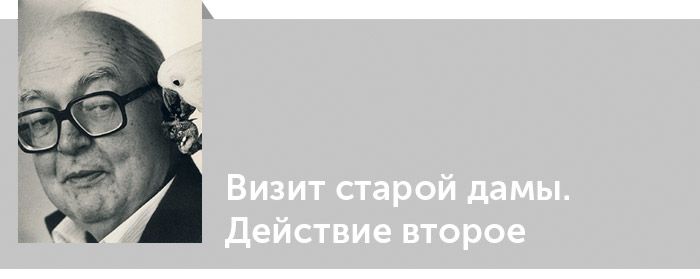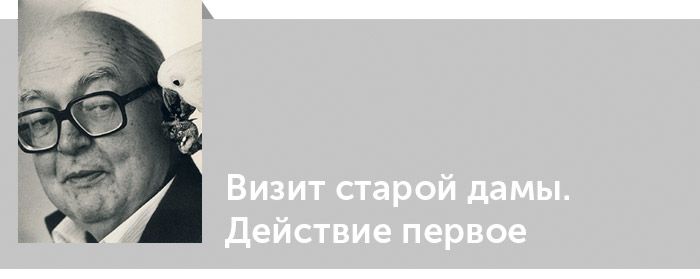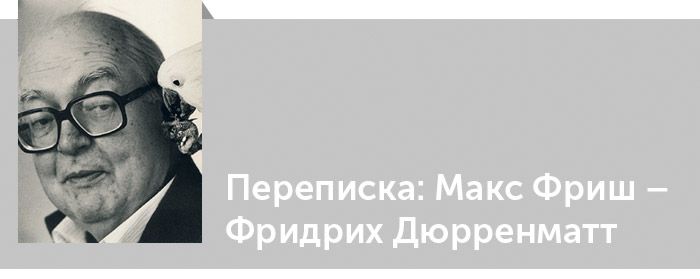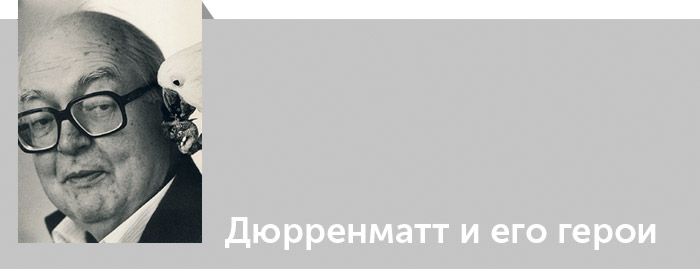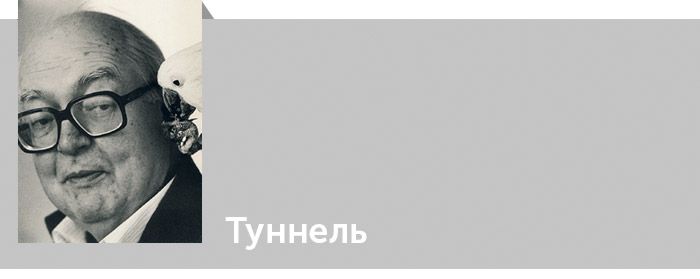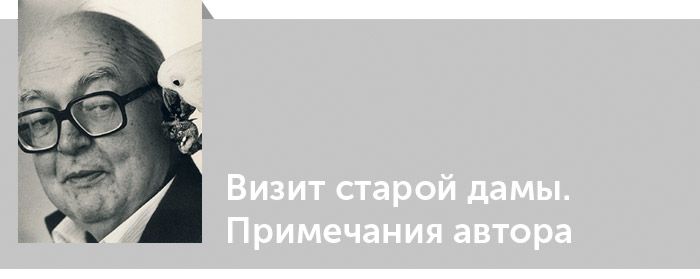14 тезисов к Фридриху Дюрренматту
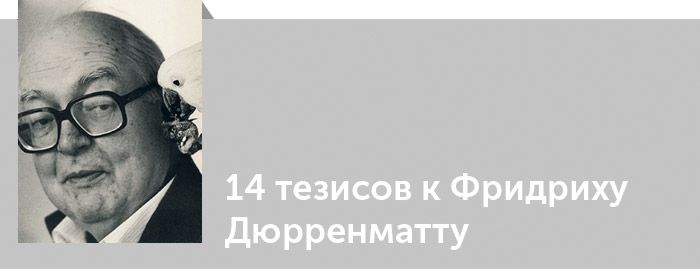
Ю. Архипов
Швейцария — страна-невеличка, ее географический портрет — цветное пятнышко где-то в центре Европы — на карте отыщешь не сразу. Но у этой маленькой страны своя интересная и поучительная история, которой по праву гордятся не бравшиеся за оружие со времен Наполеона миролюбивые и вольнолюбивые потомки легендарного племени геттов, много веков назад обосновавшегося среди живописных лугов, окруженных высокими Альпами. Страна первой в Европе демократии явилась родиной многих литературных дарований, снискавших швейцарской литературе уважение и признательность во всем мире. Иеремия Готхельф, Готфрид Келлер, Роберт Вальзер, Герман Гессе занимают достойное место в пантеоне классиков немецкоязычной прозы. Нынешние литературные достижения Швейцарии — благодаря усилиям Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта — ассоциируются прежде всего с драматургией. Расцвет драматургии в послевоенной Швейцарии не случаен. Дел» в том, что Женева, Цюрих, Базель, Берн и другие швейцарские города и кантоны в течение двенадцати тревожно-тягостных лет существования «тысячелетнего рейха» были перепутьем эмигрантских дорог, средоточием культурных и, в частности, театральных сил, искавших убежища от фашизма. Здесь произошло невольное столкновение течений, стилистических и идейных поисков и новаций, настоящая ярмарка «измов». Модернисты в неуемном порыве самоутверждения старались изо всех сил взбудоражить воображение благопристойного зрителя. Рядом на одной из тихих женевских улочек, отказавшись от всякой надежды вновь увидеть на сцене свои, увы, уже устаревшие пьесы, жили и писали «романы без конца» два забытых ими почтенных предшественника — Музиль и Джойс.
Кумиром был Торнтон Уайлдер. Его «дезиллюзионистская» пьеса «Наш городок», впервые поставленная в Цюрихе в 1938 году, име¬ла шумный успех. От этой премьеры теперь часто ведут летосчис¬ление всевозможных веяний в современном театре Запада. Запасы неиссякаемой творческой энергии демонстрировал Георг Кайзер — патриарх немецкой экспрессионистской драмы, направлявший по-мыслы своих многочисленных учеников на борьбу с фашизмом. Среди молодых драматургов, группировавшихся вокруг мэтра, вы-делялись талантливые австрийцы Фердинанд Брукнер и Фриц Хох-вельдер, эмигрировавшие после «аншлюса» в Швейцарию. Здесь успешно проходили премьеры Карла Цукмайера, в то время еще соперничавшего с Брехтом за право называться первым немецким драматургом. Здесь дважды подолгу жил и сам создатель эпиче¬ского театра. Бурная театральная жизнь втянула в свою живую и пеструю крутоверть многих начинающих авторов, для которых те-атр был притягательным магнитом, манившим богатством форм и разнообразием творческих возможностей.
Разумеется, одних этих обстоятельств было бы недостаточно, чтобы выковать двух драматургов с мировым именем,— необходим был и субъективный момент, наличие творческих потенций, но в иных объективных условиях они могли и реализоваться по-иному. Харак-терно, что и Фриш и Дюрренматт начали не с драматургии, оба пришли в литературу окольным путем: Фриш — через журналисти-ку и архитектуру, Дюрренматт — предварительно испробовав свои силы в графике. Однако атмосфера оживленных театральных дис-куссий, связанных прежде всего с бурной деятельностью темпе-раментного и острого фехтовальщика за новый театр — Бертольта Брехта, приковала к себе внимание обоих дебютантов, выступив-ших со своими пьесами почти одновременно, несмотря на разницу лет — Фриш десятью годами старше Дюрренматта.
2
Фридрих Дюрренматт родился в 1921 году в семье пастора одного из сельских приходов в кантоне Берн — как раз той общины, к ко-торой принадлежала в свое время деревенька писателя Готхельфа, упоминаемого Дюрренматтом с неизменной почтительностью. Семья вела образцово протестантский образ жизни — была хлебосольна, дружелюбна, многодетна, привержена к патриархальным традици¬ям, не чуждалась и муз: дед Фридриха был завзятым поэтом, без которого не обходилось ни одно шумное и потешное деревенское празднество. Поэтика карнавала, площадной разудалой гульбы от¬крывалась мальчику с детства — потому, может быть, буффонада и фарс производят впечатление такой естественности в его пьесах, составляя одну из наиболее удачных и убедительных сторон его творчества.
Свою первую премию — часы — будущий драматург получил в двенадцать лет, но не за успехи на литературном поприще, а победив в конкурсе детских рисунков «Календаря Песталоцци». Жюри по¬разила энергия, дисциплина, уверенность в себе, которые обнару¬жил юный дипломант при очном знакомстве. «Этот будет полков¬ником!» — сказал художник Куно Амье. Вспоминая потом об этом случае, Дюрренматт писал: «Мастер заблуждался. В швейцарской армии мне не суждено было подняться выше рядового солдата, а в жизни — выше писателя».
Любовь к перу и кисти проснулась в студенте Дюрренматте слиш-ком рано и слишком захватила его, чтобы он мог довести свое уни-верситетское образование до ученой степени. Едва прослушав курс философии, теологии, немецкой литературы и истории ис¬кусств, он предался самостоятельному творчеству — начал работать художником-графиком, вскоре затем обратившись к литературе. На первых порах получалось не очень-то гладко, но юноша не отчаивался, выручало чисто крестьянское упорство и трудолюбие. Он писал аккуратно по три страницы в день — детективные романы, уснащенные сентиментальными па и морализаторскими сентенциями, радиопьесы, новеллы. В двадцать шесть лет он стал свидетелем скандала на премьере своей первой пьесы. Пять лет спустя он приобрел известность благодаря оживленным толкам и пересудам, которые велись вокруг его пьесы «Брак господина Миссисипи». Еще через пять лет его имя появилось на театральных афи¬шах разных стран Европы. Слава Дюрренматта перешагнула и океан: его «Визит старой дамы» поставил в Штатах знаменитый английский режиссер Питер Брук. Эта пьеса была поставлена в Советском Союзе, Польше и Италии.
3
Для понимания истоков u характера раннего творчества Дюррен-матта необходимо иметь в виду помимо локального и временной фактор. Дюрренматт начал писать в годы второй мировой войны, его первые книги вышли в конце сороковых годов. Это было время мрачного отчаяния, охватившего многих интеллигентов Запада, ужаснувшихся недавно содеянному, колоссальным размерам невероятных преступлений фашизма.
Это было время, во многом напоминавшее первые годы после пер-вой мировой войны — первой мировой бойни. И, как тогда, ужас перед кровавой драмой настроил многих комментаторов проис-шедшего на метафизический лад, заставил искать причины в коренной, «извечной» природе человека. Поднялись в цене экспрессионисты с общемировой проекцией их, пронизанного болью за человечество, творчества. Вошел в моду Франц Кафка — в страдальческом ореоле не услышанного в свой час провидца. Появились «кафкианцы» — эпигоны, мнившие себя продолжателями, восторженно-экзальтированные поклонники жутковато-мрачных парабол источенного и сраженного отчаянием мэтра. Далеко не все и далеко не сразу поняли, что идти дорогой Кафки в искусстве нельзя, ибо это тупик, из которого нет выхода, а потому такое жалкое впечатление производят всякие подражания Кафке, даже самые признанные — как романы Германа Казака и Элизабет Лангессер, как новеллы Ильзы Айхингер и Вальтера Томана. Раннее творчество, Дюрренматта, особенно новеллиста, также во многом протекало в русле кафкианской, если можно так выразиться, традиции. Полные мрачной мистики рассказы Дюрренматта, объединенные в цикле «Город» (1952),—суть сгустки изощренных ужасов, словно перенесенных с полотен неистового эксцентрика Сальватора Дали. Человек в них — жалкая песчинка в мире бездушных, самодовлеющих абстракций, грозящих ему неминуемой и мучительной смертью. Пессимизм этих рассказов, представляющих собой вольные вариации на темы Кафки, в драматургическом творчестве нигде не обнаруживает себя так явно, и лишь отдельные технические приемы, найденные в них, будут перенесены писателем в драму.
4
Реакцией на только что отгремевшую войну были две первые пьесы Дюрренматта — «Писание гласит» (1947) и «Слепой» (1948). В обеих действие происходит в терзаемой войнами Германии XVI века, как и в знаменитой «Мамаше Кураж» Брехта. И хотя на сцене довольно атрибутов средних веков — замки, крепости, латники, еретики, ландскнехты, алебарды и пр.,— роль исторических реалий подчинена чисто внешним задачам театрального действа. Драматург, по его собственному признанию, вовсе не следует правде истории; со свойственной ему прямотой он даже признается, что не очень-то в ней осведомлен, она для него лишь старинная мелодия для инструментовки новейшими драматургическими средствами. Средства эти были разно встречены зрителями — на премьере первой пьесы между ними едва не возникла потасовка. Поражали идейная «вольность» автора, его демонстративное небрежение к схоластическим нормам религиозной морали, удивляла намеренная и подчеркнутая стилистическая разноголосица. В вихревом движении пьесы причудливо сочетались гротеск и быт, реальность и фантазия, суровая ригоричность и "шутовская буффонада. Многое в пьесе с самого начала эпатировало зрителя.
Приемы эпического театра Брехта еще не настолько примелькались, чтобы не вызывала удивления реклама, которую в одном эпизоде пьесы создает своим овощам бойкая уличная торговка: «Лук, прекрасный свежий лук! Кто любит своих потомков, пусть покупает лук. От него мигом беременеют женщины, родятся дети, растет семья! Ешьте лук. Ведь мы еще только в середине мировой истории. Только что кончилось мрачное средневековье. Подумайте, сколько нам еще надрываться! Впереди в туманном будущем вся Тридцатилетняя война, распри из-за престола, Семилетняя война, революция, Наполеон, франко-прусская война, первая мировая война, Гитлер, вторая мировая война, атомная бомба, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая мировые войны. А это значит — нужны дети, нужны трупы. Поэтому пусть ест лук тот, кто любит прогресс,— так он поможет мировой истории!»
Принцип «очуждения», гиперболизированного «остранения», унаследованный Дюрренматтом от Брехта, станет в дальнейшем стержнем его поэтики. Хотя, разумеется, он и у Дюрренматта подчинен, как правило, задачам идейного плана. В пьесе «Писание гласит» драматург ставит важные вопросы морали. Исторический эксперимент — община анабаптистов в Мюнстере 1535 года — служит материалом для эксперимента театрального, призванного дать ответ на вопрос, может ли человек жить в соответствии с требованиями морали, изложенными в заповедях, в соответствии с тем, что сказано в писанин.
Проблематика пьесы решается триадой образов. Теза — праведник Книппердоллинк, мучимый совестью отрешенец от мирских благ суетной жизни. Антитеза — проходимец Бокельзон, лжепророк и циник, жадно и грязно упивающийся плотскими радостями бытия. Синтез — старик-епископ, ведущий осаду взбунтовавшегося города, релятивист, твердо держащийся золотой середины и естественного, как он полагает, порядка вещей, то есть убежден в бессмысленности индивидуального бунта против объективного, мирового порядка. Победа остается за ним — Книппердоллинк и Бокельзон несут равную кару, их колесуют. Однако это никоим образом не означает, что подобный синтез и есть последнее слово автора. Несколькими едкими репликами он отмежевывается и от епископа; концы в пьесе убраны, выводы и резюме надежно укрыты от зрителя: ему самому предоставлено поразмыслить над ними. Так в первой же своей драме Дюрренматт обнаружил весомое отличие от дидактической драмы Брехта — отличие, которое он пытается выдать за абсолютную творческую независимость.
Пьесы Дюрренматта не «интеллектуальны» в том смысло, какой пристал пьесам Сартра, драматургию которого он безоговорочно отвергает. Для Дюрренматта слишком важен «игровой», чисто зрелищный, восходящий к балагану момент в театре; он слишком любит его яркую, пеструю и живую плоть, полную крепких, порой грубоватых красок. То, что в классической трагедии было выражением глубоких жизненных противоречий, а у неоромантиков — печально-красивым символом напоенного неизбывной тоской агностицизма, то у Дюрренматта становится стихией безудержной театральной «игры», бесконечным нанизыванием комических ситуаций, нарочито заостренных контрастов. Таков путь от «Короля Лира» Шекспира через «Слепых» Метерлинка к «Слепому» Дюрренматта. Доброму, прекраснодушному, но слепому герцогу противостоит злонамеренный, жестокий, но зрячий офицер из лагеря Валлен-штейна, хитрый авантюрист и бездушный садист, который обманом захватывает власть в герцогстве, опустошая города и села. Земля стонет, вопли стоят до небес, а слепой герцог убежден, что его страна процветает и здравствует. Никто но в силах убедить его к обратном, внешнему хаосу но удается омрачить его внутреннюю душевную гармонию. Проститутку он принимает за принцессу, негра — за Валленштейна и т. д. Стойкость этого ясного духа в конце концов одерживает верх над сатанизмом его коварного врага, но суть пьесы не столько в этой коллизии и уж вовсе не в пафосе нравственной автономности, она — в контрастах зрительного и слухового восприятий, в той игре несоответствий, которая достигается чередованием этих контрастов. Проповедь добра,— несомненно, существенный компонент драматургии Дюрренматта и на самой ранней ее стадии, но она нигде не имеет самодовлеющего значения, растворяясь в многоцветной ткани гротескного действа.
5
Следующей работой Дюрренматта-драматурга была пьеса «Ромул Великий», написанная в 1948 году и поставленная в 1949 году. Позднее пьеса дважды переделывалась — в 1956 и 1961 годах; Дюрренматт — сознательный и упоенный экспериментатор — любит возвращаться к своим уже апробированным на сцене произведениям, подчищая огрехи, находя новые штрихи и нюансы. Эта...
...ровала его дочь, предлагает ей поупражняться в комедии, а на запальчивые возражения жены, выступившей с апологией уместных, по ее мнению, в данный момент стенаний, отвечает очередным афоризмом: «Успокойся, жена! Кто дышит на ладан, как мы, тот способен понять только комедию»,— то в этой тираде явственно слышится голос самого автора, неустанно утверждающего в своих многочисленных статьях и докладах жизнеспособность и эффективность комедии как единственного жанра современного театра. Ленивый, праздный цезарь сразу подкупает своим блещущим остроумием, а по мере развития пьесы в нем обнаруживается все больше привлекательных черт. Выясняется, что его потешная привязанность к курам, небрежение к государственным делам, из которых его занимает единственное — забота об оскудевшей казне, каковую он, добродушно посмеиваясь, пополняет скромной выручкой от распродажи приданого жены — хранящих следы былого величия бюстов знаменитых римлян, выясняется, что все это имеет под собой глубоко привлекательную основу: презирающий и ненавидящий империю государь любит людей. Он и империю-то, само государство презирает и ненавидит лишь потому, что оно унижает и вредит человеку, сводя его к нулю во имя своих абстрактных интересов. Ромул, для которого гонец важнее любого известия, какое бы он ни принес,— носитель высокой гуманности, недоступной пониманию окружающих его людей. Образ человека, сознательно содействующего ходу истории, несмотря на то, что события направлены как будто против него самого. Этот образ не так уж далек от современности, как может показаться на первый взгляд. В пьесе в иносказательной и сублимированной форме воспроизведена, в сущности, ситуация, в которой находились многие люди в гитлеровской Германии, люди, перед которыми стоял вопрос: нравственно ли содействовать развалу государства в собственной стране, если оно стало на неправый путь. Преступную империю нужно ликвидировать — так резюмировал смысл пьесы и сам драматург. В конце пьесы нарочитая рифма ситуаций: противник Ромула Одо-акр, оказывается, такой же заядлый куровод, воспринимающий свои прерогативы полководца и государственного деятеля как тяжелое и едва ли оправданное бремя. 15 комизме, рожденном столкновением двойников, есть оттенок буржуазного исторического скепсиса: прошлое заглядывает в будущее и видит в нем только себя, только вечные повторения. Есть в нем и затаенная тревога, понятная современникам Дюрренматта.— за спиной незлобивого Одоак-ра маячит мрачная фигура до поры до времени услужливого, отменно вежливого Теодориха — будущего кровавого диктатора. У Дюрренматта это не фатальный парадокс, не закономерность, а, скорее, предостережение.
Как это часто бывает у Дюрренматта, историческую аллегорию в этой пьесе он не торопится обнаружить слишком явно, и та мысль, которую высказал, резюмируя смысл «Ромула Великого», сам драматург и которая приведена выше, становится достоянием далеко не каждого зрителя. Дюрренматт словно боится прослыть назойливо дидактичным, а потому избегает называть конкретного исторического противника, в адрес которого направлена его внешне — но только внешне! — безобидная сатира. Чтобы заострить и конкретизировать ее, режиссерам приходится иногда расставлять в пьесе дополнительные акценты: так, при ее постановке в Ростоке (ГДР) древние германцы были одеты в фашистскую униформу.
6
«Брак господина Миссисипи» (1950) — определенная дань Дюрренматта тем веяниям в европейском театре рубежа пятидесятых годов, из которых впоследствии вырос театр абсурда. Его «отцами» справедливо считают французов — С. Беккета, 3. Ионеско. Надо сказать, что на немецкой почве у них появились довольно ранние «дети» — В. Хильдесхаймер, Ф. Хершельмаи, Э. Борхерс. «Брак господина Миссисипи», как и всю драматургию абсурдистов, Дюрренматт потом назовет «тупиком». Его альянс с этим течением был эфемерным и, хотя имел в свое время довольно шумный успех, ггодлинного творческого удовлетворения драматургу не принес. В этой пьесе нее провоцирует зрителя: и подчеркнуто неправдоподобные сюрреалистические декорации (действие происходит в комнате, через окна которой видны два несовместимых пейзажа — северный и южный), и манера персонажей появляться на сцене (они выходят из огромных часов), и их постоянные обращения к зрителям, разрушающие иллюзию достоверности происходящего, и композиционный трюк пьесы — она начинается с конца, герои принимаются действовать и рассуждать уже после того, как перестреляли друг друга.
Образы этой пьесы Дюрренматта лишены той осязаемой конкретности и яркой, красочной выразительности, которой отличаются персонажи его лучших творений. Здесь они — откровенные резонеры малооригинальных и весьма упрощенных идей, имеющих в более полнокровной и естественной форме широкое хождение среди людей XX века. Они легко укладываются в схему типажей, восходящую к роману и драме начала столетия. Хозяйка странного дома, в котором происходит странное действие,— типичная чувствительная дамочка в импрессионистском вкусе, живущая только настоящим, данным моментом и занятая своими переживаниями и ощущениями. Судья Миссисипи — носитель буквы закона и защит-пик духа его, ретроград и чиновник. Граф Юбелоэ — пламенный проповедник высокой, искупительной миссии любви в этом мире, наследник витийствующего племени экспрессионистов. Граф Фредерик Сен-Клод — поборник «мировой революции», «революционер», каким его себе представляет Дюрренматт, а на самом деле авантюрист и анархист. Традиционную «примирительную» функцию выполняет в пьесе всегда склонный к компромиссам политик-релятивист Диего.
«Идейная» борьба персонажей-резонеров материализуется в кучо трупов, которые устилают сцену к концу действия. Призывы покончить с инертностью и энтропией общества, с которыми актеры обращаются к зрителям, носят довольно абстрактный характер: опасность общественного равнодушия, по Дюрренматту, в том, что оно позволяет укрепиться и возвыситься «экстремистам», социальное лицо которых у автора весьма расплывчато. Абстрактность — самое уязвимое место в этой пьесе. Ей противился и художественный вкус самого Дюрренматта. От нее он пытался снасти хотя бы некоторые детали: «...место действия должно быть вначале возможно более реальным. Нереальное, фантастическое следует спокойно предоставить тексту, автору»,— говорит он в примечаниях к пьесе. И в наиабстрактных своих конструкциях, как видим, Дюрренматт не решается «отлетать» от земли — надежного и единственного домена подлинного сатирика.
7
«Ангел приходит в Вавилон» (1953) — первая часть задуманной, но пока не осуществленной трилогии о Вавилонской башне — символе бессмысленной, но неотвратимой судьбы. Человек, рожденный для свободной, полноценной творческой жизни, по воле злых анонимных сил (вытекающих из общественного устройства) влачит жалкое, бессмысленное существование, полное абсурдного сизифова труда, бесславно в зародыше гибнут богатейшие ресурсы людского ума и сердца при безответственном водительстве сильных мира сего — это одна из ведущих тем западной литературы XX века. Излюбленный образ преступного использования человека для чуждых его интересам целей — Китайская стена. Именно так выглядит этот символ у Франца Кафки, Карла Крауса, Макса Фриша. У Дюрренматта Китайскую стену заменила Вавилонская башня, но содержание и смысл этого символа остались прежними. Со времен Ницше модный на Западе тезис о том, что «бог отвернулся от мира», в этой пьесе обыгран метафорически и пародийно: отношение неба к земле отличает преступная безответственность, точно так же, как отношение императора Навуходоносора к своим бесчисленным подданным.
Пестрый хоровод причудливых, фантастических масок в этой пьесе, равно как и в предыдущих, соткан по принципу контраста. Ангелу-позитивисту, распевающему гимны божьей благодати, умиляющемуся мнимым прогрессом добра в этом лучшем из миров, противостоит божеский гомункулус — созданная из ничего девочка Курруби, утверждающая, что люди несчастны; императору — чиновнику и бюрократу Навуходоносору противостоит жизнерадостный стоик-нищий Акки, отвлеченным абстракциям надуманных схем и бредовых прожектов — живая жизнь, полная мечты о счастье и свете.
8
Радиопьеса — один из самых популярных жанров в современной немецкой литературе. Трудно назвать сколько-нибудь известное имя в ней, которое осталось бы в стороне от исканий и начинаний, связанных с новой музой. Есть уже признанные мастера этого жанра, пишущие почти исключительно для радио; таков, например, Гюнтер Эйх, только в лирике изменяющий микрофону. Но чаще ра-дпопьесы пишут авторы, уже зарекомендовавшие себя в других жанрах,— прозаики Г. Бёлль, М.-Л. Кашниц, Г. Эйзенрейх, И. Айхингер; драматурги В. Хильдесхаймер, Д. Веллерсхоф, поэты И. Бахман, В. Вейраух и другие.
Радиопьесы Дюрренматта идейно-тематически примыкают к его драматургии. В общей сложности им создано в этом жанре около десятка произведений. Тут и радиогротеск, варьирующий кафкиан-ские мотивы и представляющий собой драматургический эквивалент ранней прозы («Двойник», «Ночной разговор»), и злая сатира на буржуазный рай, («Страницкий и национальный герой»), и саркастическая визио-утопия, бичующая современный милитаризм («Операция Вега»), и остроумный и захватывающий философский детектив, щедро расцвеченный блестками афористических парадоксов («Вечер поздней осенью»).
Вероятность невероятного, смешение реального и фантастического в единой карнавальной «игре» жизни — все эти привычные для Дюрронматта компоненты мы находим в его радиопьесе «Авария», написанной на основе одноименной новеллы. Она во многом напоминает знаменитую некогда пьесу Артура Шницлера «Зеленый попугай», в которой затеянная актерами в кабачке безобидная поначалу игра кончается отнюдь не бутафорской кровавой развязкой. Точно так же потешный, шутовской суд, который устроили старички на пенсии, соскучившиеся по своему ремеслу отставные заседатели, над беднягой коммивояжером Трапсом, случайно подвернувшимся им под руку, венчает неожиданный трагический конец: раскаявшийся в своих прегрешениях Трапе в одной из редакций пьесы повесился — привычный дюрренматтовский мотив возмездия, привычный финал дюрренматтовского эксперимента на тему: что будет делать человек, если захочет судить себя по самому большому счету, если устроит однажды ревизию своих моральных устоев? Так как персонаж Дюрренматта всегда весьма заурядная личность, «средний человек» (героев отрицает его эстетика), то и вывод всегда один — он должен казнить себя. Отсюда такое обилие смертей в пьесах Дюрренматта — убийств и самоубийств. Жизнеспособными оказываются только «юмористы», в юморе драматург видит — как он это постоянно декларирует — знак высокой человечности и жизненной силы.
9
Как уже говорилось, Дюрренматт нередко обрабатывает один и тот же материал в нескольких жанрах. Среди таких переработок для сцены особое место занимает радиопьеса «Геркулес и Авгиевы конюшни» (1954, 1962), особое потому, что эту пьесу драматург считает своим любимым детищем.
В ней налицо все испытанные аксессуары поэтики Дюрренматта: пародийное «снижение» историко-литературного материала, дегероизация, грубовато-фарсовый комизм, постоянные обращения актеров к публике, оправдывающие бедность декораций и реквизита, необходимость появления на сцене рабочих или содержащие рассуждения персонажей о своем месте в пьесе (Полибий) и т. д. Современный мир, полагает Дюрренматт, слишком сложен по своей системе управления, и слишком незаметна роль отдельных людей в сравнении с какими-то анонимными силами, чтобы в современном искусстве сохранилась возможность дать значительного драматического или трагического героя. Времена непосредственного и влиятельного участия в мировой истории отдельных личностей миновали, Валленштейны и Макбеты перевелись, а «судьбу дела Антигоны решает теперь секретарь Креона». В мире далеко зашедшего отчуждения (каковой представляет собой современная западная цивилизация) даже небывалых размеров преступления совершаются анонимно, «по приказу свыше», а те, кто издает эти приказы, так же легко заменимы, как и их исполнители. Даже самые крупные преступники ныне не причина, а следствие пагубной и неуловимой, по Дюрренматту, структуры отношений внутри системы мира, они не более чем колесики и винтики в неумолимом и бездушном механизме мировой истории. И все они — заурядные личности. Недаром в Гитлере Дюрренматт подчеркивал прежде всего скудоумие, как его предшественник на сатирическом поприще австрийский писатель Карл Краус, движимый тем же стремлением развенчать с помощью смеха, подчеркивал в нем неграмотность. Смех, юмор, ирония, сарказм, сатира, пародия — словом, комедия, в которой действуют дегероизированные персонажи, одна способна верно отразить современное состояние мира. Дюрренматт отвергает трагедию, ибо, по его мнению, «видеть в диктаторе демона — значит втайне почитать его». Трагедию, как мы помним, отрицал и Брехт, но с иных позиций: он пытался вытравить из современного театра катарсис, сопереживание зрителя трагическому герою, которое, как он считал, поощряет сентиментальность и созерцательность в ущерб практической деятельности, направленной на переделку несовершенного мира. Дюрренматту чужды дидактические задачи Брехта. В отличие от своего учителя, он не верит, что корень зла лежит в общественных отношениях, для него он — в каждой отдельной личности, в индивидууме, отягченном «природными» недостатками. Но Дюрренматту нельзя отказать в морализме, хотя направлен он не на коллектив преобразователей, а на отдельную личность, призванную освободиться от извечных низменных инстинктов. Если нынешние самодержцы годятся только в шуты, то и былинные богатыри в современных условиях выглядели бы весьма жалко — как Геркулес в Дюрренматтовой пьесе. Она вполне могла бы называться «Геркулес и чиновники». Могучий атлет, совершавший легендарные подвиги, перед современным бюрократизмом оказывается таким же беспомощным, как тщедушный, разъедаемый рефлексией кафковский герой. Эта ситуация прекрасно иллюстрирует тезис драматурга о «негероичности» буржуазного мира, в котором «ничего не бывает слишком поздно, а все — слишкои рано», и дерьмо торжествует над великаном, как резюмирует неудачу своего господина секретарь Полибий. Основа морализма Дюрренматта — в призыве к человеку, несмотря ни на что, делать свое дело, «возделывать свой сад». Основа в общем-то противоречивая, ибо если человек так мало значит в современном абстрактном мире, то много ли будет проку от его «дела»? Стоицизм, который проповедует в финале пьесы «президент Авгий»: «Плохи времена, когда так мало можно сделать людям добра, но мы должны делать хотя бы это немногое: зато свое собственное добро... Попытайся жить здесь, посреди этой уродливой пустынной страны, но не довольствуйся тем, что у тебя есть, а будь вечно недовольным и распространяй свое недовольство на все»,— в чем-то близок к позиции Камю: жизнь абсурдна и бессмысленна, но ты живи достойно, черпая идеал в себе самом. Стоицизм этот — при неверии в эффективность общественных преобразований — весьма неустойчив, не случайно в последней редакции пьесы сын Авгия, выслушав наставления отца, все-таки хватает свой меч и убегает вслед за Геркулесом.
10
Традиция балаганного театра, к которой возводит свое творчество сам Дюрренматт, предполагает свободное обыгрывание непристойностей, брани, грубой эротики, «низа». Все эти элементы щедро представлены в пьесах Дюрренматта, выполняя иногда аллегорическую функцию. Таков мотив навоза — как символа затхлой, рутинной жизни — в «Геркулесе». Таков же он — в зашифрованном виде — в пьесе «Визит старой дамы», действие которой происходит в захудалом городишке Гюллене (что на швейцарском диалекте означает «навоз»).
Написанная в 1955 году пьеса «Визит старой дамы» обошла сотни сцен, принеся автору мировое признание. Факт на первый взгляд парадоксальный, ибо эта пьеса — наименее «дюрренматтовская» из всох, им написанных. Начать с того, что она хоть и «комическая», но трагедия, то есть написана в жанре, который комедиограф Дюрренматт в своих теоретических суждениях безоговорочно отвергает. Действие в ней происходит в современной Швейцарии, что также для него необычно. Пьеса довольно суха, рассудочна, в ней мало смешного, мало комических образов и ситуаций; по сравнению с фейерверком остроумия в «Ромуле Великом», например, она производит впечатление вполне «серьезной» драмы. Гротеск, лежащий в ее основе,— Баба Яга — толстосум, меняющая, как перчатки, знаменитых красавцев-мужей и совершающая нравственный переворот в душе тысяч жителей Гюллена,— скорее зловещ и жуток, нежели смешон и остроумен. К тому же сама художественная ткань пьесы допускает много придирок: слишком уж нарочиты реплики действующих лиц в первом действии, так что лишь у очень наивного читателя и зрителя могут остаться сомнения в том, что миллиардерша добьется-таки своего к концу пьесы. И все-таки успех «Визита», разумеется, не случаен. Гротескный эксперимент, осуществленный над жителями заштатного европейского городка, позволяет сделать достаточно широкие выводы и обобщения, чтобы выявить «механику духа» современного капиталистического мира.
Заурядность, обыкновенность городка Гюллена (как тут не при-иомнить «славный Гаммельн-городок» Марины Цветаевой) подчеркнута не случайно — Гюллен, как и Андорра Макса Фриша, как и Вад Браунинг в талантливой антифашистской пьесе современного австрийского драматурга Фрица Хохвельдера «Сборщиц малины», важен как «модель», типичный случай, социальный снимок мещанства.
В пьесе конфликт между личной выгодой и соображениями морали, приличествующими цивилизованному обществу, выявляет опаснейшее свойство мещанства — менять свои убеждения и взгляды в зависимости от обстоятельств, послушно следовать хотя бы и за преступником, если тот посулит очевидные блага. Жаждущая крови своего бывшего возлюбленного Клара Цаханассьян — зеркало благопристойных гюлленцев, в ее откровенном цинизме и самоуверенности — апофеоз их лицемерия и слабодушия. Перерождение в душе гюлленцев, прельстившихся на миллионы в обмен на спокойную совесть, хоть и проведено в пьесе белыми нитками, но зато метко вскрывает опасную социальную болезнь, приведшую уже однажды мир на грань катастрофы. Правда, Дюрренматт намеренно все усложнил — тем, что сделал Клару жертвой действительной несправедливости, а Илла —.преступником, на совести которого действительная подлость. Правда, автор пьесы в примечаниях к ней заявляет, что «отнюдь не намерен отмежевываться от людей, о которых пишет: он не очень-то уверен, что сам в подобных обстоятельствах поступил бы иначе...». И тем не менее пьеса была принята так, как, вероятно, была задумана,— как притча о неблагополучии современного буржуазного мира, о лжи и лицемерии, на которых возводят на Западе «экономическое чудо». Что же до приведенного примечания Дюр-ренматта, то оно — либо дань довольно распространенным (и не только на Западе) писательским самобичеваниям, чуть картинным уверениям, что и они, писатели, люди, чго и им не чуждо ничто человеческое, либо, что, вероятно, точнее, они написаны не без лукавства, и тогда это — сатирический прием, инерцией стиля вынесенный за продолы пьесы: автор надевает маску противника, чтобы тем вернее разить его.
11
Всесильный катализатор, проявивший нравственную суть мирных граждан идиллического Гюллена,— деньги. Эта бальзаковская тема власти денег в обществе с еще большей остротой и определенностью зазвучала в «комедии с музыкой» «Франк V. Опера частного банка» (1959. Переделана в 1964 году).
Дюрренматт говорил, что эта пьеса написана нм под впечатлением «Тита Андроника» Шекспира, но многие критики более склонны ставить ее в зависимость от «Трехгрошовой оперы» Брехта, а некоторые из них даже обвиняют швейцарского драматурга в плагиате. Впрочем, как и Брехт, широко пользующийся самыми широкими источниками в поисках материала для своих пьес, Дюрренматт уже привык к подобным обвинениям: ему приходилось даже оправдываться в печати в ответ на иск, предъявленный ему в судебном порядке вдовой Франка Ведекинда, уверявшей, что «Брак господина Миссисипи» — не что иное, как калька пьесы ее супруга «Замок Шлоттерхейм».
Схема исторического развития типичного капиталистического дома, предложенная большим реалистическим романом XX века — от Томаса Манна до Голсуорси,— принята Дюрренматтом не полностью: Франки от поколения к поколению становятся действительно все просвещеннее и рафинированнее, однако и интереса к «делу» отнюдь не утрачивают. Путь от Франка I к Франку V, от лихого пирата к вероломному банкиру — это путь накопления в роду самых низких и беззастенчивых черт хищника, изощряющегося в способах обобрать ближнего, это путь стремительного нравственного, но отнюдь не «профессионального» падения. Однако и Франк V и вполне достойная его половина — не апофеоз рода. Их еще более просвещенные дети, выпускник Оксфордского университета (он же гангстер) и выпускница аристократического пансионата (она же проститутка), в свой черед превосходят своих предшественников в жестокости и наглости: захватив банк у опешившего папаши, они приговаривают старика к смерти. В этом гротеске сатира достигла, казалось бы, своего предела, но Дюр-ренматт ухищряется нанести на полотно новый выразительный мазок: вдова почившего обращается к президенту республики с просьбой покарать убийц, но тот объясняет ей, что в наш век слишком большие преступления совершаются безнаказанно, дабы не рухнул мировой порядок,— и вместо наказания обещает даже финансовую поддержку банку.
Преступление — социальная норма мира, в котором живут герои Дюрренматта, мира, в котором живет сам драматург. Однако и в этой пьесе, дав тотальную сатиру на его окружающий мир, Дюрренматт отказывается сделать вывод о необходимости его социальной ломки; он по-прежнему ищет корни преступлений в некоем стереотипе отдельной человеческой личности, хотя бы своей собственной: «Критики утверждают, что таких людей, как Франк V, не бывает. Автор, наблюдающий людей и самого себя, не уверен в этом...» Внешне, формально наиболее приближающийся в этой пьесе к Брехту, идейно Дюрренматт в ней наиболее далек от преобразователя театра, страстно призывавшего прообразовать мир.
12
«Содержание физики касается физиков, ее результаты — всех людей». Величественная владычица, блистательная и роковая героиня XX века — физика не могла не привлечь внимание Дюрренматта — писателя, питающего пристрастие и к внешним атрибутам современности. Космос, атом, расщепление ядра, гены и межзвездные корабли — эти и многие другие признаки нашего времени обильно уснащают диалоги и авторский текст драматурга и прозаика Дюрренматта. Подчеркнуто современен и самый стиль его, лаконичный, точный, несколько упрощенный, но достаточно выразительный в общем впечатлении — близкий стилю современной архитектуры.
Помимо актуальности для Дюрренматта в физике был и еще один притягательный аспект — парадоксальность ее роли в современном обществе. «Математика (тождественная в данном контексте физике.— Ю. А.) сделала человека властелином земли и рабом машины»,— писал в своем философском романе «Человек без свойств» Роберт Музиль. Физика может содействовать чудесному преображению жизни на земле, а может стать и орудием массового уничтожения. Отсюда возникает вопрос об ответственности ученого перед людьми. Вопрос не праздный и не выдуманный — он стоял и перед Эйнштейном и перед Кюри. Всем известны их высказывания по этому поводу, полные гражданского мужества и высокого гуманизма. В пьесе Дюрренматта «Физики» эта важная нравственная проблематика, достойная самой серьезной драмы, вступает в противоречие с комедийной формой, в которой опа решена. Шутовство гениального Мебиуса при всем фрагментарном блеске его парадоксов, по сути, не дает ответа на кардинальный вопрос, поставленный пьесой: в чем и где мера и границы ответственности ученого за свое открытие, чреватое столь опасно двойственными последствиями. Фарсовый прожект Мебиуса упрятать физиков в сумасшедший дом, может быть, и оттеняет в формах, доступных комедии, неотступную сложность проблемы, но оставляет впечатление легковесного к ней подхода. Как и многие другие пьесы Дюрренматта, '«Физики» держатся на чисто эмпирических частных удачах — напряженное развитие действия, рифма экстравагантных ситуаций, пародия, затрагивающая основную коллизию: долг и чувство (любовь к человечеству и любовь к Монике), как в искусстве классицизма (обыгрывание трех единств которого становится уже константой в поэтике драматурга), бурлескный бръшкущий юмор, оттеняющий жутковатую канву действия, и т. д.— да на важности поставленных, но так и не разрешенных проблем. Впрочем, какая-то попытка решить их сделана драматургом на сей раз в «тезисах к пьесе», но попытка достаточно туманная; сказана лишь маловразумительная фраза: «То, что касается всех, могут решить только все вместе». Можно ли из этой законченной и закругленной в своей аксиоматической правильности фразы делать вывод о том, что Дюрренматт наконец уверовал в решающую роль масс? Говорить об этом сейчас было бы, конечно, преждевременно.
13
«Построивший мир не должен объяснять его»,— постоянно уверяет Дюрренматт, отказываясь давать вполне определенные ответы по существу проблем, затронутых в его пьесах. Но тут же сознается: «Самое трудное — не оправдываться». Соблазн «оправдаться», объяснить себя преследует драматурга, начиная с его первых художественных опытов. Собранные вместе, его статьи, заметки, доклады, носящие частью апологетический, частью критический характер, составили два довольно объемистых тома — книги «Проблемы театра» и «Статьи и речи о театре». Книги эти, пожалуй, еще более сумбурны, еще менее последовательны, чем самые недисциплинированные его пьесы. Здесь и признаваемая автором родословная — Аристофан, Шекспир, Нестрой, экпрессионисты, и попытка отмежеваться идейно от Брехта, совмещенная с почтительным признанием его заслуг, здесь и
500
остроумные наблюдения над стилем и техникой старших собратьев по перу — Карла Крауса и Карла Цукмайера, и прозрачные самооправдания — «стилистически слишком хорошо написанные книги делают чтение испытанием усердия»,— здесь и мало убедительные доказательства отмирания трагедии в современной драматургии (опровергнутые Р. Хоххутом и П. Вайсом, например),и достаточно банальные пророчества. Дюрренматта в критике давно окрестили «неудобным», имея в виду как его репутацию бунтаря и едко-насмешливого острослова («неудобного» и нередко неугодного обществу), так и бесшабашную противоречивость его взглядов, концепций, идей («неудобную» многочисленным критикам). Дюрренматт-теоретик отражает особенности Дюрренматта-художника: его талант фрагментарен. Остроумные, яркие, смелые ходы его эмпирического мышления не поддержаны осью оригинальных или хотя бы глубоко усвоенных философских идей. Дюрренматт-теоретик зачастую выглядит тем, за кого любит выдавать себя Дюрренматт-человек: веселым и насмешливым деревенским увальнем, не без царя в голове и с лукавинкой, неукротимым и необузданным жизнелюбцем, который всегда не прочь подурачить ученую братию. Здесь все рядом, вместе, в чересполосицу: простоватые истины и наивные заблуждения, граничащие с суеверием, и меткие наблюдения, плоские трюизмы и вдохновенные взлеты истинной поэзии. Критик-педант немало помучится, собирая па-чала и концы Дюрренматтова мировоззрения, часто непоследовательного, а порой и противоречивого, но не нужно никакой профессиональной выучки и особого тщания, чтобы увидеть в нем добрую, щедрую человечность, тревогу и заботу о будущем устройстве людей на земле.
14
Старший соратник Дюрренматта, Макс Фриш, начав как скромный и старательный копиист, неизменно совершенствует свое писательское мастерство — от пьесы к пьесе, от романа к роману, беря все новые и новые художественные высоты. Иначе выглядит кривая успехов Фрпдриха Дюрренматта, полная взлетов и падений. Так, одну из его последних пьес «Метеор» (1966) вряд ли можно назвать вершиной его творчества или хотя бы даже шагом вперед по сравнению с предыдущими.
В пьесе две линии, две темы — смерть и творчество, вернее, смысл смерти и смысл творчества. Обе темы решаются — нам к этому не привыкать — парадоксально.
Герой пьесы, Нобелевский лауреат, знаменитый писатель Швит-тер, на протяжении всей пьесы занят тем, что умирает и никак не может умереть, наливаясь все новой и новой силой и сводя в могилу — своим несокрушимым витализмом — все новых и новых людей. Его перманентное воскрешение — чисто балаганная нелепость, абсурд, скандал — и составляет содержание причудливого и, неожиданно для Дюрренматта, довольно монотонного действа. Пограничная, как говорят экзистенциалисты, ситуация — смерть приобретает у Дюрренматта какой-то неестественно-радужный смысл — как обретение естественности, прорыв из царства необходимости, обременительных уз и связей в царство бесконечной свободы и сладостного одиночества. Правда, амбивалентность комедийного смеха позволяет вывернуть этот вывод наизнанку — и тогда получим экзистенциалистский же статус, но в сатирическом зеркале: проповедники философии отчаяния и смерти упиваются благами жизни, как завзятые эпикурейцы, что на Западе очень часто буквально соответствует действительности. Традиционные «тезисы» к пьесе — на сей раз более путаные, чем обычно, говорящие что-то о сомнамбуличности героя, стоящего одной ногой в царстве живых, а другой — в царстве мертвых,— мало помогают критикам разобраться в замысле и центральной идее пьесы. Так же проблематичен вопрос об идентичности автора со Швиттером — слишком уж циничные признания вкладывает он в уста своего героя: «Глубоко неверно видеть в писании нечто большее, чем простой гешефт... Я писал, чтобы зарабатывать деньги, не больше...» и т. д.
Однако подобные малопривлекательные и малопоэтичные признания странным образом рифмуются с некоторыми высказываниями самого Дюрренматта. Так, в своем докладе «О смысле творчества в наше время» (1956) он говорил: «Писатель слишком легко поддается соблазну играть несвойственную ему роль. Исчерпавшая себя философия передала ему скипетр. И вот в нем ищут то, что не нашли в ней — он теперь даже должен восполнить отсутствие религии. Если раньше писатель создавая вещи, то теперь он создает описания вещей. Его считают пророком, и — что ужаснее всего — он сам себя считает таковым. Нет ничего более опасного для художника, чем переоценивать искусство. Оно скорее вынесет любую недооценку. В кадильном дыме сегодняшней абсолютизации оно может задохнуться». Здесь Дюрренматт явно смешивает разные вещи — жреческий, культовый подход к искусству, осуществляемый всевозможными эстетами, и высокую нравственную ответственность художника — гласа и совести народа. Художник — пророк и глашатай, эту истину заповедала миру великая русская литература XIX века, эта истина была воспринята и западной гуманистической культурой нашего столетия, предшественниками Дюрренматта — Краусом, Брехтом, Музилем, Томасом Манном и многими другими писателями, которые, по словам Музиля, разделяли «утраченное на Западе со времен Орфея убеждение в том, что искусство может влиять и воздействовать на мир». В позиции же Дюрренматта явственны следы того историко-культурного скепсиса, который охватил в последние десятилетия довольно широкие ряды западной интеллигенции.
Впрочем, слишком опрометчивой была бы попытка выносить окончательный приговор художнику, большая часть творческих свершений которого, надо полагать, еще впереди. Неуклонный путь исторического развития вербует в ряды сторонников нового общества и новой эстетики все новых и новых талантливых писателей Запада. Вполне возможно, что в скором времени мы назовем среди них имя Фридриха Дюрренматта.