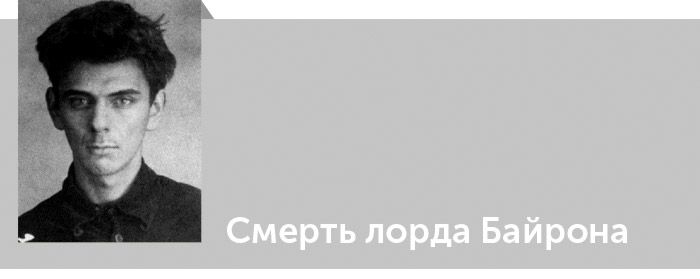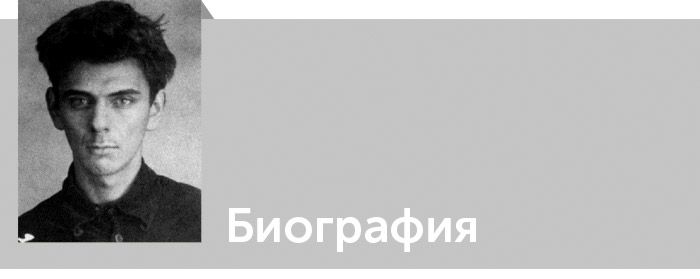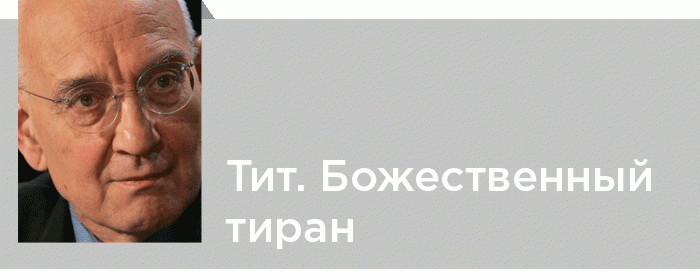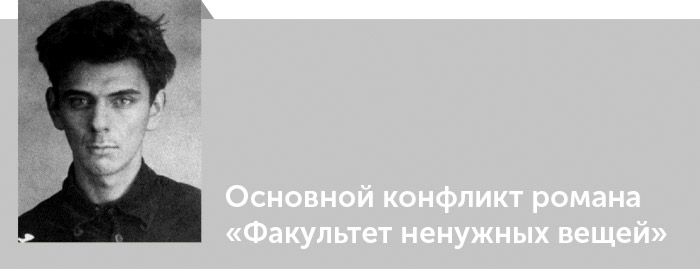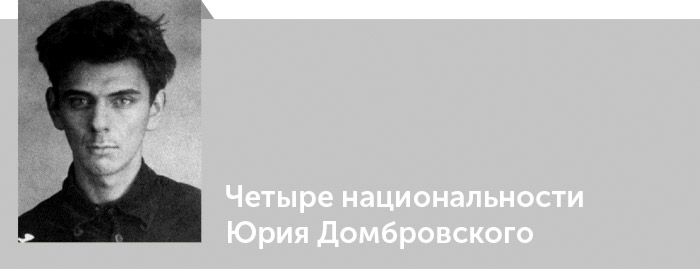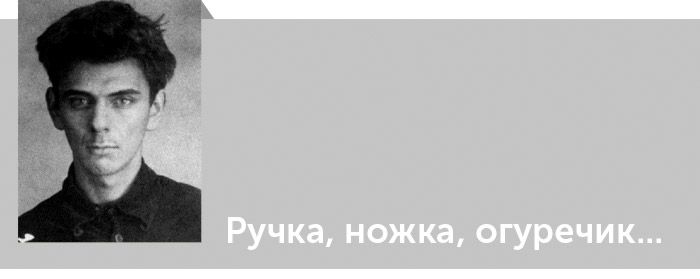Поэтика монтажных приемов в романе Ю. Домбровского «Державин»
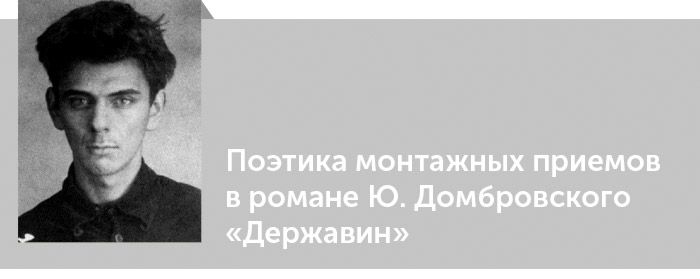
УДК 821.161.1
С. Ю. Кучеренко
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
В статье анализируется роман Ю. Домбровского «Державин» в аспекте взаимодействия текста с приемами монтажа, разработанными кинорежиссером С. Эйзенштейном. Определяется специфика поэтики кадра, соотнесенности «вещи быта» и «вещи кино».Исследуются функции монтажа в организации системы образов и темпа повествования, создании исторических параллелей.
Ключевые слова: поэтика кадра, «вещь кино», темп повествования, приемы монтажа.
Кучеренко С. Ю. Поетика монтажних прийомів у романі Ю. Домбровського "Державін". У статті аналізується роман Ю. Домбровського "Державін" в аспекті взаємодії тексту з прийомами монтажу, розробленими кінорежисером С. Ейзенштейном. Визначається специфіка поетики кадру, співвіднесеності "речі побуту" і "речі кіно". Досліджуються функції монтажу в організації системи образів і темпу оповідання, створенні історичних паралелей.
Ключові слова: поетика кадру, "річ кіно", темп оповідання, прийоми монтажу.
Kucherenko S. Y. Poetics of montage receptions in Y. Dombrovsky’s novel "Derzhavin". In article Y. Dombrovsky’s novel "Derzhavin" is analyzed in aspect of interaction of the text with the montage receptions developed by film director S. Eisenstein. Specifics of poetics of a shot, correlation of "a life thing" and "a cinema thing" is defined. Montage functions in the organization of system of images and rate of a narration, creation of parallels in history are investigated.
Keywords: shot poetics, "cinema thing", rate of a narration, montage receptions.
Юрий Домбровский принадлежит к той плеяде талантливых писателей эпохи «советской цивилизации» (термин М. Чудаковой), судьба которых сложилась трагически в силу известных обстоятельств. Домбровский несколько раз начинал писать и вынужден был оставлять свое любимое дело. Несмотря на это, в итоге он смог завершить многое из задуманного. Но роман «Державин» остался недописанным, что не умаляет его художественных достоинств. Тем более, что история его создания и попыток публикации имеет интересную приключенческую интригу на фоне событий 1937 года. И все же незавершенность была в некоторой степени сдерживающим фактором относительно понимания художественной целостности, определенной его недооценки, что определило сосредоточенность исследователей на более поздних произведениях писателя. В этом аспекте выделяются статьи Н. Желтовой [3; 4], в которых исследовательница соотносит судьбы Державина и Домбровского. Находя в них много общего, Н. Желтова отмечает динамичность ритма романа как одно из его качеств. Но общим местом в анализе исследователями романа является отсутствие нацеленности на осмысление такого очевидного взаимодействия литературности и таким образом, поэтики кино. В рамках статьи обозначим лишь характерологические приемы такого взаимодействия, проявившиеся в образе Державина. Обозначенным далеко не исчерпывается художественная ценность романа. Более того, она выглядит кажущейся, несколько нарочитой в контексте формалистской поэтики с подчеркнутой сделанностью вещи. Исследователи склонны объяснять незавершенность романа утратой интереса писателя к заявленной «проблеме Державина». Сам Домбровский следующим образом обосновывал сложившуюся ситуацию:
Я его не дописал, не хватило ни сил, ни умения. Основная идея — преображающая сила творчества, власть творения над творцом — требовала таких средств выражения, которых у меня тогда не было (не знаю, впрочем, есть ли они у меня сейчас) [1].
Но тема не давала покоя, о чем свидетельствует возвращение автора к роману спустя годы в статье «Деревянный дом на улице Гоголя».
В определенном смысле написание Ю. Домбровским о романе «Державин» можно рассматривать как текст-палимпсест, с несколько перефразированным смыслом. Как известно, палимпсестом называют «старинную рукопись, где поверх старых слоев письма наносятся новые. Старые смываются, но не окончательно, проступая на поверхность или все же вытесняясь новыми записями». Исследователи уточняют: «Этот образ при переносе в постмодернистский дискурс стал метафорой состояния культуры» [5:213]. Мы не склонны относить размышления/ воспоминания Домбровского о том, как создавался роман «Державин» к постмодернистским текстам, но в попытке прописать то, что осталось «за кадром», писатель использовал прием близкий к палимпсестизированию своего романа. Это «эффект всепросвечивания», благодаря которому проступает не только культурно-историческая многослойность, обусловленная сопряженностью судеб молодого Державина и Пугачева на фоне авантюристического состояния эпохи ХVIII века, но и эстетическая напряженность мысли писателя ХХ века, находящегося в поиске приемов и средств выразительности/ изобразительности, которые бы обеспечили эстетическую целостность уплотненности пространства/времени, культур, исторических имен. Если соотнести текст романа, создававшегося в 1937–1939 гг. и так называемое его палимпсестизирование в 1970-х годах, то сложно определить первичность или вторичность некоторых аспектов. Роман можно рассматривать как художественную завершенность в значительной степени обусловленную моментом возвращения «из музея» формалистских тенденций. Именно в воспоминаниях озвучен диалог 1937 г. с журналисткой Гайши Шариповой о Тынянове:
Люди у вас кое-где похожи на его героев: кричат много и…подразумевают много…Ну как бы это поточнее сформулировать — говорят они одно, а подразумевают другое. Вот, например, разговор Бибикова с Державиным — в нем у вас подтекстовок больше, чем текстов [1].
Этот восстановленный в памяти диалог продуцирует размышления о «научной отточенности стиля» Тынянова. Домбровского поразила синтаксическая простота и ясность… как будто бы нормальную классическую или реалистическую драму взялся ставить режиссер из театра. Мейерхольда или ктонибудь из Фэксов… Это было хорошо у Тынянова, но никак не проходило у меня. Все это я осознал и понял почти мгновенно… [1].
Это осознание вылилось у Домбровского в целенаправленную работу освоения кинопоэтики.
В культурной атмосфере 1960-х гг. плотно пересекались эстетические открытия 1920–1930-х гг. с запросами времени с особенным акцентом на проблеме «художник и власть». Домбровский уточнил, в чем его замысел:
На пушкинский вопрос гений и злодейство — две вещи совместимые ли? — я задумал твердо ответить: нет! Ни в коем случае! Молодой Державин подходил для этого как нельзя более [1].
Не менее значимым для воплощения такой проблемы был и выбор поэтики, что выразилось в предпочтительности приемов киноязыка, в особенности монтажных принципов как результата не столько влияния веяний времени, сколько особенностей художественного мышления писателя. От кино было заимствовано едва ли не самое существенное. Тынянов подчеркивал: «Идеология входит в картину не абстрактной темой, а конкретным материалом и стилем» [6:324].
Пик влияния монтажных принципов на искусство приходится на 30-е гг. К этому времени кино уже зарекомендовало себя как самодостаточный вид искусства, немыслимый, тем не менее, без связей с литературой, музыкой, театром. Не только формалисты — Ю. Тынянов, В. Шкловский, но и режиссер С. Эйзенштейн теоретически разрабатывал приемы кинопостроения в сравнении с приемами других искусств. Его вывод о значимости монтажного построения для многих сфер культуры имел универсальное значение. Более того, Эйзенштейн открыл, что монтаж свойственен самому мышлению человека, являясь неотъемлемой его частью, как архетипы или подсознательное. Если Виктор Шкловский разрабатывал особенности рассмотрения литературного произведения с точки зрения монтажного построения [8:146–149], то Эйзенштейн уделял много внимания проблеме монтажа в литературе, исследуя произведения Пушкина, Шекспира, Джойса, Гомера и т.д.
Монтаж, по Эйзенштейну, представляет собой не соединение двух разных значений для получения их суммы, но их соединение для получения третьего, совсем непохожего ни на одно из слагаемых значений. «Мы имеем в монтажном сочетании не просто сумму деталей, в которую складываются элементы, образуя одно суммарно-статичное целое, а значительно большее. Это будет не сумма пяти деталей, складывающихся в одно целое. Это будет пять целых, каждое взятое под другим углом зрения, в другом аспекте, и все совмещающиеся друг в друге» [9:273]. Эйзенштейн видел смонтированное целое как идиому, значение которой тоже не соответствует сумме составляющих ее слов. Эта новаторская волна и обусловила специфику художественности романа «Державин», которая развивалась в процессе дописывания и переработкой произведения.
Перед Домбровским стояла задача не столько осветить весь событийный спектр ХVIII века, сколько передать дух, ритм авантюрной эпохи. Этой цели служит плотное сочетание событий исторического плана, в основе которого факты и легенды. Восстание Пугачева, поиски клада вымышленным героем, авантюрные переодевания двойных агентов, карьерные взлеты и постоянная угроза низвержения с занимаемой должности формируют образ времени и бытия в произведении. Передавая атмосферу эпохи ХVIII века, Домбровский сознательно выстраивал определенный ритм повествования, высоко оценивая его значение:
Он растет сам из себя, сам себя организует и существует по собственным своим законам. У каждого писателя и даже у каждого отдельного произведения свой собственный особый ритм. Нельзя в "Мертвые души" вставить кусок повестей Белкина — сразу выявится не только стилистический, но и метрический разнобой. Читатель сорвется с ритма. А это очень болезненно [1].
Для выстраивания необходимого ритма повествования Домбровский использует монтажные приемы. Монтаж уплотняет время XVIII века, а быстрая смена кадров делает возможным и передачу темпа жизни эпохи, и полноту ее отображения.
Соотнесенность и смысл явленного Домбровским поддается расшифровке только через поэтику кадра, на которую указывал Ю. Тынянов: «единство перераспределяет смысловое значение всех вещей, и каждая вещь становится соотностительна с другими и с целым кадром» [7:336]. Названия кадров выполняют функцию связи между ними с иллюстрирующим либо контрастным содержанием. В словесной детализации они не нуждаются, поскольку могут потерять смысл.
Как отметил Тынянов, «герои» кадра… должны быть дифференцированными, различными — только тогда они соотносительны между собой, только тогда они взаимодействуют и взаимно окрашивают смыслом друг друга. Отсюда — подбор людей и вещей…» [7:336]. Названия глав романа в своей дифференцированности и вместе с тем соотнесенности раскрывают как внешне событийную, так и внутренне скрытую, рассчитанную на домысливание атмосферу эпохи. Этот подбор имеет тыняновский смысл «натуралистического сходства», «соответствия человека и вещи кино — человеку и вещи быта» [7:336]. В этом контексте названия глав «Весна» и «Слава» имеют скорее статус «вещи кино», чем неких реалий.
Стремительность темпа повествования строится с помощью быстрой смены достаточно коротких кадров. Генерал смотрит в окно и видит в нем всего лишь качающиеся фонари на ветру, мраморные статуи в передней, да толпу зевак у дверей. Монтаж создает определенный темп повествования, задаваемый не только длиной фразы, но и скоростью смены кадров, сменой крупных планов общими и наоборот, от соотношения количества кадров и показанных ими образов и вместе с тем монтаж помогает управлять напряжением читателя (постоянное напряжение может утомить, поэтому его уровень тоже должен меняться), сохраняет интригу. В этом смысле особенно показательны окончания глав романа, где герои непосредственно приступают к решению важных вопросов, или их настигают события, которые долго предчувствовались и предполагали большие перемены. Но всякий раз герой остается на пороге этих событий. Развязка сулится читателю в следующем разделе. Например, первая глава заканчивается тем, что Державин вскрывает загадочный пакет с указаниями от генерала Бибикова. Характер указаний неизвестен, но обратной дороги уже нет:
Жизнь или смерть? Он сломал печать на пакете
Окончание главы или подглавы может быть сравнимо с киноприемом затемнения, которое используют перед кульминационными моментами.
Но наиболее значимым в поэтике монтажности то, что темп и ритм в романе придают особенную, зримую выразительность характеристикам героев. Например, появление Державина в тексте «сделано» по тому же приему, что и появление героев в фильме «Броненосец «Потемкин» С. Эйзенштейна.
Сначала автор дает общий план толпы, фиксирует взгляд на общих чертах описания героя, зритель пока не знает, что этот персонаж будет главным героем. Но это мощный и выразительный акцент на том, что во главе бунта стоит один из взбунтовавшейся массы. Такой акцент изначальной соотнесенности с массой продуцирует развитие героя-лидера.
Появление Державина у Домбровского осуществляется именно по эйзенштейновскому кинематографическому принципу с динамичной сменой кадров, в которых смысл прописан через восприятие кадровой целостности.
Так, генерал Бибиков смотрит в окно и видит приезжающих гостей (общий план), рассматривает некоторых гостей пристальней, чем остальных (ряд более крупных планов), в которых выделяется образ немощного старика и молодого офицера, что истолковывается как противостояние уходящей эпохи и нового времени, в котором очевидны и предпочтения генерала. Это скрытое и в то же время явное противостояние «отцов» и «детей». Офицер явно ему симпатичен. Об этом свидетельствуют его удовлетворенный взгляд. Следующий кадр — генерал отходит от окна, создается впечатление, что теперь он полностью поглощен происходящим в доме. Все, что было за окном, как бы пока забывается. Такое впечатление создает быстрая cмена кадров. Но вот он снова смотрит в окно, видит каких-то людей. На глаза попадает тот же офицер, и генералу начинает казаться, что он его уже где-то видел. За этой кажимостью просматривается не узнавание, а видение/понимание особенностей времени как смены поколений с предпочтением «детей». Генерал тщетно пытается вспомнить его фамилию, снова отходит от окна, говорит с крестницей. Она подходит к окну, пристально смотрит в него. Генерал о чем-то догадывается, описывает внешность офицера и спрашивает крестницу нет ли похожего среди приглашенных. Она называет «подпоручика Преображенского полка Державина». Конец первой части главы (затемнение). Вторая начинается с появления Державина в полный рост, т.е. как властителя своего времени, поднимающегося по лестнице. Таким образом этот кадр фиксирует появление главного героя. Крупный план абстрагирует героя из времени повествования. Монтажные приемы делают появление Державина наиболее эффектным. Державин появлялся постепенно. Сначала он явлен в кадре как офицер с отличной выправкой. После динамичной смены нескольких кадров, он превращается в растерянного юношу, потерявшего пригласительный билет (читатель близко видит живого человека, с трогательно растерянным лицом ищущего в карманах билет). На время он пропадает из виду, и перед его появлением уже в качестве главного героя нагнетается напряжение: дважды дословно повторяется фраза «Крестница, не отрываясь, смотрит в окно».
Еще до того, как «познакомить» читателя с Державиным, Домбровский уже намечает внутренний конфликт главного героя: карьерист или свободная творческая личность. При первом появлении Державина в кадре генерал замечает только его профессиональные качества, оценивает как отличного солдата, отмечает офицерскую выправку; при втором появлении он предстает уже с обычными человеческими качествами: эмоциями и слабостями. Сразу же прослеживается и закономерность проявления этих двух ипостасей: первая — на людях, вторая — наедине с собой. На протяжении всего романа поэт проявляется в Державине только в ночное время, а днем он остается работником тайного сыска.
Главный вопрос, поставленный Домбровским в романе «Державин», подобен пушкинскому: совместимы ли злодей и гений? Для Домбровского ответ очевиден: в человеке побеждает человечность. Продемонстрировал он свою позицию с помощью движения монтажных приемов, показывая неизбежную смену в Державине «дневной» личности, состоящей на службе карательных органов, и «ночной» — как ощущающей себя свободным гением. А если внутренняя свобода личности вдруг прорывается и на службе, то Державин стесняется ее, маскирует. Так, отпустить своего подследственного Халевина открыто Державин-следователь не мог, пришлось провоцировать побег с побоями, после которых, «морщась от боли, отрывая от пола эту страшную кровавую голову, он все-таки смотрел на Халевина, смотрел и улыбался радостной, немного смущенной улыбкой» [2:110]. Чтобы придать вечный смысл противостоянию творческой личности и государства, Домбровский проводит исторические параллели между XVIII веком и современностью, в том числе с помощью монтажа, насыщенного размышлением-анализом эпохи генералом Бибиковым весьма тревожного содержания:
Бибиков сомневался не только в армии, офицерах, но даже и в церкви.
Все столпы и устои, поддерживающие государство, колебались и брались под сомнения.
Государство распадалось, охваченное антоновым огнем измены и мятежа.
В хорошую эпоху он живет! [2:45].
Каждое новое предложение движет от более частного ко все более общему плану. Смена планов подчеркивается и написанием каждого предложения с абзаца. С увеличением масштаба описываемых беспорядков увеличивается эмоциональное напряжение. Визуализация описываемых бедствий неотъемлема от изображения озабоченного лица генерала. В этом случае использован кинематографический прием «наплыва», который работает не только для нагнетания напряжения, но и для проведения исторической параллели. Последнее восклицание, помимо самого общего плана (целая эпоха, никаких частных деталей), имеет еще одно художественное значение. Читая его в напряжении и страхе 1937 года, читатель невольно соотносил все со своим временем.
Таким образом, эта фраза способствует совмещению в сознании читателя двух исторических, временных пластов: описываемой эпохи XVIII века и современных читателю 1930-х годов как пика репрессий и противостояний личности, народа и государственной машины.
Авантюрность эпохи XVIII века является исходной позицией для генерала в его размышлениях о Державине:
Он честен, добр, горяч, но, пожалуй, нет такого жестокого, кровавого и просто бесчестного дела, которое он отказался бы взять на свою ответственность, если того потребует ближайший начальник. Поистине странное поколение, загадочное, чудовищные люди появляются и растут в конце осемнадцатого столетия! [2:30].
Читателю 1930-х годов при неизбежном сравнении описываемой в романе эпохи с современностью мог даже показаться насмешливым преувеличением эпитет «чудовищные», но попытки соединить в одном лице «гения и злодейство» имели место в истории «начала двадцатого». Подследственный Халевин ощутил это в Державине-следователе, поэтому заявил открыто так тщательно скрываемое Державиным даже от себя:
Желаю вам карьеры быстрой и легкой, вы многого достигнете, сударь. Нрав у вас быстрый и изворотливый, а таких теперь только и нужно [2:106].
Казалось бы, быстрота и изворотливость в любую эпоху выносила многих на вершины власти, но единственное слово «теперь» обостряет восприятие животрепещущей актуальности этого явления. Монтажность как характерологический прием воссоздает двойственность как условие бытия личности и вместе с тем является многофункциональным средством организации текста в романе «Державин» в целом, с помощью которого автор задает необходимый темп повествования, передает неоднозначный смысл воссоздаваемой эпохи.
Литература
1. Домбровский Ю. Деревянный дом на улице Гоголя [Электронный ресурс] / Ю. Домбровский // Собрание сочинений в 6 т. — М.: «Терра», 1992.
2. Домбровский Ю. Державин / Ю. Домбровский // Домбровский Ю. Смуглая леди : роман, повесть, новеллы. — М. : Советский писатель, 1985. — С. 7—174.
3. Желтова Н. Возвращение кумира. Автор и его герой в романе Ю. О. Домбровского «Державин» // Вестник ТГУ. — Выпуск 7(63). — 2008. — С. 31—37.
4. Желтова Н. Роман Домбровского «Державин» в контексте русской литературы первой половины ХХ века // Духовные традиции русской культуры: история и современность : (К 265-летию со дня рождения Г. Р. Державина). — Тамбов, 2008. — С. 151—165.
5. Кусков С. Палимпсест постмодернизма как «сохранение следов традиции» // Вопросы искусствоведения. — 2—3, 19, 1993. — С. 213—225.
6. Тынянов Ю. О сценарии / Ю. Тынянов // Поэтика. История литературы. Кино. — М. : Издательство «Наука», 1977. — С. 323—324.
7. Тынянов Ю. Об основах кино / Ю. Тынянов // Поэтика. История литературы. Кино. — М. : Издательство «Наука», 1977. — С. 326—345.
8. Шкловский В. Эйзенштейн / В. Шкловский. — М. : Искусство, 1973. — 296 с.
9. Эйзенштейн С. Пушкин — монтажер / С. Эйзенштейн // Монтаж. — М. : Музей кино, 2000. — С. 273—295.