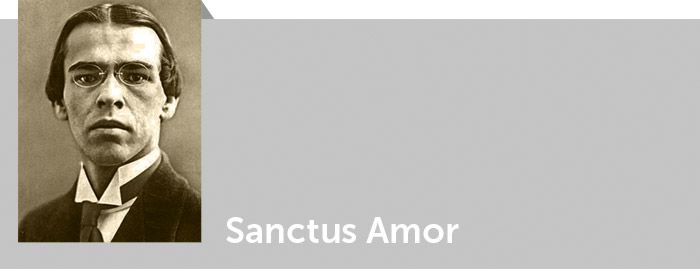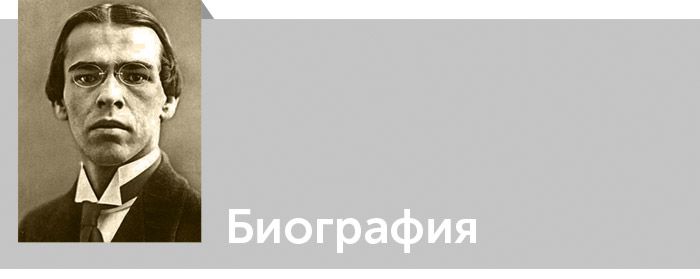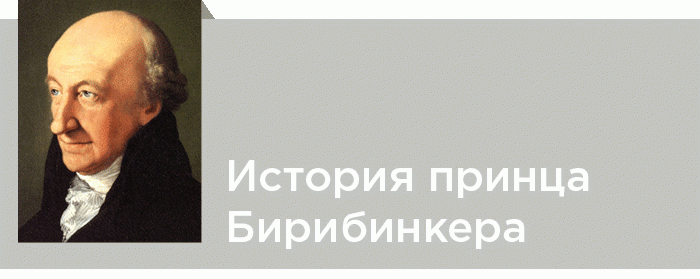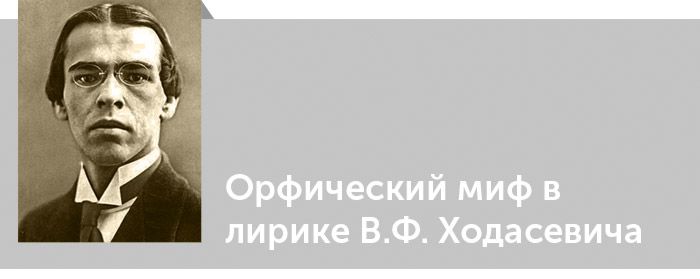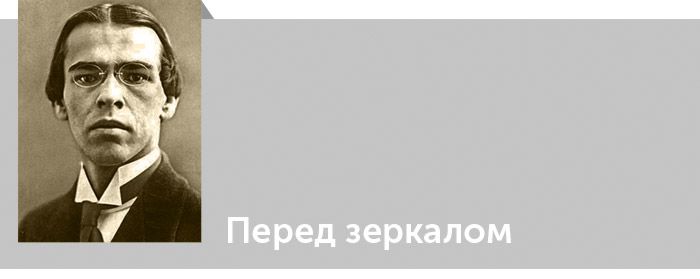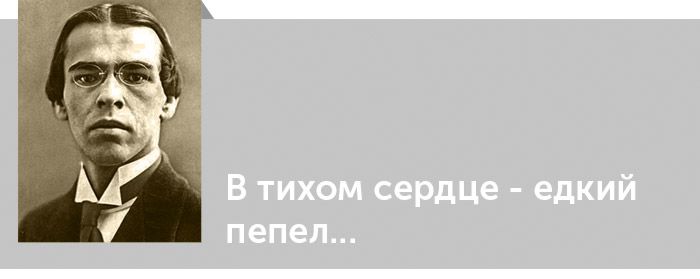Молчание гения - Владислав Ходасевич
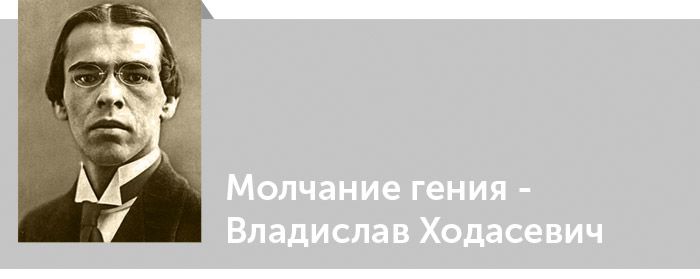
Мельников М.
В мае 2006 года исполняется 120 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича. Выходец из крикливого и вопиюще бездарного «Серебряного века», этот человек был и остается совестью русской поэзии.
Невысокий худой человек с экземой на лбу — «каиновой печатью». Жесткий, непримиримый скептик, приговора которого смертельно боялись молодые поэты. Он был четырежды женат, но детей не имел. Все жены пережили его самого, и две из них оставили яркие воспоминания: вторая жена Анна Чулкова — простые человеческие, третья, Нина Берберова — самую, пожалуй, отвратительную книгу в русской мемуаристике. Великий русский поэт без капли русской крови. Внук Якова Брафмана, проклятого всем еврейством отступника — и переводчик еврейской поэзии, знаток и поклонник иудейской культуры. Человек, после которого должно быть стыдно писать неумелые стихи.
Ученик
Начало жизни — женитьба невысокого изящного мальчика с челкой на одной из первых московских красавиц, умопомрачительной Марине Рындиной. Книга безнадежно слабых стихов «Молодость». После разрыва с Мариной, которая отличалась более экстравагантностью, чем верностью, пытается стать профессиональным литератором. Стихи, доклады, а главное — «тусовки». Становится известен в узких кругах — более язвительностью, чем поэтическим даром. Сверстники делают карьеры, Гумилев уже акмеизм изобрел, Ходасевич выглядит чужим на этом празднике жизни. И тайком радуется, когда презираемый им Гумилев сдержанно хвалит вторую книгу, «Счастливый домик», хотя хвалить там особо нечего. В четвертый десяток лет вступает с женой Анной, репутацией въедливого критика из породы «хранителей традиций» и багажом из 4-5 в меру удачных стихотворений. С досадой вспоминает совет Анненского молодым поэтам — до 30 не печататься. Как сказано о не слишком любимом им поэте: «ранние стихи Лермонтова, к сожалению, дошли до нас». Вот типичный образчик ранней лирики поэта:
Вокруг меня кольцо сжимается,
Неслышно подползает сон...
О, как печально улыбается,
Скрываясь в занавесях, он!
Как заунывно заливается
В трубе промерзлой — ветра вой!
Вокруг меня кольцо сжимается,
Вокруг чела Тоска сплетается
Моей короной роковой.
Понятно, что мальчику было 20 лет, что он начитался модных символистов и декадентов, что, собственно, одно и то же. Блеклое, безликое подражание расхожим образцам. Сон, вой ветра, сжимающееся кольцо, непременная корона на лбу... то есть, конечно же, челе автора. В так называемом Серебряном веке у поэтов не было лбов.
Парфюмер
Что послужило причиной внутреннего перелома Ходасевича, его стремительного творческого и духовного роста в возрасте, когда многие уже начинают сходить с дистанции? Я полагаю — именно атмосфера Серебряного века. Она была неоднородной: слащавый аромат стихов почти гениального Кузмина сменялся запахом склепа, шедшим от строк Сологуба. Крепкий мужской пот пробивался из-под недорогого одеколона гумилевской экзотики, книжной пылью веяло от Вячеслава Иванова... В этом терпком букете отчаянно не хватало свежего воздуха.
Сам Ходасевич писал стихи, которые не пахли ничем. Ничто — не имеет аромата. Но у поэта было врожденное поэтическое обоняние. Он мирился со всеми парфюмерными подделками ради периодически доносившихся сквозняков из другого измерения, выход в которое так отчаянно искали символисты. Блок и Анненский порой примиряли его с эпохой, хотя и в них он не мог найти того, что видел в Державине, Пушкине, Тютчеве, Вяземском, Случевском. Пытаться создать собственный аромат, не говоря уж о том, чтобы самостоятельно заглянуть за край, он, вероятно, даже не думал, хотя подспудно готовился к какому-то прорыву. Думаю, катализатором пробуждения подлинной силы поэта Ходасевича стало явление футуристов и — сразу за ними — новых народников. Запах грязных носков и дешевой помады, вонь ладана вперемежку с серой окончательно отравили воздух этого поистине несчастного времени русской поэзии. Стерпеть футуризм, Маяковского, Бурлюков Ходасевич уже не мог физически. Необходимо было что-то противопоставить новым варварам, захватывавшим культурное пространство.
Ничего, кроме традиций — тогда еще всего лишь полуторавековых, — у Ходасевича не было. Но простым предпочтением Полонского Северянину ничего не докажешь: так, Иван Бунин, поэт милостью божьей (что не мешало ему быть, на мой взгляд, посредственным прозаиком и скверным человеком), писал стихи, как будто вышедшие из XIX века, вот только никто, решительно никто их даже читать не хотел. Потому что в старые формы Бунин вливал старое же содержание. Ему было место в культуре, но жизнь требовала других слов.
Вообще, в защиту Серебряного века, убившего своим презрением Анненского и заткнувшего своей хвалой Блока, можно сказать лишь одно: из этой чрезмерно удобренной почвы позже выросла целая поросль настоящих поэтов. Мандельштам, Адамович, Г. Иванов, Цветаева... Ходасевич был старшим из них — и, возможно, лучшим.
Личность
Третью книгу Ходасевича «Путем зерна» ни в коем случае нельзя называть его главной удачей, как это делает Владимир Смирнов в антологии русской поэзии XX века под редакцией В. Кострова. Собранная в 1918 году, а изданная в 1920-м, она вообще выглядела логичным продолжением «Счастливого домика» — умелая книжка среднего ремесленника, которых тогда было пруд пруди. Позднее, в 1927 году, Ходасевич кардинально переработал «Путем зерна», исключив несколько стихотворений, отредактировав другие и добавив третьи, некоторые из которых написаны уже в середине двадцатых годов, в эмиграции. В первом же издании надежду вселяли разве что белые ямбы — форма, которую, казалось, для русской поэзии закрыл еще Пушкин: ну что можно написать после «Вновь я посетил»? Оказывается, кое-что. Например, пронзительное, незабываемое стихотворение «Обезьяна». А еще я не очень понимаю, почему автор исключил из окончательного варианта книги небольшую зарисовку «Газетчик». Нетипичное для Ходасевича, но какое яркое, непосредственное, и в то же время чрезвычайно умелое стихотворение! Быть может, последние две строки показались автору слишком откровенными? Ведь в них он проговаривается о своем тогдашнем состоянии с предельной откровенностью: «Какой соблазн величия / Пьёт жадная душа!»
После выхода «Путем зерна» у Ходасевича, активно участвовавшего в те годы в раннесоветской культурной жизни, в первую очередь в горьковском издательстве «Всемирная литература», начинается очень недолгий, буквально семи-восьмилетний период, когда он — сразу, без какого-то перехода — становится крупнейшим русским поэтом, самой значимой фигурой современности во всем, имеющем отношение к стихам. Сборник «Тяжелая лира», вышедший в 1922 году и подведший черту под пребыванием Ходасевича в России, начинается как продолжение «Путем зерна» — белыми ямбами «Музыки», но уже второе стихотворение, посвященное памяти ближайшего друга — это новый Ходасевич:
Леди долго руки мыла.
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.
Леди, леди! Вы как птица
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.
(Посланный на фронт Самуил Киссин (псевдоним — Муни) покончил с собой в начале войны, в армии, не выдержав хамства и издевательств последних мразей на земле — благородного русского офицерства.)
Сборник продолжается незабываемым стихотворением о няне «Не матерью, но тульскою крестьянкой», а через несколько стихотворений мы встречаем такие шедевры, как «Искушение», «Люблю людей, люблю природу», «Жизель», «Пробочка»... «Безблагодатный» Ходасевич совершает чудо:
Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу,
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.
По нежной плоти человечьей
Мой нож проводит алый жгут:
Пусть мной целованные плечи
Опять крылами прорастут!
Мэтр
Плечи юной армянки Нины Берберовой, в голодные 20-е решительно занявшейся уводом поэта от Анны Чулковой, крылами явно не проросли. Но вот эмигрировать — и благодаря этому выжить — она Ходасевича уговорила. Пара перебралась в Берлин, чуть позже — на виллу Горького в Сорренто, а с 1925 года и до конца жизни Ходасевич обитал в Париже. Благодаря «Путем зерна», «Тяжелой лире» и беспощадным статьям он занял место первого критика эмиграции, которое тщетно и отчаянно оспаривал у него Георгий Адамович. Их журнальная полемика, растянувшаяся на полтора десятилетия, стала одним из украшений литературной жизни русского зарубежья.
Пожалуй, сумрачный мизантроп Ходасевич все-таки несколько проигрывал в общественном мнении блестящему стилисту, тонкому поэту, доброжелательному покровителю Монпарнаса. Но даже симпатизировавшие Адамовичу признавали конечную правоту его оппонента. Адамович торопил поэтов высказаться, предрекал угасание и смерть всей эмиграции — Ходасевич же требовал взвешенности, мастерства, чеканной формы, ответственности за каждое слово. Молодежи все это казалось скучноватым. Действительно, куда веселее сумбурно высказать гору «последних слов» и сдохнуть от поддельного наркотика или же под колесами подземки. А то еще, обидевшись на весь мир, пристрелить президента единственной страны, согласившейся приютить огромную голодную массу плохо приспособленных к жизни людей. А ведь в каком-то смысле все эти события были следствиями доброжелательных проповедей дожившего до глубокой старости Георгия Адамовича.
В 1927 году Ходасевич выпускает «Собрание стихотворений» — переработанные «Путем зерна» и «Тяжелая лира», а также написанные в эмиграции стихи, объединенные под общим названием «Европейская ночь». После этого все вопросы о том, кто является лучшим поэтом эмиграции, просто отпали, хотя у Георгия Иванова и Марины Цветаевой, как водится, было особое мнение на этот счет. А «лучший в эмиграции» тогда приравнивалось к «лучший вообще», потому что о происходившем в России доходили самые противоречивые слухи. Уже погиб Есенин, но оставались Маяковский, Мандельштам, Ахматова, Пастернак, появлялись новые поэты. Однако именно во второй половине 20-х годов поэзия империи переживала тяжелейший кризис, на фоне которого особенно ярко звучали строки Ходасевича:
Весенний лепет не разнежит
Сурово стиснутых стихов.
Я полюбил железный скрежет
Какофонических миров…
( «Весенний лепет не разнежит…»)
Перечислять бесполезно: «Европейская ночь» — сборник шедевров. Внешне это — аккуратные ямбические четверостишия, ничего общего с модными еще совсем недавно смелыми экспериментами. Но это уже не пушкинский, не тютчевский ямб, мы слышим нервную ритмику XX века:
Всё высвистано, прособачено.
Вот так и шлёпай по грязи,
Пока не вздрогнет сердце, схвачено
Внезапным треском жалюзи.
(«Нет, не найду сегодня пищи я…»)
Много было сказано о «Европейской ночи», но ни один критик конца 20-х годов не почувствовал, что самым главным стихотворением в этой книге стала небольшая зарисовка:
Сквозь ненастный зимний денёк —
У него сундук, у неё мешок —
По паркету парижских луж
Ковыляют жена и муж.
Я за ними долго шагал,
И пришли они на вокзал.
Жена молчала, и муж молчал.
И о чем говорить, мой друг?
У нее мешок, у него сундук…
С каблуком топотал каблук.
О чем говорить, мой друг? Сравните это стихотворение с приведенным в начале статьи «Вокруг меня кольцо сжимается»! Путь завершен, говорить не о чем. Поэтическая ложь проиграла правде. Кольцо, конечно же, не сжалось, а вот на вокзал муж с женой пришли. Конец.
Конец
Словно по инерции, Ходасевич написал после выхода «Собрания стихотворений» еще несколько десятков замечательных строк, и — замолчал. Навсегда. Ему было лишь немного за сорок, когда он — в расцвете сил и славы — сознательно перестал писать стихи. Других подобных прецедентов русская поэзия не знает. Да и в мировом масштабе вспоминается лишь Артюр Рембо, добровольно отказавшийся от креста поэзии. А ведь Ходасевич — полный, абсолютный антипод взбалмошного француза. Крайности смыкаются.
После стихов Ходасевич не ушел из литературы, он много писал — статьи, воспоминания, наброски о Пушкине. Берберова от него ушла, он женился на Ольге Марголиной, которая была уже скорее сиделкой бывшему поэту. Хронические болезни усиливались от бытовой неустроенности, и Ходасевич умер в 1939 году. Могила запущена, и едва ли прах поэта когда-нибудь перевезут на родину.