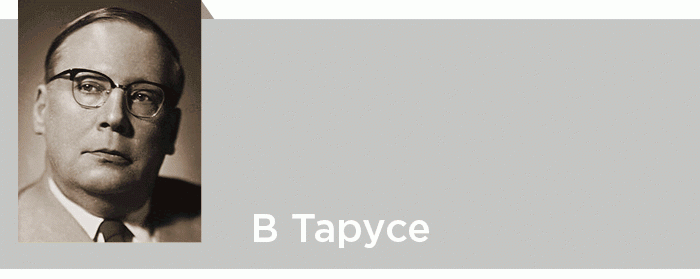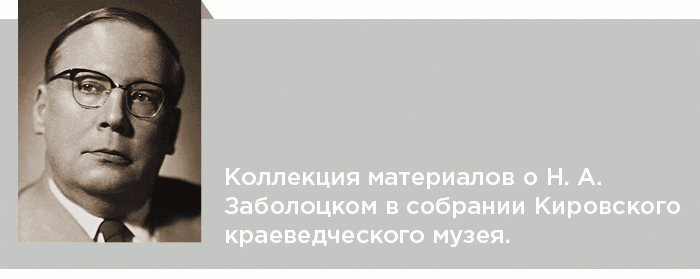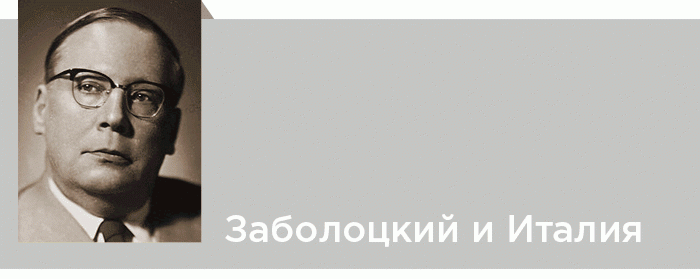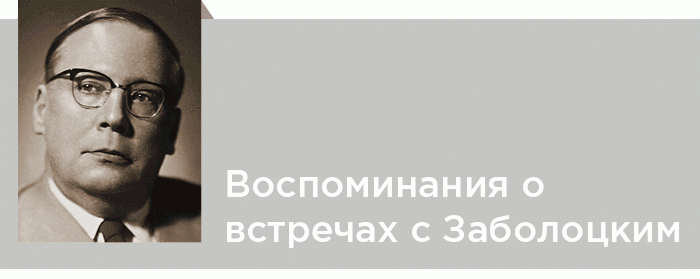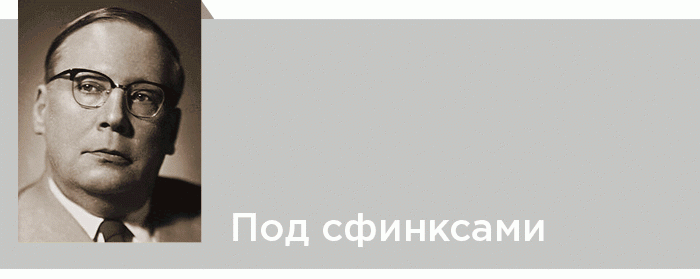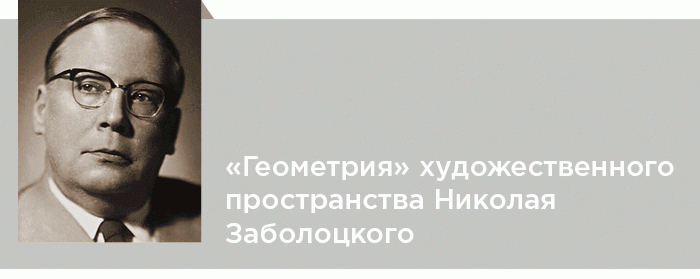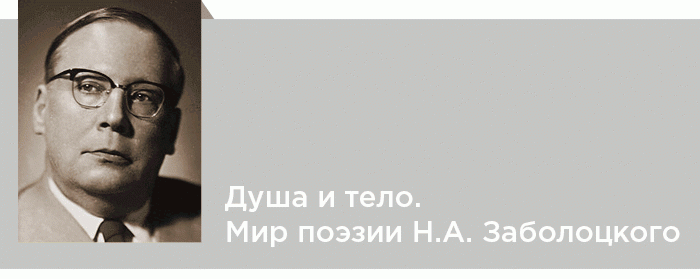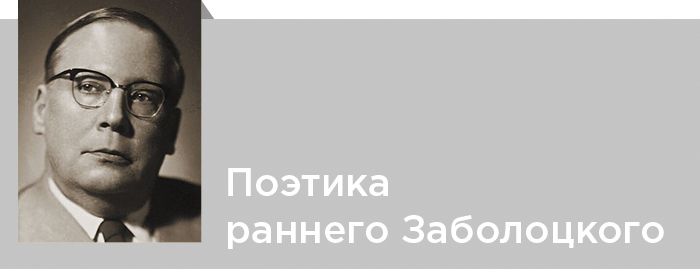«Последняя любовь» Н. Заболоцкого: семантика заглавия

И.В. Фоменко
Тютчева Заболоцкий знал всего «наизусть и считал единственным недосягаемым образцом»1. Поэтому в том, что заглавие цикла отсылает к заглавию стихотворения Тютчева, с одной стороны, нет ничего неожиданного. А с другой, – эта отсылка может быть и основой формирования некоторых дополнительных смыслов хотя бы потому, что именно этим заглавием Заболоцкий единственный раз прямо и даже декларативно адресуется к Тютчеву. Если Тютчев действительно был для него «недосягаемым образцом», для того, чтобы вступать с ним в диалог, нужны были веские причины.
В творчестве лириков, которые мыслят не циклами, а отдельными стихотворениями, авторские циклы появляются достаточно редко, но, вероятнее всего, закономерно, когда возникает необходимость пересмотреть привычный взгляд на мир, а новое смутно, неопределенно и не укладывается в формулы одного стихотворения. Это может быть еще не отчетливая, но крайне важная для поэта мысль, которая «нащупывается» в цикле. Так, Т. Шевченко «19 грудня 1845» написал «Давидовi псалми», а через пять дней («25 грудня в Переяславi»), собрав воедино основные мотивы цикла, создал знаменитый «Заповiт». Но, наверное, чаще циклы маркируют вехи творческой эволюции. «Наверное» потому, что явление пока не изучено, хотя опыт очень разных поэтов позволяет предположить, что это именно так. Пушкин создал всего два авторских цикла: «Подражаниями Корану» был отмечен переломный для него 1824 г., так называемым «неоконченным» или «каменноостровским» циклом – переломный 1836 г. На переломе рождались «Персидские мотивы» и «Исповедь хулигана» С. Есенина. На переломе возникали циклы А. Тарковского «Кузнечики», «Жизнь, жизнь». На переломе возникла и «Последняя любовь». Поэтому заглавие цикла могло отсылать не только к тютчевскому стихотворению, но к тютчевскому мировидению как возможности найти ответы на какие-то принципиально важные для Заболоцкого вопросы. Если это действительно так, то в цикле должно быть несколько смысловых планов.
Первый семантический уровень заглавия «Последняя любовь» формируется сюжетом интимного романа. Этот тип композиционного строения цикла всегда безотказно очевиден, потому что отдельные лирические ситуации легко позволяют вчитать в текст фабулу: стихотворения расположены так, что читатель накладывает на них клише интимного романа, домысливая недостающие звенья. Иногда читатели делают это даже независимо от автора («денисьевский цикл» Тютчева), иногда поэты помогают им в этом (первые издания «Сестры моей – жизни», где прозаические вставки скрепляли отдельные эпизоды «романа» в единую «цепь»).
Цикл Заболоцкого действительно читается как «история любви» с «прелюдией», «апофеозом», «кульминацией драмы», «развязкой» и «эпилогом»2. Сначала она, заключенная в высокую темницу3, только снится ему. Затем «Морская прогулка» с деталями курортного быта (белый глиссер, грот, волны), и она, равновеликая легендарной Тавриде, рядом. Потом – «Признание», клятва в неистовой любви (несколько, правда, неожиданная для рассудочного «неоклассициста» Заболоцкого). Она переживает недоступную ему драму (словно в оковы закована) и не может распахнуть душу навстречу любви, а ему не дано понять ее (Отчего же ты плачешь, красавица? / Или мне это только чудится?). Затем – разлука. «Голос в телефоне». Зыбкость (плачешь? чудится?) оборачивается дальним рыданьем. Голос сгинул совсем. Он с помощью сомнительных аналогий пытается убедить себя в том, что все конечно («Колеблется лебедь / На пламени вод. / Однако к земле ведь / И он уплывет»), но ее отраженье все равно остается в его душе. Теперь воспоминания приходят только во сне, наступает одиночество (Облетевший мой садик безжизнен и пуст…). Но вот «Встреча», и происходит то, в чем заклинал он прежде («Она, моя нежданная, теперь / Свое лицо навстречу мне открыла. / И хлынул свет»). А в завершение – постпозиция, прозрение удивительного и спокойного в своей кажущейся обыденности будущего: «Простые, тихие, седые, / Он с палкой, с зонтиком она, – / Они на листья золотые / Глядят, гуляя дотемна».
Может быть, фабулу можно прокомментировать и как-то иначе, но в любом случае неизменным останется и вопрос: при чем здесь Тютчев?
Можно, конечно, вспомнить последний стих тютчевского стихотворения и сказать, что «блаженство и безнадежность» как состояние Заболоцкий мог бы сделать эпиграфом к своему циклу, и в этом случае сюжет с очевидностью развертывался бы для читателя как переходы от безнадежности к блаженству с заключительным счастливым концом. Но, во-первых, у Заболоцкого нет эпиграфа. А во-вторых, его «блаженство» и «безнадежность», скажем так, не совсем тютчевские.
Тютчевское стихотворение – о любви на склоне лет, которая обострила ощущение грядущего конца, о чувстве, которое сильнее жизненных сил («Пускай скудеет в жилах кровь, / Но в сердце не скудеет нежность…»), о любви – прощальном свете, блаженстве и безнадежности. Возможно, это первое в русской поэзии стихотворение, в котором невербализуемое состояние воплощено в пластике ритма: четырехстопный хорей отягощен дополнительными безударными слогами, затрудняющими чтение и произнесение стихов.
У Заболоцкого «безнадежность» и «блаженство» связаны скорее с сюжетной интригой (сначала неразделенная, а потом разделенная любовь), и заглавие при таком прочтении реализует значение, близкое к тютчевскому, но не отсылающее к нему – «последняя по времени любовь».
Непосредственно к Тютчеву отсылает только четвертое (одноименное циклу) стихотворение – и возрастом субъектов сюжетной ситуации («Пожилой пассажир у куртины / Задержался с подругой своей»), и осиянностью любви («Два туманные легкие света / Исходили из них»), и оппозицией «свет – мрак», и предчувствием неизбежного конца («В неизбежном предчувствии горя, / В ожиданье осенних минут, / Кратковременной радости море / Окружало любовников тут»).
Но этот авторский вариант тютчевского сюжета сопровождается неожиданными для Заболоцкого образами.
Для зрелого Заболоцкого одним из основных, если не единственным, способом познания был разум.
Сквозь волшебный прибор Левенгука
На поверхности капли воды
Обнаружила наша наука
Удивительной жизни следы.
«Сквозь волшебный прибор Левенгука...»
Мы, люди, – хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги…
Именно разум ведет к гармонии человека и мира:
И бабочки, в солнечном свете играя,
Садились на лысое темя Сократа.
«Читайте, деревья, стихи Гезиода...»
В стихотворении «Последняя любовь» появляется неожиданная для поэтики Заболоцкого оппозиция, обрамляющая его. Пограничное состояние, грань сна сталкивает знание и чувство, когда шофер, глядя на влюбленных сквозь сонные веки, видит мир запредельного, победу духовного («два странных лица, / Обращенных друг к другу навеки / И забывших себя до конца»), видит как «Два туманные легкие света / Исходили из них», но не перейдя границы сна и все-таки бодрствуя, он одновременно знает, что давно уж их песенка спета. Противоречие «знание – чувство» в этом стихотворении не разрешается, хотя финальный стих, как и цветовые детали (водитель, знающий, что «песенка спета», – «во мраке», а они, чувствующие, ярко освещены и окружены «красотой уходящего лета»), намекают на возможность победы чувства: водитель знал то, что, к счастью, не знали они. Интерпретировать этот стих можно по-разному, но «не знать – к счастью» не только принципиально новое для Заболоцкого утверждение, но и указание на второй смысловой уровень: поиски ответа на фундаментальный вопрос, что есть путь к познанию сущего – разум, в который до сих пор верил Заболоцкий, или чувство.
Поэтому так важен мотив сна, который подключает цикл и к целому пласту русской культуры, и к тютчевской формуле существования на грани как бы двойного бытия, и, возможно, к его же утверждению: в то, чего умом не понять, можно только верить.
В первом стихотворении («Чертополох») именно сон оставляет лирического героя на границе видимого и сущего, сталкивая вечное с конечным. Родственное сну визионерство во втором стихотворении («Морская прогулка») временно стирает границу между реальным и ирреальным миром. В четвертом («Последняя любовь»), взгляд сквозь сонные веки мотивирует двоемирие и возможность внеаналитического познания. Пятое, шестое и седьмое стихотворения – аргументы в пользу «разума» или «чувства». В восьмом («Можжевеловый куст») – окончательная победа сна, то есть, внеаналитического познания, позволяющая проникнуть в драматизм сущего. Чувство становится той единственной силой, которая раскрывает миры природы и человека. И если в цикле Заболоцкий действительно искал ответ на вопрос, познается мир разумом или чувством, то понятен становится переосмысленный образ из стихотворения «Читайте, деревья, стихи Гезиода»: там мотыльки садились на лысое темя Сократа, здесь, в девятом стихотворении («Встреча»), где окончательно торжествует чувство, мотылек уселся на плечо любящему, для которого рациональное начало избыточно: «Моих вопросов не было еще, / Да и не нужно было их вопросов».
И, наконец, заключительное стихотворение «Старость», отсылающее к тютчевскому двустишию «Пускай скудеет в жилах кровь, / Но в сердце не скудеет нежность», закрепляет победу чувства: только любовь может противостоять жестокости жизни, только чувство есть единственный путь, ведущий к познанию.
Заболоцкий «сам, своим умом старался <…> решить две величайшие задачи, волновавшие его, – задачу смерти и задачу любви»4. Поэтому заглавие его цикла апеллирует не только к тютчевскому одноименному стихотворению, но к утверждению, что только любовь есть последняя возможность познать законы жизни и преодолеть ее драматизм.
1 Чуковский
Н. Встречи с Заболоцким
// Нева. 1965. № 9. С. 189.
2 Шилова
К. Поэтика цикла
Заболоцкого «Последняя любовь» // Из истории русской и зарубежной литературы
XIX–XX веков. Кемерово, 1973. Достаточно подробный обзор литературы о
Заболоцком см.: Кормилов
С.Н. Творчество Н.А.
Заболоцкого в литературоведении рубежа XX–XXI вв. (К 100 летию со дня рождения
поэта) // Вестник Московского университета. 2003. № 3. (Серия 9. Филология).
3 Здесь и далее цит. по: Заболоцкий Н.А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965.
4 Чуковский Н. Указ. соч. С.189.