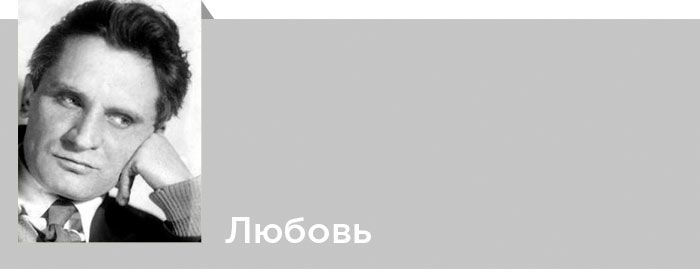Юрий Олеша. Человеческий материал

Я – маленький гимназист.
Когда я вырасту, я буду таким, как господин Ковалевский.
Этого требует от меня вся семья.
Я буду инженером и домовладельцем.
Распахнута балконная дверь. Слышен шум порта. На балконе растет олеандр из зеленой кадки. Господин Ковалевский приехал к нам обедать. Он стоит на фоне балконной двери, черный, как тень, на тонких расставленных ногах.
Мой папа – акцизный чиновник, обедневший дворянин, картежник. Мы бедны, но принадлежим к порядочному кругу. Мой папа остался барином, как и был; от него никто не отвернулся.
Я вхожу в гостиную, чтобы приветствовать господина Ковалевского. Я иду, маленький, согбенный, ушастый, – иду между собственных ушей. Сзади идет папа. Он меня демонстрирует. Я – вундеркинд. Гость протягивает мне руку, которая кажется мне пестрой, как курица.
Папа знает в точности, как должен жить я, чтобы быть счастливым: то есть быть богатым, независимым и занимать положение в обществе. Как господин Ковалевский. Свою жизнь папа считает несчастной. Как всякий промотавшийся барин, он считает себя униженным и оскорбленным. Все прошло, поздно жалеть, жизнь прожита. Но что ж, пусть, хорошо! Зато у него есть план местности, которая осталась позади. На плане обозначены пункты катастроф, пропасти и преграды. Кроме плана собственной жизни имеется также приблизительный план жизни господина Ковалевского. Их нетрудно сравнить – эти два плана. И вот произведено сравнение, сглаживание, выравнивание, накладывание одной части на другую, – отмечены совпадения и разрывы. В результате всего получился план той жизни – идеально удачной жизни, – которую мог бы прожить папа, если бы судьба положила ему быть счастливым. Но жизнь не повторяется дважды. Что делать с планом? Передать его сыну. Таким образом, для руководства предлагается мне план, который разработан отцом моим на основе зависти, раздражения, на основе учета свойственных только ему мечтаний и способностей. Этот план предлагается как лучший, и я не имею права обсуждать его.
Папа понимает разницу между собой и господином Ковалевским. Она огромна, и самому папе уже никогда не укоротить ее. Но вот вхожу я, и папа говорит:
– Дося – первый ученик.
Это значит: я одолел одну из тех преград, которые на плане папиной жизни обозначены знаком катастрофы.
Я – первый ученик. Я моложе своих сверстников и умнее их. Это очень важно. Господина Ковалевского это должно покоробить. Я – тихоня, и характер у меня замкнутый. Даже то, что я малокровный, поднимает папины шансы в соревновании с господином Ковалевским. Пусть он знает, что у меня есть все данные выбиться в люди. Замкнутый характер, прилежание, малокровие – многообещающие обстоятельства. Я, оказывается, вношу неожиданную и блестящую поправку в план идеально-удачной жизни: малокровие!
Мы стоим друг против друга: я – гимназист второго класса, и господин Ковалевский – инженер, домовладелец и председатель чего-то.
Я поднимаю глаза и вижу бороду.
Она русая, большая, вьющаяся кольцами. В тени ее, как дриада в лесу, ютится орден.
Ныне оглядываюсь я – и не вижу бород!
Бородатых нет!
Мы были маленькими гимназистами, у нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья. Это была галерея примеров. Нас вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону, и шепотом произносили имена дядь, двоюродных братьев, великих родственников и великих знакомых.
Над детством нашим стояли люди-образцы. Инженеры и директора банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора.
Японская война, подвиг рядового Рябова, первый кинематограф, двухсотлетие Полтавской победы, еврейские погромы, генерал Каульбарс, убийство королевы Драги – вот знаки моего детства. И, кроме того, люди-образцы, люди-примеры, бородатые женихи моей мечты, бороды, бороды, бороды…
Одни были расчесаны надвое. У этих, у обладателей расчесанных надвое бород, губы были румяны, улыбающиеся – цвета семги – губы жуиров и развратителей гимназисток.
Были бороды седые, длинные и суживающиеся книзу, как меч. У таких бородачей брови были сдвинуты и насуплены, – и эти люди были совестью поколения.
Были бороды короткие и широкие. Их держали в кулаках – могучие бороды путейцев и генералов!
Я буду таким, как господин Ковалевский.
У меня вырастет борода.
Мы оба в форменной одежде: гимназист и чиновник. Он – в черном мундире, я – в серой куртке.
О, серая куртка гимназиста! Ты не облегла меня, ты стояла вокруг моего туловища и была выше его, и плечи твои ничего общего с моими плечами не имели! Ты окружала меня – твердая, широкая и неподвижная, как спинка стула!
Я – маленький гимназист в платье на вырост. Мы оба в форме – я и господин Ковалевский; мы – звенья одной большой цепи; на нас бляхи, петлицы, гербы; мы – люди регламентированные – гимназист и чиновник.
– Здравствуйте, господин Ковалевский, – говорю я.
– А! – восклицает господин Ковалевский. – Здравствуйте, молодой человек красивой наружности и ловкого телосложения.
А затем, после паузы, говорит папа. Он говорит:
– Дося будет инженером.
Тут я должен был бы возразить: будущие инженеры учатся в реальных училищах. Зачем же вы определили меня в гимназию?
Я должен быть инженером и должен, кроме того, знать латынь. Как же можно без латыни? Да, но инженеру не нужна латынь! Да, но ты – способный, ты должен все знать и все уметь, ловить всех зайцев, опережать сверстников, быть самым прилежным и тихим, потому что папа твой еще до твоего рождения проиграл состояние в карты и хочет теперь отыграться.
В день моих именин мне подарили готовальню.
Пусть Дося чертит.
А я даже не знал, что есть такое слово – готовальня!
И я стал чертить, испытывая муки творчества, которые были бесполезны, унылы и никак не могли бы вознаградить успехом, потому что в той части мозга, где у будущего инженера сосредоточена склонность к черчению, у меня было слепое место. Я ощущал научную невозможность привести в движение то, что отсутствовало вовсе; сознание это превращалось в боль во лбу, в тяжесть, давившую на лобные кости.
В бархатном ложе лежит, плотно сжав ноги, холодный, сверкающий циркуль.
У него тяжелая голова. Я намереваюсь поднять его. Он неожиданно раскрывается и производит укол в руку. Я держу в кулаке одну его ногу. Подвижность его стремительней всех моих суждений, даже предупредительных рефлексов. Я подношу руку ко рту, чтобы слизать кровь, – и не успеваю подумать: «осторожно»… Циркуль уже повернулся в кулаке, и вот он уже смотрит страшным острием прямо мне в глаз. И я не понимаю, что происходит: что это? что это за блеск? что это за точка, которую я не могу постигнуть физически и которая грозит мне смертью?
Я разжимаю кулак. Циркуль стоит на столе, оглядывается, идет, останавливается и рушится на голову, раскрыв ноги. Я должен напороться на них обоими зрачками сразу.
Ныне оглядываюсь: все инженеры вокруг меня!
Ни одного домовладельца – все инженеры.
И я среди них – писатель.
И никто не требует, чтобы я был инженером.
Мне много говорили о справедливости. Мне говорили: нищета – добродетель, заплатанное платье прекрасно, нужно быть справедливым. Нужно быть добрым и не презирать бедных. Когда произошла революция, передо мной встала величайшая человеческая справедливость – торжество угнетенного класса. Тогда я узнал, что не всякое заплатанное платье прекрасно и не всякая нищета – добродетель. Тогда я узнал, что справедливо только то, что помогает раскрепощению угнетенного класса. Об этой справедливости ни слова не сказали мне те, кто учил меня, как жить. Я должен постичь ее сам – умом. А что вколотили в мой ум? Мечту о богатстве, о том, что нужно заставить общество склониться перед собой.
Я хватаю в себе самого себя, хватаю за горло того меня, которому вдруг хочется повернуться и вытянуть руки к прошлому.
Того меня, который думает, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние.
Того меня, который думает, что все, что происходит, есть только его жизнь, единственная и неповторимая, всеобъемлющая моя жизнь, своим концом прекращающая все существующее вне меня.
Я хочу задавить в себе второе «я», третье и все «я», которые выползают из прошлого.
Я хочу уничтожить в себе мелкие чувства.
Если я не могу быть инженером стихий, то я могу быть инженером человеческого материала.
Это звучит громко? Пусть. Громко я кричу: «Да здравствует реконструкция человеческого материала, всеобъемлющая инженерия нового мира!»
1928