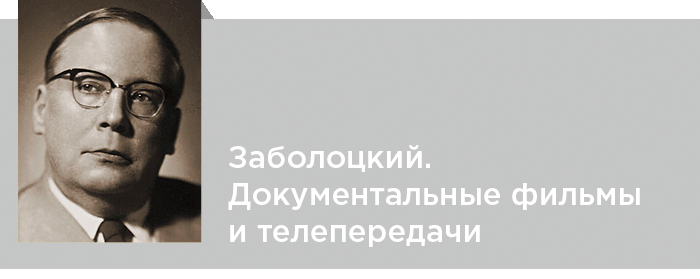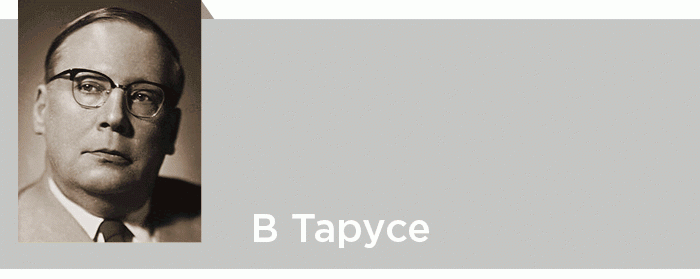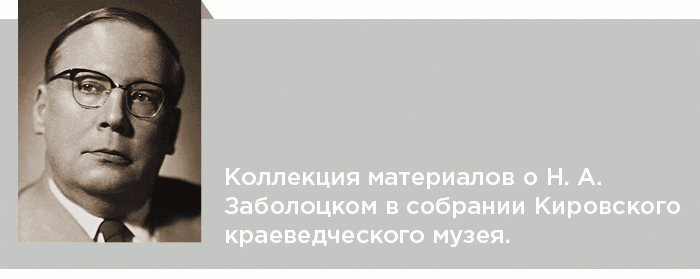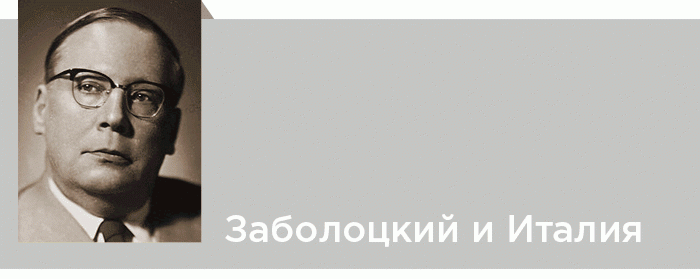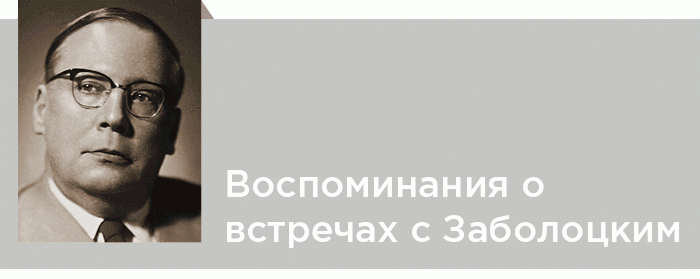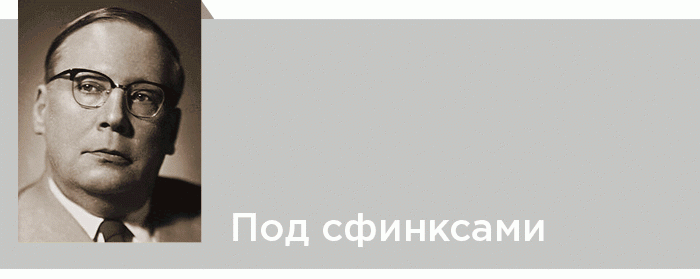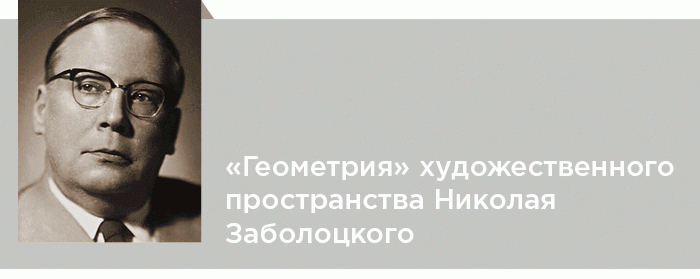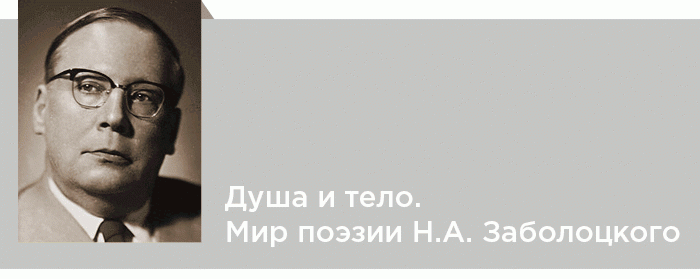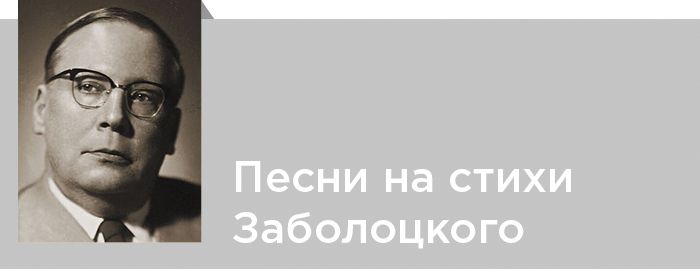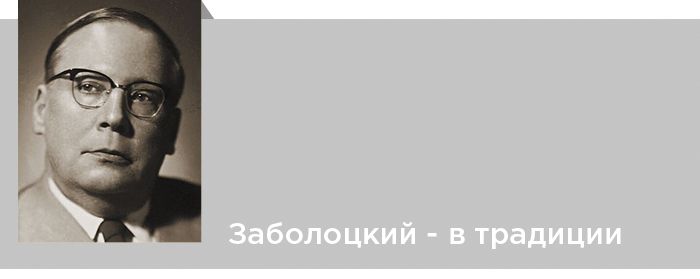Николай Заболоцкий: далее везде

Татьяна Бек
“Вообще, Заболоцкий — фигура недооцененная. Это гениальный поэт... Когда вы такое перечитываете, то понимаете, как надо работать дальше”.
Иосиф Бродский. Из диалогов
с Соломоном Волковым
В 1937 году Михаил Зощенко написал статью “О стихах Заболоцкого”, где наряду с ценными наблюдениями над образностью собрата обронил фразу, в своем роде ключевую и пророческую: “Его работа, вероятно, окажет значительное влияние на нашу поэзию”.
Зощенко и не предполагал, насколько прогноз окажется точным и в сколь далекую эстетическую перспективу будет направлен.
24 апреля 2003 года Николаю Алексеевичу Заболоцкому стукнуло 100 лет. В Литературном институте меня “обязали” выступить на международной конференции по любимому поэту — тему, дескать, придумай сама себе любую. И я, не зная броду, самоуверенно заявила свой гипотетический доклад так: “Отсветы и отзвуки поэзии Николая Заболоцкого в современной русской словесности”.
Задача выяснить природу и многовалентность именно влияния Заболоцкого на поэтику, идущую вослед его трудам и дням, оказалась необъятной и неподъемной, — но я нашла выход: предложила своим коллегам (коих я так или иначе знаю лично и чьему поэтическому вкусу так или иначе верю) доморощенную анкету. Ведь, кстати, и обериуты, из первоначального содружества с коими и вырос весь Заболоцкий, анкеты очень жаловали и всем желающим вступить в новую секцию предлагали такие вопросы: какой сорт мороженого вы предпочитаете; ваша нравственная программа на ближайшее будущее; ваш любимый цветок — и так далее... Я же бросила клич, куда более скромный: как на вас повлиял Заболоцкий, чем, в каких формах, какой период его творчества актуальнее для вас сегодня?*
Выяснилось: Заболоцкий в нынешней поэзии “живее всех живых”, влияние его многогранно, парадоксально и всегда креативно. Ведь ни для кого не секрет, что даже великие поэты, чрезвычайно действенные в потомстве, своим — невольно лукавым — влиянием, своей иллюзорной доступностью могут и подавлять формируемую личность: такова школа Цветаевой или класс Бродского, которые, как правило, диктуют своим последователям лишь стилизаторские кальки, провоцируют их на интонационно-ритмические вариации, предлагают свой неповторимый и ярко выраженный образ — как чужую одежду навырост. Иное дело — школа Хлебникова или класс Пастернака: эти отдельно взятые традиции дают своим влюбленным адептам мощный толчок в самобытность и новизну, ибо — в сторону... Я для себя два вида таких поэтических влияний делю — условно — на влияние-шлагбаум и влияние-трамплин (второе еще можно назвать влияние-дрожжи). Николай Заболоцкий — щедрый источник творческой энергии именно второго рода...
Итак, примерно через две недели после того, как клич был брошен, я получила около сорока (38!) откликов по телефону, по простой почте, по Интернету. Знаю, что социологи подобные полустихийные и невсеохватные анкеты называют “случайной выборкой”, но и они оставляют за нею право на некое документальное свидетельство, не лишенное характерности и весомости.
Меня ничуть не смущала неравнозначность и взаимоудаленность тех творческих мастерских, лабораторий и ниш, к коим я в своей любительской и спонтанно распространенной анкете апеллировала. Напротив. Сочная разница меж отвечавшими (и в опыте, и в возрасте, и в пресловутом статусе, и в певческой принадлежности) лишь подчеркивала упорство сквозных линий и современных тенденций, идущих от Заболоцкого в нашу чересполосицу, не лишенную, однако, и некоей логики.
Условно говоря, единая группа крови (первая ли, четвертая), единый знаменатель общей просодии при абсолютно индивидуальных и разной величины числителях — может быть и у столичного мэтра с пригородным новичком.
Суммируя ответы своих товарищей, я получила неожиданные для себя новости о свежих гранях авангарда или о казусах пребывания натурфилософии в недрах поэзии, или о “шарже, настоянном на лиризме”, или о живучести оды с грузинской приправой за счет союза с примитивом, или о юродстве как орудии против хаоса... И много о чем еще. Эти вести и весточки в сумме, как мне кажется, составляют асимметричную и взбалмошную картину современной поэзии.
Все участники анкеты — вне зависимости от пола и стиля, помимо цеховых интересов и вообще поверх барьеров — прикасаясь к Заболоцкому, вдруг, как в сюрреалистической сказке, укрупненно самопроявлялись. Такой вот эффект.
Подвожу предварительные итоги.
1
Первое письмо-ответ я получила от Дмитрия Сухарева, который сразу же подтвердил мои предположения относительно “многовалентности” Заболоцкого как гениальной поэтической субстанции, дающей жизнь самым контрастным и неожиданным порождениям.
“Так или иначе, — писал мне Д. Сухарев, который тоже очень любит (я от него этой методой, честно говоря, и заразилась. — Т.Б.) посылать друзьям-стихотворцам всякие тесты и анкеты, — Заболоцкий очень почитаем, о чем могу судить по результатам собственного опроса, в ходе которого каждый из 150 русских поэтов назвал по 12 любимых стихотворений. По числу упоминаний стихи — в первую очередь “Меркнут знаки Зодиака...” и “Некрасивая девочка” — Заболоцкого шли сразу вслед за цветаевскими, обогнав таких авторов, как Есенин, Маяковский, Гумилев... Думаю, тут в пользу его поэзии сработали и внетекстовые факторы — узничество, честь, кристальная репутация. Поразительный факт: Заболоцкий оказался равно мил поэтам самых разных возрастов и направлений. В этой способности нравиться всем Заболоцкий поистине уникален — его даже трудно с кем-либо сравнить...”
Способен нравиться всем (добавлю я), но в связи с полярно разными качествами, и тут его — Заболоцкого как прародителя — великая загадка.
На первый вопрос моей анкеты: “Как лично на вас повлияла (если повлияла) поэтика Заболоцкого?” лишь трое ответили категорично. Д. Сухарев: “Думаю, что никак”. Геннадий Айги — без ложной скромности: “Мы прошли мимо друг друга”. Ольга Иванова: “Под влиянием Заболоцкого я не находилась никогда”. При этом все три максималиста в дальнейших ответах-раздумьях проявили такое неравнодушие к судьбе, метафизике и образности выдающегося мастера, что говорить о полном отсутствии влияния на них Заболоцкого представляется неточным. Просто, по-видимому, воздействие это является не прямым, не лабораторным, а косвенным — как ветер, воздух, жизненный контекст.
Например, тот же Д. Сухарев сказал об уникальности уроков Заболоцкого так, как посторонний — не мог бы. “Для меня Заболоцкий актуален не столько в художественной, сколько в идеологической сфере. Я имею в виду то, что склонные к высокопарности авторы зовут у него “натурфилософией”. На самом деле здесь простое — любовь к живой природе и отказ от традиционного для христианской цивилизации жесткого, даже жестокого противопоставления человека миру животных и растений. У Заболоцкого неприятие такого противопоставления как-то по-особенному обаятельно... Вероятно, правы те, кто утверждает, что Заболоцкий унаследовал эту “философию” от Хлебникова (“Я вижу конские свободы и равноправие коров”). Но вряд ли мы преуспеем, пытаясь обнаружить у Хлебникова истоки поэтики раннего Заболоцкого (о позднем нечего и говорить). В художественном отношении Хлебников и Заболоцкий, на мой слух, полные антагонисты — ведь Заболоцкий всегда идет от мысли. Его обериутство было, я думаю, не от природы, а за компанию. Такое с нашим братом иногда случается, пока молодые. Вот поздний Заболоцкий — тот органичен. Невозможно представить, чтобы Хлебников или, скажем, Хармс стал в зрелые годы писать подобно позднему Заболоцкому”.
Резкую диалектику — на грани дисгармонии — обериутского начала и позднейшего творчества Заболоцкого лаконично определил молодой Сергей Арутюнов: “В слове “обериут” для него до конца таилось и слово “оберег”, и слово “обречен”...”
Так может сказать о поэте лишь поэт, не правда ли?
2
На вопрос о том, какой нынче Заболоцкий — ранний, поздний, весь ли — актуальнее и влиятельнее, ответы поступили контрастные. (В скобках признаюсь, что, задавая подобный вопрос, я поступила не вполне корректно, поскольку мне заведомо ближе остальных возможных позиция Бродского, твердо высказанная им в “Диалогах” с Соломоном Волковым: “На самом деле, творчество поэта глупо разделять на этапы, потому что всякое творчество — процесс линейный. Поэтому говорить, что ранний Заболоцкий замечателен, а поздний — наоборот, — это чушь!”)
Итак, реакции воспоследовали самые разнообразные. Для Максима Амелина подобного разделения не существует, а Лариса Миллер призналась, что в разные годы жизни ей на эту тему думалось по-разному. Геннадий Калашников ответил: “Мне одинаково близки оба!”. Игорь Иртенев написал, что порою ему кажется: это — два совсем чужих друг другу поэта. Он же, поведав о том, как с трудом не впал в эпигонство по отношению к “Столбцам” (“по мере, так сказать, литературного взросления формальные приемы уступали место поиску более тонких связей”), — приводит собственное стихотворение, которое — цитирую иртеневский ответ на анкету — “представляется мне одной большой развернутой цитатой как из раннего, так, в заключительном четверостишии, и из позднего Заболоцкого”:
Устремив в пространство взгляд,
А вокруг летают пули,
Кони бешено храпят.
Рвутся атомные бомбы,
Сея ужас и печаль,
Мог упасть со стула он бы
И разбиться невзначай.
Но упорно продолжает
Никуда не падать он,
Чем бесспорно нарушает
Тяготения закон.
То ли здесь числа просчеты,
Что сомнительно весьма,
То ли есть на свете что-то
Выше смерти и ума.
И впрямь: идет плавное и пластичное перетекание обериутских отсветов из Заболоцкого в перекличку с его же более поздними идеями о бессмертии души, о духовно-физическом круговороте человеческих жизней в вечном воздухе природы... Аранжировка (выстраданная!) — Иртенева.
Поэт-авангардист Сергей Бирюков (напомню, что когда-то он основал в Тамбове АЗ — академию зауми) тоже воспринимает Заболоцкого совокупно, без деления на вехи: “Для меня он актуален целиком, всем составом, веществом поэзии. Я бы не рискнул определять большую или меньшую степень современности его периодов. Это зависит от настроения воспринимающего. Например, в какой-то момент важно вспомнить “Движение” (1927), а в другой раз — “Можжевеловый куст” (1957). Считаю актуальными также стихи Заболоцкого для детей. Их надо переиздавать постоянно, но мне не удалось найти сейчас в Москве ни одной книжки”...
Большинство опрошенных мною поэтов говорят о влиянии на них Заболоцкого в общем, жизнестроительном и универсальном, плане. Евгений Степанов заявляет: “Он — один из главных поэтов в моей жизни”. Молодая поэтесса Инга Кузнецова пишет: “Поэзия раннего Заболоцкого (времени “Столбцов” и “Торжества земледелия”) в моем случае повлияла, может быть, не столько на поэзию, сколько на мировосприятие: сочетание острого ощущения абсурда, роящегося Хаоса, становящегося мира — и при этом гуманистического, нежного взгляда на существа и даже объекты неживой природы, даже вещи. Одухотворние, пантеизм!..”. Максим Амелин выразился метафорически и со смаком: “Его поэзия как дорогое вино, будучи выпито и впитано в кровь, опьянила и растворилась, оставив навсегда драгоценное послевкусие”. А прозаик и художница из Перми Нина Горланова ответила совсем просто и очень эмоционально: “Для меня поэзия Заболоцкого — это мир счастья и свежести: словно холодная ключевая вода, от которой ломит зубы, но становится хорошо. Он из тех поэтов, которые говорят миру “да”...”. Она же привела в письме ко мне собственные стихи двадцатилетней давности, посвященные Заболоцкому:
Все замерев и не дыша,
Полны любви, полны печали
И непонятны, как душа...
3
Диковина: зачастую, говоря о предпочтении раннего Заболоцкого позднему или наоборот, современные поэты проявляли себя неожиданно и полностью опрокидывали мои ожидания. Традиционалист Геннадий Русаков категорически предпочитает молодой и мускулистый мир “Столбцов” велеречивой, с его точки зрения, и дидактичной поздней лирике Заболоцкого. А мэтр концептуализма, постмодерна и стеба Дмитрий Александрович Пригов, чей “милицанер” и прочие имиджево-масочные персонажи, как мне казалось, полностью вышли из “Столбцов”, в письме ко мне заявил (быть может, впрочем, не без мистификационного прикола): “Поздний Заболоцкий мне ближе, чем ранний, так как сюрреалистическая и экспрессионистическая яркость мне вообще неблизка”.
Поэт и ученый Вадим Рабинович предпочитает раннего Заболоцкого (“это поэт неуюта, простодушно-веселого абсурда, то есть поэт как таковой”) позднему (“позднейшая лирика Н.З. свидетельствует корысть, сеяние “разумного, доброго, вечного”, и потому это явление, поэтическое не вполне”), но отмечает, что “есть, однако, и переход между этими разными поэтами:
Но надо так трепать язык,
Чтоб щи не путать с кулебякой
И с запятыми закавык, —
из “Рубрука” (1958). Речь (ранний Заболоцкий) — язык, но со следами речи (поздний). Одним словом, междуречье”... Таков разлив интерпретаций.
Прелестен — на пересечении премудрой поэтики и, что называется, просто жизни — ответ Ирины Васильковой: “Отсветы — сколько угодно, особенно когда в стихах появляются растительные образы. Тут уж стихи сами начинают ветвиться и буйствовать, вырываясь из-под контроля, от этого порой даже чувствуешь себя почти представителем флоры. Мое стихотворение “Тмин, барбарис, гипсофила, клематис, мелисса...” — оно все из Заболоцкого. Мне близко его эмоциональное переживание “ботанического” кипения, бурления, пузырения, победного цветения жизни — и тут же трагического неотвратимого умирания, близки натурфилософские метафоры — и вообще весь восторг и ужас существования одновременно. К тому же я еще люблю возиться с землей, цветы выращивать, тут тоже море эмоций — так все и прорастает одно в другое...” (Она же говорит и о чисто техническом влиянии: “На интонации его трехсложников ловлю себя достаточно часто — они у него “заразные”, так и влипают в подсознание, потому зачастую не отличишь от своих”).
А Евгений Рейн, по его немедленному — в ответ на вопрос — признанию (запись телефонного разговора), взял у Заболоцкого новый угол зрения: шарж, настоянный на лиризме.
Как говорится: вот те на! Выходит, что Заболоцкий не только парадоксален и непредсказуем сам по себе — он, “заразный”, таков и в качестве влиятеля.
4
Многие ответы свидетельствуют именно о частных, лабораторных, связанных с техникою стиха или с образностью уроках Заболоцкого. О “заразной” интонации его трехсложников уже сказали.
Инна Лиснянская призналась (опять разговор по телефону), что для нее “особенно важна и привлекательна необычайность эпитетов Заболоцкого: продолговатый медведь или животное, полное грез”.
Нина Королева особенно ценит в эстетике Заболоцкого интенсивное словотворчество. Наверное, — сделаю пометку на полях — она имеет в виду не сотворенье неологизмов, которых у Н.З. почти нет, но парадоксальное столкновение нейтральных, однако малосовместимых слов, которые образуют, как говаривал поэт в молодости, “принудительные комбинации”. Он даже так говорил: слова таким образом празднуют в стихах свадьбы и вступают в браки...
Вовсе юная Юлия Качалкина поражается, читая поэта, тому, что у него “самые выразительные в образной системе не люди, не животные, а — деревья”. “Этого, — добавляет она, — ни у одного поэта не было, чтобы именно деревья, — только у кельтов я подобное нашла”.
Андрей Новиков-Ланской (он и поэт, и филолог) признался, что на его стихи повлияло “использование Заболоцким афористических концовок в философских текстах (как, например, в “Некрасивой девочке”)...”. Михаил Чердынцев пишет, что для него, как для приверженца малословия, Заболоцкий именно жанроопределяющ.
Вот и Михаил Свердлов акцентирует свое внимание на жанровой самобытности Заболоцкого — он называет это “жизнеутверждающим одизмом” (от слова “ода”) и поясняет: “В Заболоцком мне близок одический пафос (да еще с грузинской приправой)...”. Он же отметил как наиболее заразительную черту Заболоцкого “соединение броской метафоры с примитивом”. Замечу, что под явным воздействием автора “Столбцов” написан цикл этого малоизвестного пока, но весьма перспективного поэта, — “Футболисты”:
Ты превратил в ловушку душу,
Ворота запер на запор,
Стучишь вечерней колотушкой.
...А сеть томится за спиной,
Но это сеть не для лолитвы,
А смоль очей кипит для битвы
В твоей обители штрафной.
Ольга Иванова вычленяет в мастерстве Заболоцкого “взгляд на красочность мира — и то, что этот мир дан в мелочах: от мельчайшей детали идет высокая вертикаль”.
Олеся Николаева, которая принесла мне целое — весьма страстное и горячее — эссе о Заболоцком, коего ей порою хочется даже переписать, отмечает у него интонационно “зачинную” традицию. Она же объясняет, почему “Столбцы” до сих пор так влияют на ее юных учеников (она, как и я, ведет мастер-класс в Литературном институте): “...Во времена всеобщей растерянности страдающая душа успокаивается, избирая для себя некое “инобытие” — иную, “юродивую” речь...”. Это наблюдение перекликается с заостренным ответом С. Арутюнова “Быть застенчивым бунтарем, который задевает — сразу всех. Ему присуща культура юродивости. Пусть “поблагодарит” советскую власть за проделанную им художественную эволюцию, за такое придавливание гаерства...”
Замечательное прочтение “Столбцов” нашла я в давнишней статье Александра Зорина “Что есть красота”, которую он мне прислал в качестве реакции на анкету. Процитирую фрагмент: “...“Столбцы” — веселая книга. Но ее веселость приправлена болезненной гримасой. Так бывает весело психам в палате, когда один из них отколет непристойную шутку. В первом же стихотворении заявлено: “И всюду сумасшедший бред”... Положение поэта двоякое. Он и вне, и внутри этого игрища-зрелища. Свидетель и участник”... Добавлю к А. Зорину: поскольку с тех пор, со времен “Столбцов”, мир не перестал быть сумасшедшим домом, лишь вывески регулярно менялись и меняются, да палаты перестраиваются, — постольку Заболоцкий-обериут не прекращает быть востребованным не только на эстетическом, но и на семантическом уровне.
Кирилл Ковальджи, которому ближе поздняя, любовная и философская, лирика Заболоцкого, как и О. Николаева, констатирует, что на молодых стихотворцев воздействует именно ранний этап в творчестве поэта, но корень притяжения видит не в юродивости, а в том, что “им ближе эта остраненность мировосприятия”.
Многие из ответивших на мою анкету авторов могли бы подписаться под формулой Юрия Казарина (поэт и литературовед из Екатеринбурга): “Заболоцкий и дал мне образец судьбы, и открыл во мне филолога”... Тот же Ю. Казарин намечает совершенно особый ракурс, условно говоря, влияния-наоборот (влияния-запрета, влияния-табу): “Его “Гроза” до сих пор не позволяет мне писать о грозе”.
Этот случай, когда последователь цепенеет перед некоей темой от невозможности “переиграть” Заболоцкого-предтечу, неединичен. Виктор Куллэ — тоже и поэт, и филолог — сказал о Заболоцком иначе, но в близком ключе: “Полагаю, что с ранними вещами Заболоцкого центон-игра попросту невозможна — они перетянут твой собственный текст на себя. В этом отличие раннего Заболоцкого от, скажем, Хлебникова или Мандельштама. Из последних цитаты воспринимаются как универсальный культурный код, с которым не только можно, но и должно играть, подтверждая верность традиции. Поэтика же раннего Заболоцкого настолько индивидуальна, что возможность неоклассических игрищ отрицает. А с чеканными формулами позднего (а la “огонь мерцающий”) игра может идти только на травестирование — как это случилось с бродячими пушкинскими цитатами. Что не есть интересно”.
Это наблюдение В. Куллэ перекликается с соображением поэта-ерника Евгения Лесина, который на мой вопрос об отсветах из Заболоцкого и всяческих центонах ответил лихо: “А куда же без них! И позднего здесь, конечно, больше. Потому что тут он более советский, более правильный и легче ложится в центоны и прочую полупародийность”. С этим нельзя не согласиться (не с тем, что поздний Заболоцкий — более советский и правильный, но с тем, что его поздняя дидактичность провокативнее для постмодернистских текстов-перевертышей). Я вспомнила массу смешных и неглубоких травестий из творчества собственных студентов, к которым принадлежал когда-то и Е. Лесин. Два анонимных примера: “Любили живопись поэты, но без взаимности, увы” или: “Сосуд, в котором пустота, для алкаша не красота”.
Илья Фаликов обратил мое внимание на то, как влияли и влияют на нашу современную поэзию переводческие шедевры Заболоцкого — не только “Слово о полку...”, но и, скажем, Шиллер в конгениальном переводе русского поэта. Стихотворение Олега Чухонцева “Воспоминание об Ивике” является подспудной перекличкой именно с переложением Заболоцким шиллеровских “Ивиковых журавлей”: давнюю статью об этой перекличке И. Фаликов снабдил подзаголовком “Ивиков петух”**.
На молодую поэтессу Ольгу Леонович воздействует проза Заболоцкого: “...“История моего заключения” и “Картины Дальнего Востока” ставят меня на место”. А Тамара Жирмунская, напротив, творит свою эссеистическую прозу, опираясь на стихи Заболоцкого: “Сейчас пишу главу о Пастернаке для будущей книги “Библия и русская поэзия ХХ века” и, давая поздний портрет Б.П., цитирую именно Заболоцкого: “Юноша с седою головой...”
В общем, отсветам и отзвукам несть числа.
5
Часто в ответах на анкету авторы цитировали свои собственные стихи, так или иначе с Заболоцким связанные. Среди этих текстов есть и прекрасные, и вторичные, и дерзкие. Не удержусь лишь от нескольких примеров.
Петр Красноперов говорит: “Мне ближе срединный Заболоцкий. Совершенно особая октава диковатого изумления перед красотой природы. Косноязычное чувство, выраженное на каком-то бычачьем языке. Никто кроме него эти чувства и таким прекрасно-трудным звуком не выразил... Явно под воздействием Заболоцкого и его метафизики природы написалось мое стихотворение “Прогулка с жуком”:
Что знаю я и что тебе скажу?
Найдя тебя на плитах перехода,
С тобою в ночь июля выхожу...
Приведу и любопытное признание Геннадия Калашникова: “В изобразительном плане стихи Заболоцкого необыкновенно пластичны. Он любил живопись и в стихах говорит об этом, но его стихи скорее скульптурны — они объемны. Зрение поэта стереоскопичное, трехмерное. Думаю, не без этого влияния Заболоцкого я написал, например, стихотворение “Купание в озере”:
И озера мерцающая глыба,
Растущая из бьющего ключа,
Колеблема движением плеча.
Вода причудлива и каждый раз иная,
Шершавая, угластая, прямая,
Секундою и вечностью живет,
И синий мрамор неба отражая,
И стрекозы мерцающий полет...
Здесь след Заболоцкого — попытка увидеть мир стрекозиным фасеточным взглядом”.
Лариса Миллер пишет мне о том, как Заболоцкий повлиял на ее метафизические — не разделимые на простую жизнь и высокое творчество — взаимоотношения с природой, как сделал ее зрение интенсивнее: “Лето и ранняя осень 71-го прошли под его знаком... В ту пору я жила на даче с маленьким сыном. Лето было яблочным, и, проснувшись на заре, я слушала стук яблок о землю и повторяла про себя: “О, сад ночной, таинственный орга’н...”. Наверное, только тогда я научилась по-настоящему слышать и видеть природу, и строки Заболоцкого стали частью ее... Поэт буквально вел меня по земле, заставляя временами останавливаться и, замерев, смотреть и слушать. Впервые в жизни я столь отчетливо ощутила ток жизни, ее тайные и явные метаморфозы, происходившие в душе и в природе. И многие мои стихи, написанные в ту пору, об этом: “Где ты тут в пространстве белом?/ Всех нас временем смывает./ Даже тех, кто занят делом — / Кровлю прочную свивает./ И бесшумно переходит/ Всяк в иное измеренье,/ Как бесшумно происходит/ Тихой влаги испаренье...”. В разные периоды жизни книги читаются по-разному. И чтенье становится праздником лишь тогда, когда включаются внутренний слух и внутреннее зрение”.
Инге Кузнецовой тоже особенно дорога редкая “первичность”, первозданность мифопоэтической картины мира Заболоцкого (почти невозможная — уточняет она — при том давлении культуры, которое ощущали люди Серебряного века и чуть поздней). “Его чувствительность к энергии стихий, к дочеловеческой истории Земли, — которую современный человек может выразить только будучи интеллектуалом, ученым (научная гипотеза — тоже в каком-то смысле миф)... Чем дальше неизбежное “разбегание” (узкая специализация и проч.) сегментов этого мира, тем воля к соединению крайних полюсов — природного, первобытного и интеллектуального — актуальнее. Ранний Заболоцкий внушает надежду на возможность цельного творчества в разорванном мире! Это самое главное...” Далее поэтесса приводит собственное — явно “заболоцкое”, но и самостоятельное (женскость... растерянность... чуть жеманная нежность...) стихотворение “Короткий сон”, которое являет собою пример твердопреданной, но и вспененной изнутри традиции:
бежит скрываясь от других видений
но коридоры плачущих растений
уже расчистил инженер-путеец
на свете дождь поющий без умолку
здесь будет город сделанный из денег
и мелочи сбивающие с толку
похожие на гибель в кофемолке
а я хочу навеки и всерьез
внезапно все вокруг соединилось
как островки разбитого винила
в природу превращается сырье
а где же я не знаю ну и пусть
Своеобразная — от Заболоцкого идущая — лестница поэтических поколений намечена у И. Фаликова. Он сообщил мне в ответе на анкету: “Было у меня в 90-е годы стихотворение, связанное с Межировым, — с эпиграфом из него: “И снег, летящий вкось...”:
Ощипывая гуся,
На купол золотой
Уставилась Маруся.
Марусе удалось
Лететь себе, как птица, —
За луч, летящий вкось,
Руками ухватиться...
Замечу, что одно из последних стихотворений Заболоцкого “Городок” (1958) про девочку Марусю из Тарусы — по моим наблюдениям, вообще одно из самых влиятельных и креативных для последователей и наследователей поэта***.
Юрий Казарин написал мне из Екатеринбурга о том, что Борис Рыжий (1974—2001), недавно ушедший из жизни добровольно, очень ценил Заболоцкого, учась у него интонационной и лексической точности. “Борис любил позднего Н.З., — пишет Ю. Казарин, — прежде всего за прямоту поэтического выраженья страдания и трагедии. Борис редко читал вслух стихи Заболоцкого, но по телефону (в подпитии), бывало, мог прочесть “Тарусу” (то есть “Городок”. — Т.Б.) и поплакать, так как жизнь Бориса в Екатеринбурге была сплошной Тарусой...” В этом же письме Ю. Казарин приводит малоизвестные стихи Бориса Рыжего, где русские поэты разных времен и направлений с горькой иронией сведены в общий круг:
снимает очки, закуривает сигару.
Александр Блок стоит у реки.
Заболоцкий вспрыгивает на нары.
Анненского встречает Царскосельский вокзал.
Пушкин готовится к дуэли.
Мандельштама на Урал
увозит поезд, в окне — снежные ели...
Сколько десятилетий прошло, а Николай Заболоцкий в стихах молодого трагического уральского поэта по-прежнему — вспрыгивает на нары.
6
Сквозная тема большинства из ответов на анкету — Заболоцкий как выход на его же предтеч, как мост — в фольклор, в мифологию, в Библию, в поэзию ХVIII и ХIХ столетий, в Козьму Пруткова, в капитана Лебядкина, в Сашу Черного. Мало кто из поэтов его времени наделен такой магией раздвиженья собственного художественного пространства, таким широким и неэгоистическим резонансом — и вперед, и вспять...
Юлия Качалкина пишет: “Он начался для меня лет в четырнадцать со стихотворения “Меркнут знаки Зодиака...” Помню, меня покорила фольклорность этого стихотворения. Было похоже на сказку — эстонскую или латвийскую. Дома было много сказок всех народов мира, было с чем сравнить. Потом, гораздо позже, от этого стихотворения протянулась ниточка увлечения кельтским фольклором... Помню еще, что возмутили меня, подростка, русалочьи груди, метафорически названные репами. “Ведь это же колыбельная, — думала я. — Ее же детям поют. Неприлично как-то про голых теть... Что-то языческое было тогда в Заболоцком для меня”.
Ирина Василькова, отталкиваясь именно от интереса к Заболоцкому, прочитала как нечто современно свежее Ломоносова (и, кстати, через Заболоцкого же пришла к идеям Вернадского).
Ольга Иванова констатирует: “...Он продолжает линию Тютчева. А еще на русской почве продолжает Уитмена: пантеизм и всеохватность восприятия всего сущего”.
Юрий Милорава связывает Заболоцкого с античностью: “Ему был свойствен интерес к познанию в высоком, величественном, античном смысле, словно это был Лукреций Кар нового времени. — И вносит ценное дополнение: — Именно поэтому поэзия Заболоцкого не потускнела в 90-е годы, когда на советскую литературу были брошены критические взгляды”.
Не потускнеет поэзия Заболоцкого и впредь, как бы ни менялся социальный и культурный контекст, ее окружающий, — к этому выводу пришли, не сговариваясь, мои корреспонденты, смотрящие на Заболоцкого с самых разных колоколен. Тамара Жирмунская, приславшая ответ на анкету в письме из Мюнхена, размышляет: “В мире, где столько зла, где на всех ярусах создания идет борьба сильного со слабым и победу празднует хищник, — поврежденной оказывается даже природа. Пожалуй, первым в нашей поэзии это почувствовал Тютчев... Заболоцкий прожил мучительную, даже только внешне, жизнь. Гармонию он искал в плодах человеческого гения, в синергии, как теперь принято выражаться. И в этом преуспел и сам стал одним из посредников между землей и Небом. В последнем качестве он будет нужен читающим стихи всегда”.
Андрей Новиков-Ланской делает свой прогноз относительно перспектив бытования Заболоцкого в грядущем: “...Наверное, “поздний” Заболоцкий в силу своей нарочитой классичности менее актуален сейчас, но станет более привлекателен в скором будущем, поскольку именно в наши дни, на мой взгляд, зачинается новый виток культуры: от романтического искусства — к классике, от эксперимента — к традиции, от жанровой и стилистической эклектики постмодерна — к иерархии и строгости форм. Барокко закончилось, зарождается классицизм, и тут Заболоцкий должен прийтись весьма кстати”. С ним солидарен Илья Фаликов: “Еще десять лет назад Заболоцкий торжествовал в качестве раннего. Сейчас, когда вся наша поэзия обретает зрелость, поздний будет все актуальнее и актуальнее...”. А Геннадий Айги уверен в обратном — он полагает, что в ближайшую пору русской словесностью изнутри будет востребован именно ранний Заболоцкий: “В нашей поэзии в целом подспудно происходят сейчас тектонические явления, пока скрытые. Это крупные явления. Это закономерное развитие. Они — тектонические сдвиги — скоро проявятся. И в этом контексте интереснее ранний Заболоцкий. Поздний же всего лишь вызывает глубокое жизненное уважение и просится в хрестоматии...”.
Как своеобразное резюме, примиряющее собою всю эту разноголосицу относительно приоритета “раннего” или “позднего” Заболоцкого в ХХI веке, звучит мнение совсем молодой Ксении Толоконниковой: “Заболоцкий существует вне какой-то конкретной эпохи, поэтому говорить о его актуальности сегодня (как и завтра) — довольно странно. Слишком надактуальная величина!”. Характерно, впрочем, что эту категоричную точку зрения поэтесса тут же уточняет в постскриптуме: “P.S. Тем не менее, знаю, что “молодые” люди — 18—20 лет — зачитываются исключительно “Столбцами”.
Так или иначе, Заболоцкий — в противоречиях, сшибках, парадоксах — продолжается...
7
Поэт и критик Александр Самойлов, которого можно причислить скорее к “молодым” (под тридцать) и, точно, к весьма одаренным и перспективным новым авторам нашего полифоничного времени, на вопрос моей анкеты: “Как на вас повлияла (если повлияла) поэзия Заболоцкого?” — ответил с задором: “Влияние есть. Но вряд ли это имеет значение. Интереснее другой вопрос: оказал ли я влияние на Заболоцкого, и если да, то какое и каким образом”. Меня вначале такой ответ даже слегка ошарашил своей, как мне почудилось, самоуверенностью. Но потом я поняла, что это всего лишь творчески заостренное (гротескный алогизм как взрыв сокровенного смысла — одно из первых открытий Заболоцкого-поэта, в ту пору обериута) и вполне ответственное пониманье того, что не только поэтический гений прокладывает неведомые пути для последователей — через приятие и подражание, отталкивание и уточнение, стилизацию и пародию, перекличку и травестирование, — но и продолжатели своим опытом оказывают влияние на то, как мы заново читаем гения сквозь новые и новые линзы. Так порою, вглядываясь в лица, в гримасы и в жесты детей, мы оглядываемся на отца и обнаруживаем в его облике дотоле неочевидное.
Бывает, впрочем, порою, что дети интенсивностью своих самовоплощений полностью заслоняют породившего их — более скромного — родителя. Интереснейшее рассуждение на сей счет нашла я у Владимира Корнилова (1928—2002) в своей же с ним собственной беседе, подготовленной для “Вопросов литературы” еще в начале 90-х, которую я совсем забыла, а недавно перечла. Итак, ставлю я перед Корниловым вопрос: “В 80-е годы у вас появилось много стихотворных эссе (жанр нераспространенный и мало кому дающийся). Лучшее из них — “Иннокентий Анненский”, оно стоит литературоведческой статьи.
От стиха его шли и шалели,
От стиха его скрытно богатого,
Как прозаики — от «Шинели»...
Зарывалась его интонация
В скуку жизни, ждала горделиво
И, сработавши как детонация,
Их стихи доводила до взрыва.
...Может, был он почти что единственным,
Самобытным по самой природе,
Но расхищен и перезаимствован,
Слышен словно бы в их переводе.
В этих стихах вы ставите проблему Анненского, но не отвечаете: почему он, такой самобытный, пришел к читателю лишь через продолжателей?”
И Корнилов мне говорит: “Возможно, и не стоило писать это стихотворение, если я тут до конца на вопрос не отвечаю... Поэт не должен писать так, чтобы было понятно только ему и его близким. Анненский, как Хлебников, нашел очень много нового. Но сами темы его были чрезвычайно камерные и узкие (при глубине и высоте духа). Несколько его стихотворений достойны стать хрестоматийными... Я понимаю, что нельзя это вводить как термин, но есть в поэзии фактор обаяния. Видимо, манкость (можно сказать и так) Анненского была недостаточной для широкого читателя...”.
Случай Заболоцкого — другой. Полностью дойдя — манкость! — до широкого читателя (помимо прочего — и в крылатых слоганах, и в киноромансах, и в песнях), он при этом стал “шинелью” и для самых серьезных продолжателей в поэзии. Да-да, генетика Николая Заболоцкого оказалась невероятно могучей для его пестрого и талантливого потомства, которое и не устает от него “подзаряжаться”, и при этом первичный материал самой поэзии Заболоцкого — не растаскивает. Напротив — проясняет, высвечивает, укрупняет.
Сам-то он, с первых же шагов пришедший к абсолютной независимости, упорно избегал влияний. По свидетельству современника, когда друзья-обериуты решили ответить на вопрос: на кого каждый из них хотел бы быть похожим, то... Хармс заявил: “На Гете. Только таким представляется мне настоящий поэт”. Введенский вспомнил популярного персонажа из юмористического журнала “Бегемот”: “На Евлампия Надькина, когда он в морозную ночь беседует у костра с извозчиками и пьяными проститутками”. А Бахтерев, поэт и художник, сказал: “На Давида Бурлюка — только с двумя глазами”.
Лишь один Заболоцкий спокойно признался как отрезал: “Хочу походить на самого себя”.
Эту задачу Заболоцкий выполнил — и потому именно на него, соприкасаясь с грандиозным, эволюционно-линейным миром самыми неожиданными — метафизическими, жанровыми, образными, словотворческими — гранями, походят (или, отталкиваясь, ориентируются) столь многие поэты нашего времени. Читая собственные нынешние наши стихи, все — в накрапах и пробоинах Николая Заболоцкого, мы заново перечитываем и его, скромного и сдержанного великана русской поэзии ХХ века.
8
И напоследок. Процитирую-ка я обращение Заболоцкого к друзьям-поэтам по литобъединению “Левый фланг”, написанное в 1926 году: “Каждый поэт знает, куда он идет, и зачем же мешать друг другу? ...Это не монастырь, где все монахи на одно лицо. Мы мастера, а не подмастерья, художники, а не маляры”.
Пока всё.
* Вот как дословно выглядела моя анкета, которую я распространила направо-налево, без особой системы — просто, повторяю, сообразуясь с собственной интуицией:
Просьба срочно ответить на эти три вопроса:
Как лично на вас повлияла (если повлияла) поэзия Николая Заболоцкого?
Есть ли в вашей личной поэтике отсветы (эпиграфы, цитаты, аллюзии, центоны) из Заболоцкого?
Что в наследии этого поэта кажется вам наиболее художественно актуальным сегодня? Подвопрос: какой Заболоцкий современнее нынче — ранний или поздний?
** Драгоценными вкраплениями итальянской поэзии в русскую всегда представлялись мне переложения Заболоцким Умберто Сабы, которые я знаю наизусть с ранней юности:
Ладзаретто Веккио в Триесте —
улица печалей и обид.
Все дома в убогом этом месте
сходны с богадельнями на вид, —
какая всечеловеческая грусть, какой, я бы сказала — изменившийся в лице, хорей, какое ородненье “чужого”!.. Это стихотворение “Три улицы” полагаю шедевром как итальянской, так и русской лирики.
*** Вот и я тоже не так давно — вовсе помимо творческой воли и сознания — на это стихотворение Заболоцкого оперлась, как опираются, ослабев, о надежные перила:
— Как жить прикажешь, если трус на трусе,
Да и герой устал до потрохов?
Мне скучно, брат, как девочке Марусе
В Тарусе меж гусей и петухов...