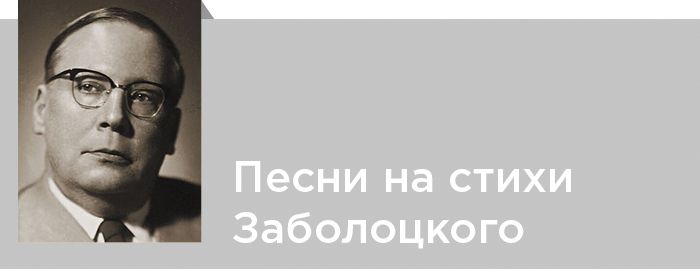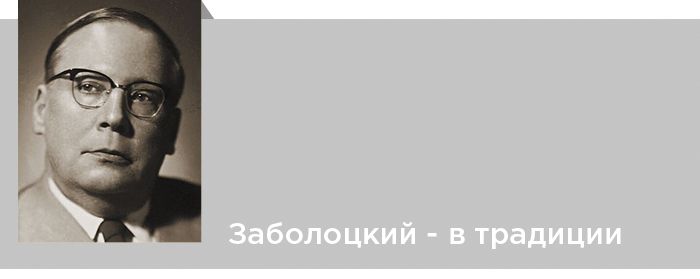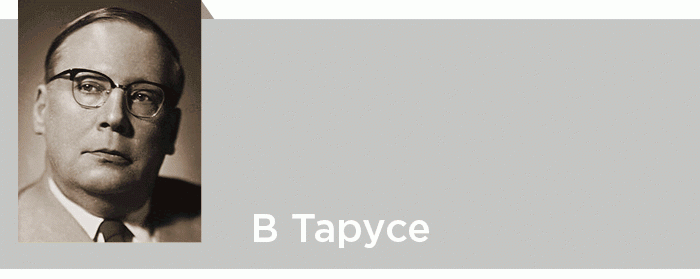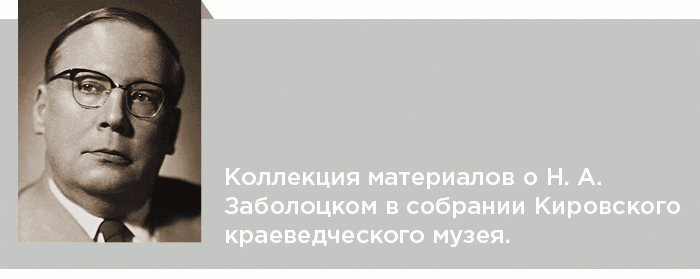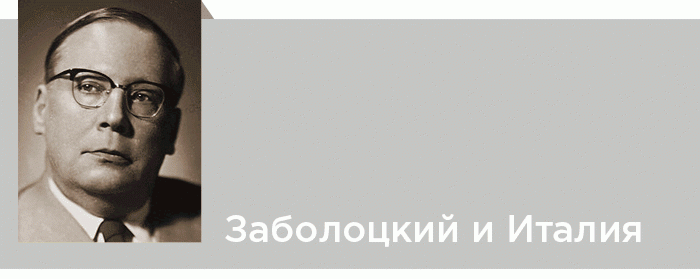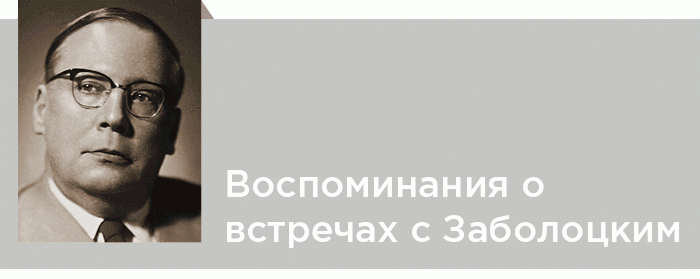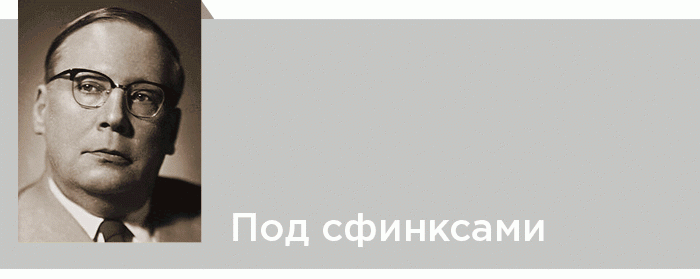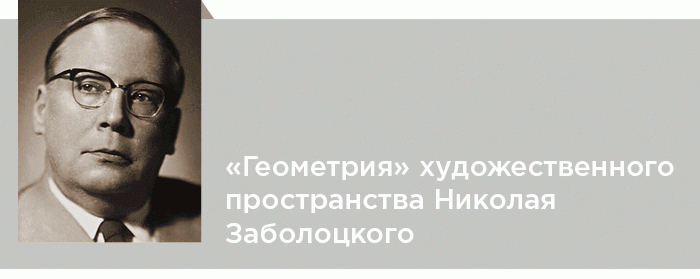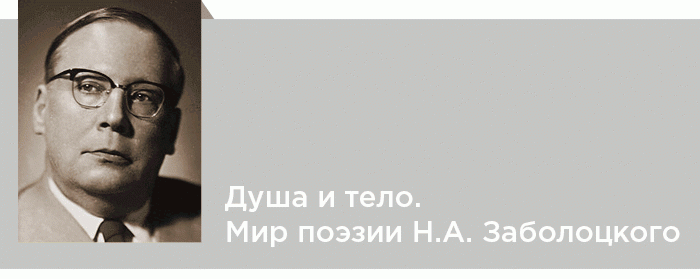Заболоцкий против Заболоцкого?
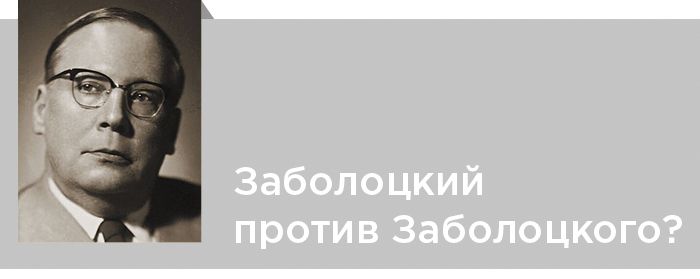
Александр Панфилов
(Москва)
ЗАБОЛОЦКИЙ ПРОТИВ ЗАБОЛОЦКОГО?
К вопросу о периодизации творчества Н. Заболоцкого
Есть стереотип, кочующий из книги в книгу. Особенно это касается текстов «популяризаторских», которые, в сущности, и формируют «общее мнение» о Николае Заболоцком. Открываем, например, книгу «Самые знаменитые поэты России», выпущенную в 2001 году издательством с набатным названием «Вече». Если верить автору книги, «самых знаменитых поэтов России» насчитывается пятьдесят шесть. Заболоцкий, к счастью, в этот ряд попадает. А вот что — к несчастью. Цитируем: «Поэт, начинавший с поэзии, напрямую связанной с Хлебниковым, неожиданно пришел к классицизму».
Тут все дело в одном-единственном слове. Это слово — «неожиданно».
«Начинать», «прийти», «стать другим» — это все нормальные характеристики любого творческого пути. Поэт не может стоять на месте, он живет жизнь, он меняется — вместе с этим меняется и его поэзия.
Приходят новые темы, осваиваются новые приемы, реализуются новые интуиции и постижения. Но в эволюции художника должна присутствовать логика. Эта логика (сколь бы уникальным ни был каждый конкретный случай), как правило, диктуется самим пространством, в котором растет художник, его законами и традициями. «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, — является чувство пути», — писал Блок.
Поэзия Заболоцкого родилась не на пустом месте. Систему координат, в которой существовал поэт, мы можем определить несомненно — это пространство русской литературы. Но вся история русской литературы подсказывает — с каких бы содержательных и формальных забав и ниспровержений русский художник ни начинал, рано или поздно он обнаруживает себя лицом к лицу с традиционной проблематикой. И это прежде всего содержательная проблематика. Это, говоря яснее, проблема оправдания жизни. Еще уточним — религиозного оправдания. Если не размениваться на мелочи и частности, если — «в высшем смысле».
И Заболоцкий эту истину вовсе не опровергает. Совсем наоборот — он ее еще раз подтверждает.
Но слово «неожиданно» эту логику напрочь отменяет. Оно обозначает некую насильственную хирургию, некий трагический разрыв. А уж тут недалеко и до совсем неверного, совсем бесчувственного: в последние годы своей жизни Заболоцкий будто бы «судорожно имитировал традицию» (В. Микушевич).
И это — почти общее место.
За мотивировками обычно далеко не ходят. Наиболее популярна, условно говоря, «социальная». Предполагается, что все то страшное, что выпало вынести Заболоцкому в 30-40-е годы (оголтелая травля в печати, арест, инквизиторские методы следствия, лагерь, безбытность и бесправие), подвигло его на сознательную катастрофическую ломку самого себя. По сути, на творческое самоубийство. Разумеется, совсем игнорировать это нельзя. Уже в 30-е годы Заболоцкий пишет под доглядом «внутреннего редактора». Какое-то искажение пути мы обязаны зафиксировать. Но лишь «какое-то».
Широко известны мысли на этот счет самого поэта, озвученные в воспоминаниях С. Ермолинского. «Природа обязательно находит защитную форму для любого живого ростка, — говорил Н. Заболоцкий. — Заметьте — живого! Характер наш формируется до пяти лет, в этом я убежден, а потом, смотря по жизни, вырабатывается и защитная форма. Было бы что защищать, и тогда сочетается приспособляемость и рядом — удивительно упорное самосохранение. Однако приспособляемость эта должна находиться в строгих рамках, иначе все полетит к чертям!»
Здесь все настолько ясно сказано, что и комментировать, собственно, нечего.
Но снова толкуют о разных Заболоцких. Чаще — о двух. Реже — о трех, о четырех. Одного Заболоцкого побивают другим, руководствуясь при этом собственными художественными (не без примеси все той же «социальности») пристрастиями. В годы нервных отношений с традицией, когда кажется, что традиция окостенела, автоматизовалась, что она навязывается извне, превозносится Заболоцкий, автор «Столбцов», а поздний Заболоцкий превращается в «судорожного имитатора» (разумеется, не от хорошей жизни). Во времена усталости от революционных «потрясений» (художественных и политических), от разнузданности и вседозволенности ситуация зеркально меняется, и на коне оказывается уже Заболоцкий-«классик».
Все это слишком произвольно и относительно.
А надо бы поместить себя в устойчивую систему координат и не противопоставлять «разных» Заболоцких, а говорить об этапах органической эволюции поэта.
Один из участников конференции заявил, что «Столбцы» он читать не может, потому что они злые. В этом заявлении есть определенная провокационность. Но это хорошая провокационность, ибо она выводит нас на обсуждение самых основ поэзии Заболоцкого, поднимает проблему детского сознания, «знания», взгляда, отношения к жизни. По сути, религиозного отношения, потому что только ребенку ведомо бессмертие. Дело в том, что во фразе о «злобе» (если мы на время вынесем за скобки очевидный антимещанский пафос «Столбцов», который все же не играет в них первой скрипки) происходит подмена понятий. Взрослый аморализм здесь спутан с детским вне-морализмом. Правильно разведя эти понятия, мы увидим, что «Столбцы» — это прежде всего попытка реконструкции детского зрения, его имитация. Именно сознательная имитация, это очень важно. Но уже в этой блестящей попытке есть явная тоска по детству, понимание того, что взрослые, ушедшие из него бродить в рационалистических лабиринтах, потеряли нечто необыкновенно важное. Быть может, самое важное для человека.
Не забудем, что художественный авангард всегда жил с оглядкой на детство. И обэриуты, в рядах которых прославился Заболоцкий, в том числе. Концептуальная идея обэриутов — «познание мира вне искажающих реальность логических категорий и механизмов сознания» — есть не что иное, как очевидная установка на «детскость». В манифесте ОБЭРИУ 1928 года находим следующую формулу: «Ребенок мудр, потому что он не знает условных, привнесенных в жизнь порядков, он первый сказал, что король гол, и тем самым открыл всем глаза». Как следствие, имеем стремление освободиться от какого бы то ни было художественного, культурного контекста, очистить предмет от «мусора истлевших культур» (а детское зрение, по определению, вне-культурно, вне-контекстуально), ломку жанровой системы (вместо отвергнутых классических жанров — перевертыши, небылицы, припевки, загадки и пр.), игровой стиль самой жизни, не отделенной от искусства.
Отсюда и апология «голого слова», «голых глаз» — одна из любимейших тем молодого Заболоцкого. Но это лишь поставленная задача. И вряд ли в ее решении мог бы стать серьезным помощником тот же Павел Филонов, с аналитической живописью которого и умственными рецептами увидеть душу предмета обычно связывают первые творческие дерзания Заболоцкого. Тут не может быть волевого возвращения взрослого человека, фатально обремененного контекстом, тут, да простится нам пафос, должна сбыться судьба русского писателя. Она как бы предначертана, предсказана — как канва, по которой шьют узор, — но ни о каких стопроцентных гарантиях ее исполнения говорить не приходится; любая невнимательность шьющего грозит катастрофой, несбывшимся.
Вышесказанное хорошо поясняет «изобразительная» аналогия. Поэзия Заболоцкого всегда провоцировала исследователей на подобного рода упражнения, и в ряде случаев они оказывались довольно плодотворными.
Иногда приходится читать о том, что стихи раннего Заболоцкого напоминают живопись Анри Руссо. Это не совсем так. Налицо — определенное неразличение «примитива» (а детское зрение, несомненно, суть образец высокого «примитива»). В действительности, «примитив» неоднороден — есть «примитив» и «примитив». Серьезный искусствовед никогда не спутает живопись Таможенника Руссо или Пиросмани с живописью, например, М. Ларионова или Н. Гончаровой — напрочь стилизационной. Анри Руссо был невыросшим ребенком, он видел мир детскими глазами. Этого мы не можем сказать о раннем Заболоцком. Ранний Заболоцкий — выросший ребенок, но ему тесна взрослость, и он хочет вернуться в детскую свободу от стереотипа, в детскую непреднамеренность. По-другому, существует примитив как вполне определенное органичное мирочувствие, и существует примитив как признание его онтологического первенства, как стремление к нему, как построение мировоззренческой иерархии.
И весь путь Заболоцкого, который принято разбивать на отрицающие друг друга этапы, умещается между этими двумя точками и представляет собой поступательное движение от сделанной детскости «Столбцов» — через кризис начала 30-х, через почти десятилетнее молчание (а молчащий писатель — это тоже писатель) — к прозрачной ясности 50-х. Вектор тут очевиден, как очевидна и логика этого движения.
Б. Пастернак придумал красивую метафору. Он обронил однажды: «Пришел Заболоцкий и развесил по стенам множество картин. И вот он ушел, а картины остались висеть». Но весь вопрос не в том, что Заболоцкий развесил картины (хотя метафора, разумеется, не без блеска), а в том, что это за картины. А это детские рисунки.
Заболоцкий, тоскуя о детском зрении с самых первых своих шагов в литературе, сумел сохранить и вспомнить в себе ребенка. Тут, к слову, нелишним будет сказать и о каких-то чисто внешних черточках, как бы и не имеющих особого отношения к литературе. О том, что, когда он снимал очки, всех поражали его совершенно детские глаза. О детском умении напустить на себя в нужный момент важность. О том, как в начале 30-х он был обуреваем фантастической идеей внезапно разбогатеть. О том, что он все время чем-нибудь увлекался — то химией, то живописью, то Циолковским, то натурфилософией, то архитектурой... Эти черты уточняют цельный образ поэта, который мы здесь пытаемся проявить.
Лидия Гинзбург верно заметила: «Для попытки взглянуть на мир «голыми глазами» годилась не только традиция Хлебникова, но и традиция удивительной державинской анакреонтики... Но и к чистому называнию предмета Заболоцкий прибегает иначе, чем поэты XVIII века. Заболоцкий уже не мог быть наивным: его инфантильность обдуманная, внутренне противостоящая другим поэтическим системам». И все-таки. По большому счету, мысль об обдуманной инфантильности более относится к раннему Заболоцкому, и лишь в самой малой степени — к Заболоцкому-«классику» (или даже «классицисту»).
Да, ничего абсолютного не бывает на свете. Есть определенная недорешенность, незавершенность и в позднем Заболоцком. Незавершенность — всегда трагедия. Именно этой незавершенностью, на наш взгляд, объясняется бросающийся в глаза дидактизм, разрушающий некоторые стихотворения поэта. Но только некоторые. Это попытка заговора собственной трагедии (без которой не бывает поэзии), волевого ее разрешения. Когда поздний Заболоцкий прибегает к повелительному наклонению, он «повелевает» не читателю — скорее, он «повелевает» себе. Доказывает себе. Но ребенку ничего доказывать не надо. И поэтому в большинстве поздних стихотворений этого нет.
В этом тексте мы не цитировали стихов Заболоцкого, уповая на их широкую известность. Но напоследок отрывки из двух опытов все-таки процитируем — в качестве иллюстрации ко всему вышесказанному. Они разделены четвертьвековым промежутком, но это не мешает им звучать в унисон.
Первое называется «Утренняя песня» и написано в 1932 году:
Была жена в своем весеннем платье,
И мальчик на руках ее сидел,
Весь розовый и голый, и смеялся,
И, полный безмятежной чистоты,
Смотрел на небо, где сияло солнце.
........................................................
И все кругом запело так, что козлик
И тот пошел скакать вокруг амбара.
И понял я в то золотое утро,
Что смерти нет и наша жизнь — бессмертна.
Мысль о бессмертии здесь рифмуется даже не с прозрачным весенним утром, не с утренней песнью мира, нет, она вызвана и определена образом голого смеющегося ребенка, полного безмятежной чистоты. Само сияющее солнцем утро и сходящиеся в кружок деревья, звери и птицы есть как бы лишь один из важнейших признаков «знающего» детства.
Второе стихотворение — «Детство». Оно помечено 1957-м годом — предпоследним в жизни поэта.
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.
А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отображен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес,
И в глубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.
И много минет лет. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придет. Но и жена и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос все будет вспоминать.
Снова речь идет об отображении всего мира — «до самого конца». Но отображается он не в усталом взоре измученного рационализмом и релятивизмом взрослого человека, а в «чистом взоре» ребенка. Как и входит он только в душу ребенка, в ее глубь. Взрослому же остается лишь трепетно «припоминать» «блаженный смысл короткой той минуты» и быть достойным этого смысла. Да, минуты короткой, потому что момент истины и не может быть продленным, он — очарование и прозрение, он — именно момент, вспышка. Главное — не забыть, не забывать его. И вся поэзия Заболоцкого (вся!) есть это «припоминание».