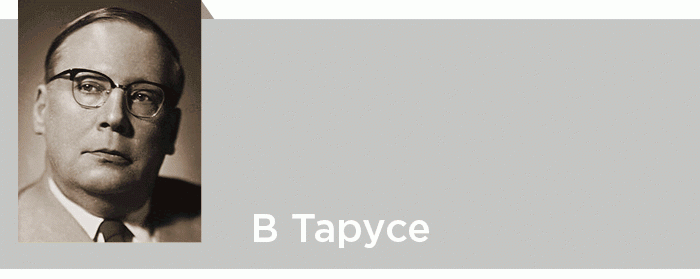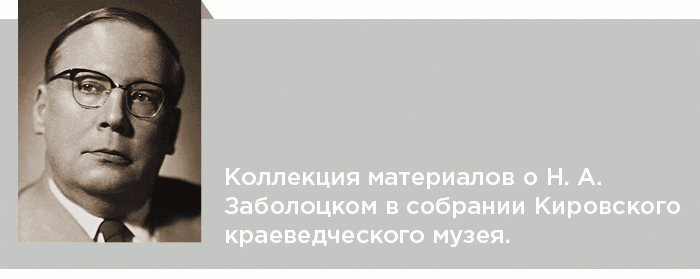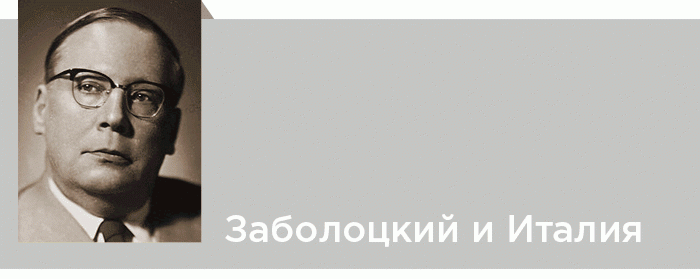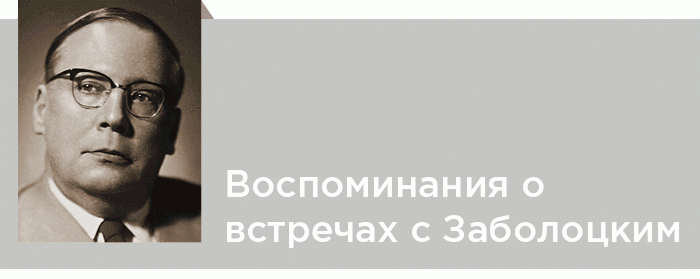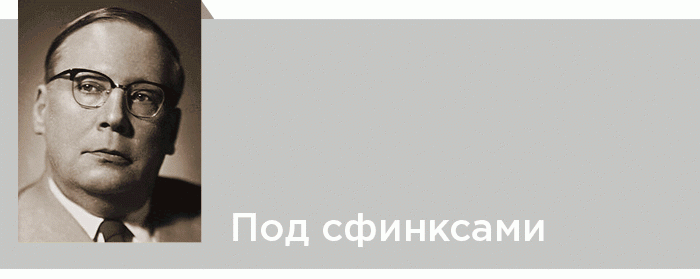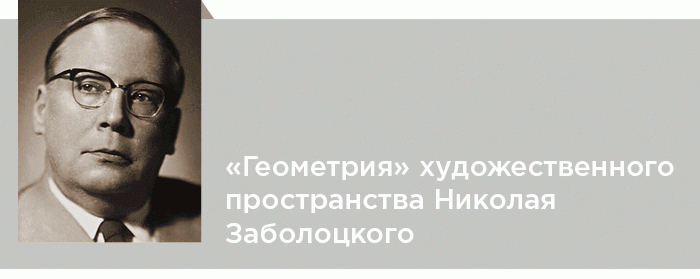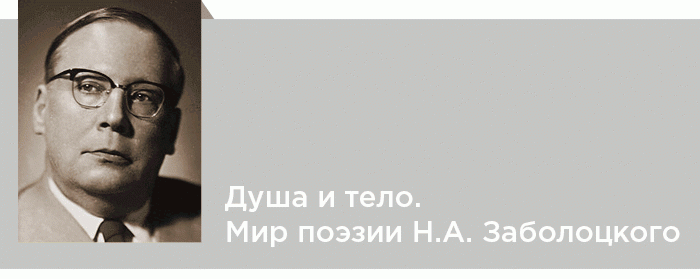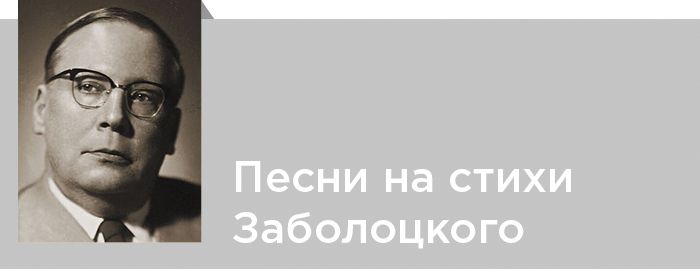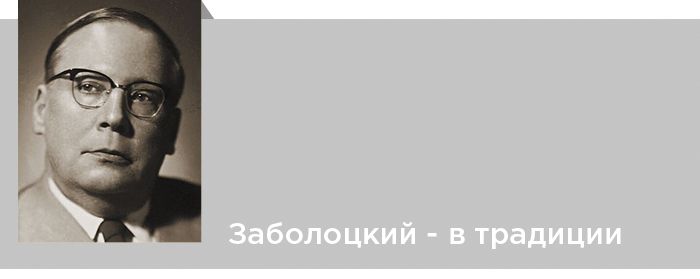«...Только старые и дети»

Лариса Баранова-Гонченко
(Москва)
«...ТОЛЬКО СТАРЫЕ ЛЮДИ И ДЕТИ»
(Несколько любимых мыслей по поводу любимого поэта)
...И вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Какая значительная и, в сущности, небезобидная строфа!
Хрестоматийное. Наполненное отрицательной энергией. Злое. Раздраженное.
Ох уж эти Ивановы! И Петровы заодно. Надо же — в своих штанах и башмаках! Как это действительно раздражает! Вот и у Петровой тоже сидит некто Киприн — «гитары друг» — и как сидит, обратите внимание: «сидел на стуле он в штанах».
Духовный максимализм Заболоцкого понятен: раздражение к сакральным Ивановым — уже само по себе сакрально. Окружающий человеческий мир — чужой, непривлекательный. Все эти мещанские хрустальные горки, «словно Арарат», «в железных латах самовар», «мясистых баб большая стая», «и над становьями народа труда и творчества закон». А весь этот народ с его самоварами, штанами и башмаками называется Ивановы и Петровы... ну, в лучшем случае, Сидоровы или Смирновы.
Нужно сказать, что в конце XX века это раздражение к Ивановым снова станет актуальным. Только у современного поэта звучать будет откровенно сатирически. Если перефразировать несколько Александра Еременко, то примерно так:
Когда одиноко и прямо
Они на кушетках сидят
И словно в помойную яму
В цветной телевизор глядят.
А в «Рыбной лавке» у Заболоцкого раздражение принимает погромный мажорный характер:
О самодержец пышный брюха,
Кишечный бог и властелин,
Руководитель тайный духа
И помыслов архитриклин!
Хочу тебя! Отдайся мне!
Дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет, весь в огне <...>
Желудок, в страсти напряжен...
Автор, стремящийся всем естеством к духовному посту и постничанью, ярко живописует и демонстрирует сакраментальные грехи: лемаргию и гастримаргию, то есть гортанобесие и чревобесие вместе взятые.
Но... Но неожиданно: «Весы читают «Отче наш». В очерке «Ранние годы» Николай Заболоцкий вспомнит, как начинался учебный день в реальном училище: «... день начинался в актовом зале общей молитвой. Сначала какой-нибудь младенец-новичок читал «Царю-небесный», потом пели, потом отец Михаил, наш законоучитель, вечно страдающий флюсом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия и все это заканчивалось пением «Боже, царя храни».
Далее о священнике у Заболоцкого что-то среднеее между снисходительным и уничижительным. В другом месте священник бьет по рукам учеников. Вот, пожалуй, и все. Но как неподражаемо сказал еще один современный поэт: «... Я боюсь его... Мне страшно — этот рыжий русский поп. Это он людей хоронит. Это он такой злодей. Это он зерно заронит веры будущей моей».
Речь, разумеется, не идет о намерении доказать буквальное расположение Заболоцкого к богоискательству. Но два ключевых выражения сближают поэта с этой проблемой: первое — «сочетание смыслов» и второе — «мир очаровательных тайн». Кстати, временами недоумеваешь, почему очаровательных, а не очарованных?
Так или иначе opus magnum (главным произведением) Заболоцкого видится сегодня «Исцеление Ильи Муромца», словно бы предрешающее саму канонизацию героя, которая в конце концов и состоялась. Здесь встреча с каликами-перехожими и желание «послужить Руси верой-правдою, постоять в бою за крестьянский люд» уточняет отношения Заболоцкого и с Верой и с Ивановыми.
Долгие годы литературоведческие ключи, открывающие Заболоцкого, были достаточно однообразны. Но подобно тому, как Куняев-старший впервые полно и ярко заявил литературное родство Заболоцкого с Гоголем (статья «Огонь, мерцающий в сосуде»), так впервые внятно и наблюдательно тема религиозной образности в лирике позднего Заболоцкого прозвучала во вступительной статье Елены Степанян к полному собранию стихотворений и поэм, положив начало нового пути в исследованиях. Сегодня уже можно освободиться от штампов: Заболоцкий и Брейгель. Гораздо интересней, на мой взгляд, говорить о параллелях: Заболоцкий и художник Чесняков, Заболоцкий и прозаик Платонов.
В 27—30-е годы мир для Заболоцкого — внука николаевского солдата и сына своего отца, которому была свойственна «старозаветная патриархальность», — мир ломался, как и для всех. Ломался страшно. Можно сказать, что он употребил все доступные ему да и недоступные средства, чтобы познать и определить этот мир, испытывая весь арсенал близкого и чуждого ему словесного инструментария. Скажем так, сейчас нам уже почти ясны причины неприятия и раздражения. Тогда же время и средства в том числе только отчасти давали такую возможность:
Всегда один я сохраню мою простую жизнь...
...И неужели это так и нужно,
Что б в отдаленьи жил писатель
И вечно неудобный, как ребенок?
Так появляется (1928 год) «ребенок» и «простая, совсем простая наша жизнь». Ибо «Проповедь о детях» Иисуса Христа в «Новом Завете» начинается со слов: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное».
А в 1948 году пишется «Заключение»:
Не странно ли, что в мировом просторе,
В живой семье созвездий и планет
Любовь уравновешивает горе
И тьму всегда превозмогает свет.
Ибо сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»
Но вернемся к Ивановым! Ивановы чужие Заболоцкому в 20-е. Как будто чужие совсем. Ходят. Едят. Пьют. Любят. Отвратительно!
В записных книжках 29-30-го годов у Андрея Платонова есть драгоценная запись. Платонов помечает: так сказала беднячка. Ну, наверное, какая-нибудь Иванова — догадываемся мы:
— Мы без церкви стали, как чертюки, дайти (так у Платонова) нам церковь и покой.
В комментариях помечено: шло массовое закрытие церквей и монастырей, вынесение мощей из храмов в музеи.
Так вот они какие — Ивановы. Вот в чем отчасти отгадка: штаны и башмаки есть, а души нет — «как чертюки».
Уже в 37-м у Заболоцкого:
Во многом знании — немалая печаль —
Так говорил Творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир и человека жаль?
Может быть, потому, что уже к 37-му на лице у Ивановых появляется печать осмысленного страдания?... А любить в полную грудь в человеческом мире он умел только страдающих, некрасивых, сирых, убогих (в детстве, кажется, больше всего он любил и сочувствовал марийским детям — бедным и социально униженным)... слепых — «этот проклятый Богом старик», старых, потому что уже немощны, детей, потому что еще слабы... Да просто всех, кто ближе к Богу. А еще всех видимых и невидимых же.
Ведь в стихотворении 1957 года «Это было давно»: «Заприметил его и окликнул невидимый кто-то».
И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли
Молчаливо, печально, сутула
И творя поминанье
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула...
Здесь словно калики-перехожие встретили его, как Илью Муромца, и исцелился он.
Так вот все-таки «заприметил его и окликнул невидимый кто-то». Это скорее по смыслу — «Видение отроку Варфоломею».
После этого явления и откровения, после этой встречи с невидимым кем-то с Заболоцким происходит самое главное, то, к чему он так мучительно стремился в образе: «простая, совсем простая жизнь. То, что он грозился предпринять, понимая греховность даже своего высокого предназначения еще в 52-м:
Но когда серебристые пряди
Над твоим засверкают виском,
Разорву пополам я тетради
И с последним расстанусь стихом.
И вот теперь, после встречи с невидимым, после того, как «громом ударило в душу его», после того как, «смятенный и жалкий в сиянье страдальческих глаз принял он подаянье, поел поминального хлеба» — после этого еще не совсем причастия, но близкого к причастию со- бытия, он бросает перо в кабинете. Ничего точнее, энергичнее нельзя придумать — не роняет перо, не откладывает его в сторону, а бросает и «пытается сердцем понять то, что могут понять только старые люди и дети».
Ибо для того, чтобы стать большим национальным поэтом недостаточно только исповеди, но непременно — через причастие.
Таким причастием для народа по фамилии Ивановы стала Великая Отечественная война. Когда в 41-м снова вышли Ивановы «в своих штанах и башмаках». Только штаны были цвета хаки, сапоги кирзовые, и одна винтовка на четверых.
Это они — Ивановы значатся через одного на всех посмертных обелисках в России и Европе. Над всеми крестами и звездами.
И не случайно один из Ивановых, нося имя штурмбанфюррера Штирлица, покорил наше сердце (невзирая на, мягко говоря, наивный сюжет) самым важным для себя как героя и для нас признанием — почти цитатой из Заболоцкого: «Потому что больше всего на земле, — сказал Штирлиц, — я люблю стариков и детей».
И если Штирлиц и не сослался на большого национального поэта, то, как мы догадываемся, только из соображений конспирации.