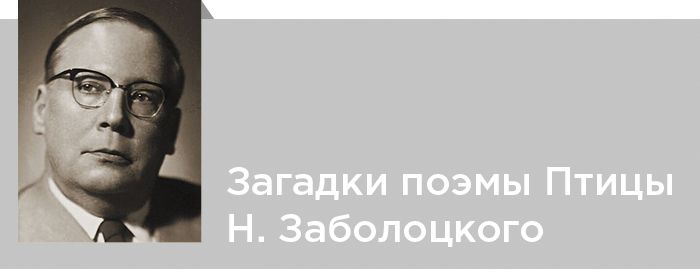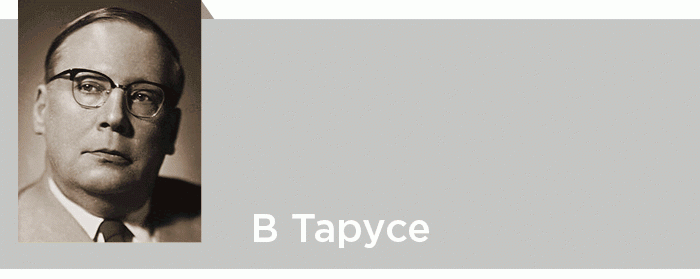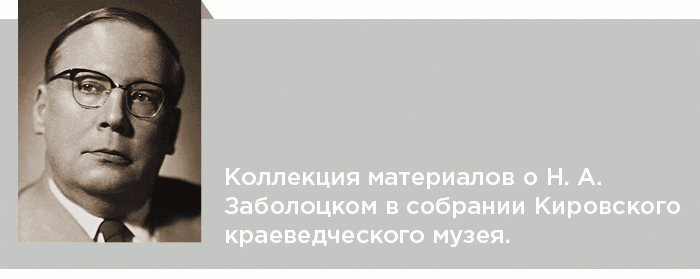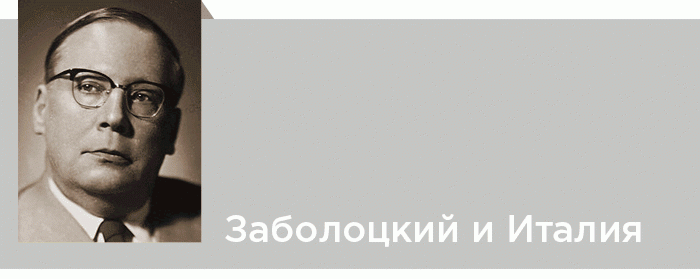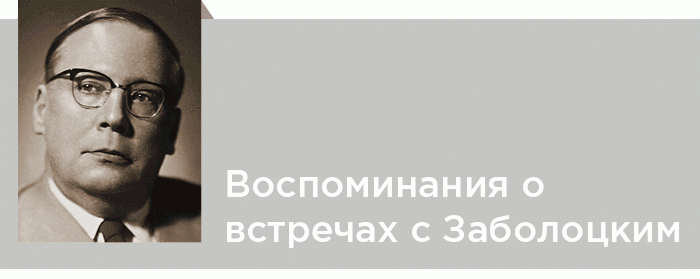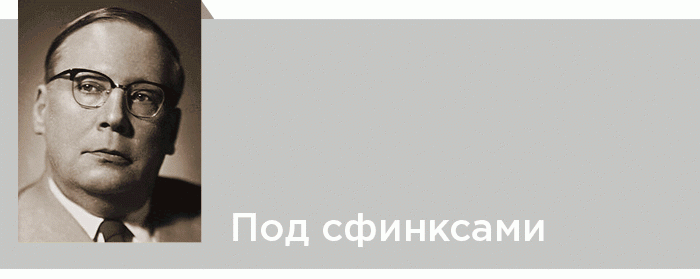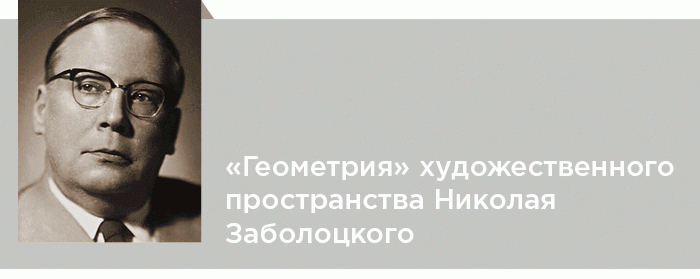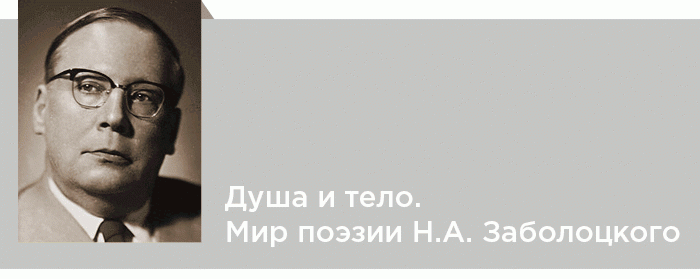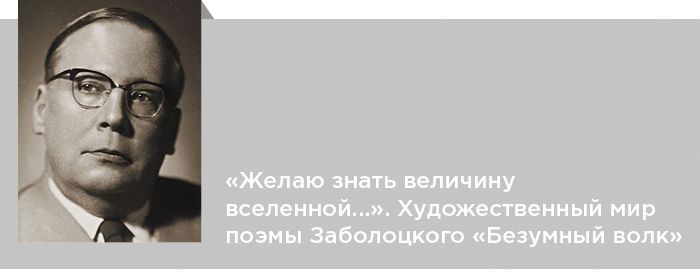Николай Заболоцкий и образный мир русского символизма

Михаил Стояновский
(Москва)
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ И ОБРАЗНЫЙ МИР РУССКОГО СИМВОЛИЗМА
В определении традиций, творческих (поэтики и индивидуальные стили) и философских, питающих творчество Николая Алексеевича Заболоцкого, нет недостатка. Здесь значатся В. Шекспир, Г.Р. Державин, М.А. Дмитриев, А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, И.В. Гете, А.К. Толстой, В. Хлебников, Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, Н. Клюев, М. Кузьмин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Э. Золя. Философская (натурфилософская) мысль Заболоцкого разделяет взгляды Г. Сковороды, Н. Федорова, Ф. Энгельса, К. Циолковского, В. Вернадского. Отмечено даже влияние Ф. Ницше. Известно, что Заболоцкий учитывает изобразительный опыт Филонова и Малевича. Но в освещении поэтических текстов Заболоцкого, этого «последнего русского модерниста», «завершителя традиции Серебряного века»1, почти не звучат имена русских символистов, во многом и определивших эти самые модернизм и Серебряный век. Более того, господствует точка зрения, что Заболоцкий сознательно отсек эту традицию, стремился пародией и словесным гротеском «накрепко забить вход в символизм»2 (Л. Гинзбург), «изживал «оккультный комплекс» Серебряного века»3 (И. Лощилов), боролся с эстетизмом символистов: их «системой красивых слов, носителей уже не существующих ценностей»4 (Л. Гинзбург).
Такой подход удивителен, если помнить об одной из первых, но демонстрирующей большую искушенность в выбранном вопросе теоретической работе Н. Заболоцкого «О сущности символизма» (1921- 1922 гг.), появившейся в студенческом журнале «Мысль». В статье противопоставляются два подхода к жизненным явлениям, символиста и реалиста. Первый подход, символистский, связанный с созерцанием как активным общением с окружающим миром, ставит вопросы о сущности всякого явления — это и есть, по мнению автора, подход Поэта. Теория же «наивного реализма», категорично утверждает Заболоцкий, — это «теория ленивого обывателя, не склонного к критическому анализу познания, — не может быть принята поэтом...». И далее, итожа: «В поэзии реалист является простым наблюдателем, символист — всегда мыслителем».
Заболоцкий останавливается на теории познания, питающей символистское творчество. Это познание субъективно, оно — «состояние известного сознания», переживание, не приемлющее вещь в своем отдельном бытии, а обращающееся к содержанию вещи. Именно такой подход дает бытие как целое, «сумму объектов». Реалист же видит «отдельные фигуры и переживает их в видимой очевидной простоте».
Символист стремится «к таинственному миру объектов», отрицая ценность непосредственно воспринимаемого. Он «никогда не теряет таинственной нити Ариадны, связывающей его с мировым лабиринтом Хаоса» (Заболоцкий здесь явно сбивается на мифопоэтический язык символизма, «совпадает» с объектом своего исследования). Этот пассаж восходит к пониманию Хаоса как первоначала, что разделялось многими символистами, вкусившими к тому же дионисизма Ф. Ницше. За словом символиста, пишет Заболоцкий, «ощущается говор стихий, отрывки из хоров, Святая Святых мыслимой нами Вечности». Символистская поэзия «есть претворение субъективно-познавательного в символ истины», «отыскание вечного во всем невечном, случайном и преходящем».
Заболоцкий отмечает в символизме — примером служит творчество Э. По — поиск в ужасе «язв земли» «красы Эльдорадо», вообще выделяя среди тем поэзию ужаса, введение уродства в область красоты, тему утонченности как гибели Души, скепсис в отношении к принципам науки...
Симпатии и глубокое знание символистской литературы, русской и зарубежной, понимание того, что от опыта символистов в поэзии как познании никуда не уйти, в этой работе Н. Заболоцкого налицо. Следует выделить то высокое значение, которое придает русскому символизму молодой Заболоцкий: он считает, что именно К. Бальмонт, В. Брюсов и А. Белый «развили теорию символизма до той чистоты и законченности, которая была так заметна в русской поэзии еще не так давно».
Замечательно и то понимание литературной преемственности, которая дается Заболоцким в конце статьи «О сущности символизма». «Своеобразная литературная преемственность», считает молодой теоретик, заключается в том, что «каждое последующее литературное движение обрабатывает предшествующие, вводя на первый план оригинальные положения и литературные формы»5.
Есть свидетельство (например, товарища Заболоцкого, Михаила Касьянова), что Заболоцкий любил поэзию А. Блока, в 1919 году Блок и Белый были в сфере интересов его дружеского кружка, хотя в конце 20-х годов, по замечанию И.М. Синельникова, Заболоцкий — знаково — не обсуждал и даже не упоминал в разговорах Блока и Есенина, очень популярных в то время.
Но если персоналии символистов Заболоцким показательно опускались — как творцов индивидуальных мифов, субъективных миров, носивших «резкий отпечаток индивидуальности автора» и не возможных, не должных повторяться (эти миры, их откровения, «не были гласом природы, но видением индивида»)6, — то сам символизм, его общий Миф, его идеи, образы и приемы, смеем утверждать, всегда востребовались поэтом. «Список» интересов Заболоцкого, составленный в начале 30-х гг., в период встреч на квартире Леонида Савельевича Липавского, включал — уже на начальных позициях: «...Символика. Изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий по перечисленным вещам. Стихи...» И далее: «Строение картин природы... Доброта — Красота — Истина... Смерть...»7.
Исследователи признают у Заболоцкого оригинальное целостное мифопоэтическое мироощущение, ориентацию на тайну мира, правда, тут же торопливо отсылая к пантеистической метафизике, к именам Н. Федорова, К. Циолковского, В. Вернадского, художественному миру В. Хлебникова. Это, конечно, не следует отрицать, но сам данный интерес представляется нам вторичным на фоне философии всеединства и поддерживающей ее практики русских символистов (особенно — соловьевцев). Именно соловьевская «сизигия» требовала духовного преображения человека, столь необходимого своим разумом для общей эволюции мира: живой и неживой природы, Души мира, частью которой является душа человеческая, — при этом отмечая гибельную индивидуальную замкнутость современных людей. Именно в природе обнаруживалась В. Соловьевым онтологическая и эстетическая Красота, говорящая о единстве мира и Абсолюта, о присутствии надчеловеческого Смысла в жизни (см., например, работу В. Соловьева «Красота в природе»).
Может быть, именно скепсис по отношению к возможности положительного преображения современного человека, характерный для послереволюционной эпохи, поразивший, например, А. Блока, стал причиной переноса в теории всеединства акцента с человека на жаждущую этого преображения природу, обрекаемую пассивностью людей на ту же деградацию.
Заболоцкий подхватывает в своем творчестве символистские приемы создания мифопоэтического пространства, где только целое: цикл, книга — проясняет смысл высказываемого. «Надо писать не отдельные стихотворения, а целую книгу, — считает Заболоцкий. — Тогда все становится на свои места». Именно так, в повторяемости образа, варьировании, устойчивом приращении его содержания, сложном взаимодействии с другими образами, создается та идейно-образная системность, тот целостный миф, контекст, которые неизмеримо углубляют вроде бы частное явление.
В поэзии Заболоцкого подхватываются и склоняются не только устойчивый Миф символистов, но и отдельные их образы и концепты, части образной системы. Здесь следует отметить две тенденции: перенос «первичного» содержания и оригинальная интерпретация.
Поэзия Заболоцкого усваивает бинарные комплексы хаос — космос, дух — материя, цивилизация — природа, небо — земля (верх — низ), день — ночь, мужское — женское; причем, как и должно быть в системной символике, присутствующее указывает (означает) недостающее до целого (см. Аристотеля, В. Бибихина)8. Например, в «Столбцах» 1929 года значимо доминирует образ ночи. Он почти сквозной, обнаруживается в том или ином варианте в 15-ти стихотворениях. С одной стороны, ночь — время интуиции, прозрения истины, когда рационально-гармонизирующее (аполлоновское) сознание спит. Эта истина поворачивается то явлением изначальной бездны, хаосом, то причастностью хаоса космосу. С другой стороны, ночь связана с фантасмагорией, сном, бредом. Заболоцкий в своих текстах продуцирует эту двойственность: в ночи «блеск и тоска Невского»; туман, толпа, бензин, приземленного электрического бедлама (цивилизации) — и порыв в иное: «над башней рвался шар крылатый» (Красная Бавария). В ночи встречаются не то сирены, не то девки, «но нет, сирены — шли наверх, все в синеватом серебре, холодноватые», а далее итоговое: «но это был один обман», «И всюду сумасшедший бред» (Белая ночь).
Заболоцкий все же более подчеркивает обманчивость ночи. Духовный космос здесь призрачен, он уступает место духовному хаосу, хотя, в свою очередь, духовный хаос порождает собственный, бытовой космос («система кошек, система ведер, окон, дров», «царства узкие дворов»), а духовный космос требует от мира бунтующей первозданной стихийности.
День у Заболоцкого вместо явления аполлоновской духовной гармонии — монады высвечивает монаду самодовольных, торжествующих деградирующих форм материи («Лето»: «Пунцовое солнце висело в долину, / и весело было не мне одному — / людские тела наливались как груши, / и зрели головки, качаясь, на них. / Обмякли деревья. Они ожирели / как сальные свечи...»).
Отдельно надо рассматривать вечернюю символику, традиционно жертвенную, символику умирания, связанного с рождением (см. Пекарня, Бродячие музыканты).
Значимы для «Столбцов» образы туманов, облаков, поддерживающие символистскую традицию «завес», но поворачивающие их содержание от охраны горней тайны к замкнутости, приземленности, зыбкости дольнего бытия.
Значимы выси, горы — символы духовного преображения, восхождения у символистов. У Заболоцкого они противостоят цивилизации: «провалу парадного Ленинграда», Туле, «делающей фокстрот» (модная прическа), Тамбову, «примеряющему сапожки» (Черкешенка).
Есть у Заболоцкого и образ мировой влаги (море, река) — символа стихии, природной и душевной, спящей и бунтующей (Подводный город, Вопросы к морю и т.д.).
Есть и сквозной для поэзии Заболоцкого образ «древа» (живой, но немой природной души, мирового Древа, вечно умирающего в единичности и живого в целом («Дерево Сфера царствует здесь над другими. / Дерево Сфера — это значок беспредельного дерева.» — «Деревья», см. также «Искусство» и др.).
Есть, конечно, он, чаще всего, созерцающий лирический герой, тона, в символистской традиции опосредующая его восхождение к истине, она — явление Души мира. У Заболоцкого она подвергается глубокой метаморфозе: это сбивающие с пути, губящие сирены, это — торжествующая плоть, — хотя здесь то и заметнее неоднозначность образа, явно кивающего на символистского предшественника, образа, в своей «сниженности» символически же указывающего на «другое», противоположное прямому смыслу. Подробнее об этом будет сказано ниже.
Что касается конкретных текстовых соответствий, то они тоже бросаются в глаза, даже в эпатирующих экспериментах первой книги Заболоцкого, «Столбцах», где для поэта, пожалуй, прежде всего было важно обозначить «самость».
Коллизии «Красной Баварии», открывающей «Столбцы», прямо напоминают и продолжают «Незнакомку» А. Блока: «По вечерам над ресторанами / Горячий воздух дик и глух... » вполне узнаваемы в строчках «В глуши бутылочного рая, / где пальмы высохли давно, — / под электричеством играя, / в бокале плавало окно...». Как и у Блока, в вечерний час, происходит встреча с ней: и если у поэта-символиста она для лирического героя — при всей сомнительности поведения «реальной» героини — явление некой тайны («глухие тайны мне поручены»), «берега очарованного» и «очарованной дали», того, что вне этого мира, что призрачно, но вместе с тем желанно, то у Н. Заболоцкого «сирена бледная» вроде бы изначально развенчана, она — порочный соблазн, она — часть «бедлама», «бутылочного рая», «глуши времен», этого всеобщего духовного распада, она, кажется, о бедламе и поет, его же — апофеоз разгула — и вызывает, его «наградой» и является («К нему сирена подходила, / и вот, колено оседлав, / бокалов бешенный конклав / зажегся как паникадило»). Но вместе с тем, образ ее у Заболоцкого не лишен, как это ни странно, откровенного характера, причем речь здесь идет не о пародийной стороне, которая, конечно, есть в этом стихотворении. Хочется отметить, что «внешнее» действо «сирены», потчующей настойкой и исполняющей некий жестокий романс о милом, «как милого она кормила...», не отменяет истинности тоски о любви, причем не только и, может быть, не столько о любви ее и его, а о любви-тайне, должной преобразить этот мир, любви всечеловеческой, «райской», христианской: на это указывает не только «вывернутая», но вместе с тем достаточно ясно маркированная реакция слушателей: «один — язык себе откусит, / другой кричит: Я — Иисусик, / молитесь мне — я на кресте, / под мышкой гвозди и везде...», — но и детали, «разбросанные» по тексту, символы не только «низкой» реальности, но и ее противоположности: повторяющееся упоминание «бутылочного рая», «сирены», простершие к небесам свои «эмалированные руки», «бокалов бешенный конклав», зажегшийся «как паникадило» (курсив наш. — М.С.)...
Вполне соотносимы с блоковской «Незнакомкой», ее скептическими оппозициями и скрытыми единствами истребляющей обыденность и желаемого таинственного иного, и последние строки «Красной Баварии», отмечающие значимую для любого символиста вертикаль, ось. «Вдали, над пылью переулочной, / Над скукой загородных дач, / Чуть золотится крендель булочной, / И раздается детский плач...», — а также: «Над озером скрипят уключины, / И раздается женский визг, / А в небе, ко всему приученный, / Бессмысленно кривится диск...» — у А. Блока перекликаются с образами Н. Заболоцкого: «а за окном — в глуши времен / блистал на мачте лампион...», и далее: «Там Невский в блеске и тоске, / в ночи переменивший кожу, / гудками сонными воспет, / над баром вывеску тревожил; / и под свистками Германдады, / через туман, толпу, бензин, / над башней рвался шар крылатый / и имя «Зингер» возносил».
Такие совпадения — идейные, сюжетные, образные (вплоть до деталей: от вечернего времени и туманов до «откровений» бокалов) — у Н. Заболоцкого, весьма чуткого даже в мелочах в цитации, не могут быть случайны. Вообще такие «рассеянные, перепутанные и нарочно незаметные мелочи», по замечанию М. Гаспарова, определяют специфику лирической композиции и играют едва ли не ведущую роль в реконструкции ситуации и смысла высказывания в «темной» поэзии XX века9.
Интересно, что заключительное стихотворение «Столбцов» — «Народный дом» — тоже отсылает к А. Блоку, к известному «Пушкинскому Дому», подвергая инверсии не столько образность последнего, сколько выстраивая параллель, символическую оппозицию тому духовному началу, которое взыскивается Блоком у современников и с надеждой на его торжество прозревается в грядущем (у Блока: «Имя Пушкинского Дома / В Академии наук! / Звук понятный и знакомый, / Не пустой для сердца звук!» — у Заболоцкого: «Народный Дом — курятник радости, / амбар волшебного житья, / корыто праздничное страсти, / густое пекло бытия!»). «Высокие» блоковские строки: «Что за пламенные дали / Открывала нам река! / Но не эти дни мы звали, / А грядущие века. / Пропуская дней гнетущих / Кратковременный обман, / Прозревали дней грядущих / Сине-розовый туман...» — продолжаются, как ироничным итогом, Заболоцким: «Весь мир обоями оклеен / — пещерка малая любви, / окошки в образе расселин / и занавески в виде роз...» и т.д.
Взаимодействие с символистской поэтикой, обнаруживается у Н. Заболоцкого и после «Столбцов». Показательно совпадение все с тем же А. Блоком в характерной для символистов констатации ограниченности человеческого разума. В «Поэме дождя» (1931 г.) используется образный код, очень близкий «декадентскому» по своему настроению блоковскому «Миры летят. Года летят...» (1912) и запечатлевающий Хаос, несущийся в Круговерти дурной бесконечности мир и бессильного человека. У Блока, правда, мир сам несет начала Хаоса, а человек безуспешно пытается объяснить его; тогда как у Заболоцкого ущербны, ограничены категории человеческой мысли, членящие и однообразящие сложное целое. Следует сравнить хотя бы такие строки:
И уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон, —
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен...
А. Блок
Причина — следствию конец,
А следствие — отец причины,
Попробуй тут найти конец —
Не разберешься до кончины.
Системой выдуманных знаков
Весь мир вертится, одинаков,
Не мир, а бешеный самум,
Изображенье наших дум...
Н. Заболоцкий
Конечно, у Заболоцкого отслеживаются параллели не только к мифопоэтике Блока, но заметно много общего и с другими символистами, особенно с теми, кого принято определять как «соловьевцев». Например, образ Природы-Храма стихотворения «В этой роще березовой» (1946 г.), где колеблющийся «розовый / Немигающий утренний свет» дематериализует пейзаж и творит духовное пространство откровения, вполне близок Вяч. Иванову, его «светоносной» символике, его поэтическому мифу о земном Рае, о торжестве скрытого единства сущего. Как пример такого сакрального пространства («духовного пейзажа») можно привести ивановский сонет «Предчувствие» из книги «Cor ardens» с удивительными строками «ключа», отмечающими преходящесть «разлуки»-смерти и тайну воскресения, вечной жизни: «...Луна сребрит парчу дубрав восточных; / И, просквозив фиалковую муть, / Мерцаньями межуют верный путь / Ряды берез, причастниц непорочных. / И пыль вдали, разлукой грудь щемя, / На тусклые не веет озимя».
Такие примеры можно множить и множить, однако, это будет служить лишь дальнейшим подтверждением мысли, что в определении традиций, питающих творчество Н. Заболоцкого, символизм занимает свое, и достаточно большое, место.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Лощилов И. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki, 1997.
2 Гинзбург Л. Воспоминания о Заболоцком. М., 1977. С. 123.
3 Лощилов И. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki, 1997.
4 Гинзбург Л. Воспоминания о Заболоцком. М., 1977. С. 123.
5 Заболоцкий Н.А. «Огонь, мерцающий в сосуде...» // Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминание современников. Анализ творчества / Сост., Жизнеописание, прим. Н.Н.Заболоцкого. М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 52-56.
6 Там же. С. 55.
7 Тамже. С. 139.
8 Аристотель. Этика Эвдемова. VII, 5, 1239 в 31. Бибихин В. Язык философии. М.: Прогресс, 1993. С. 179-209.
9 Гаспаров М. Записи и выписки. С. 123.