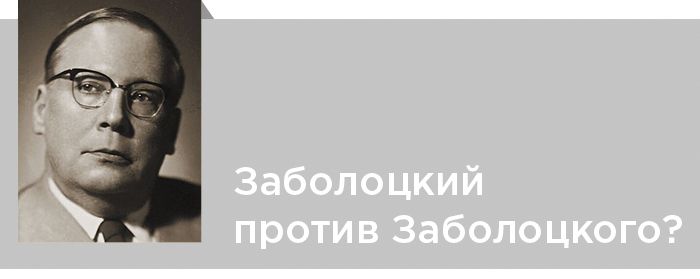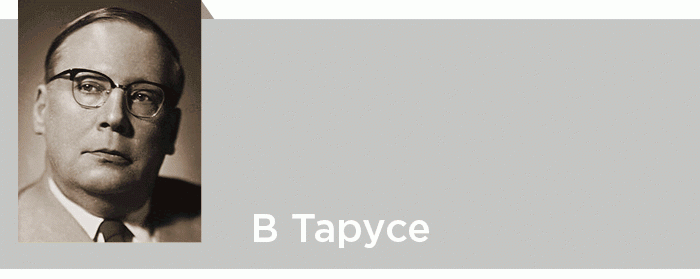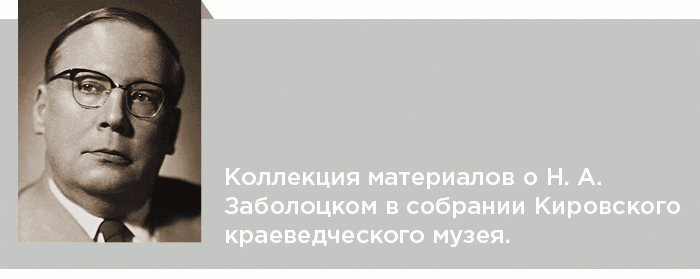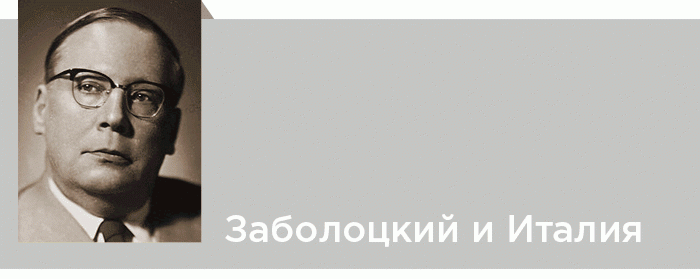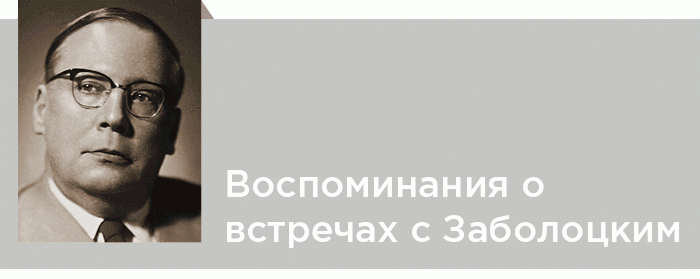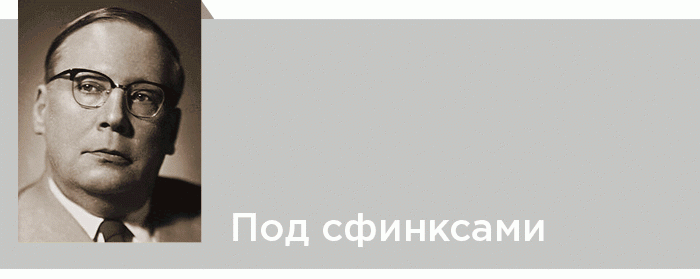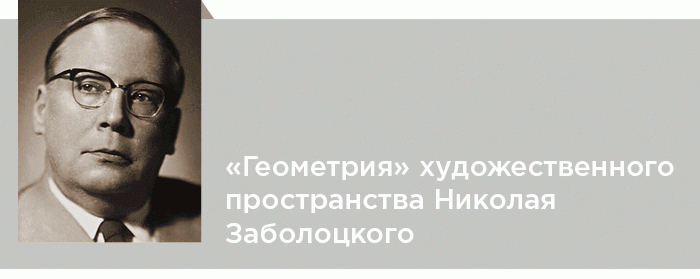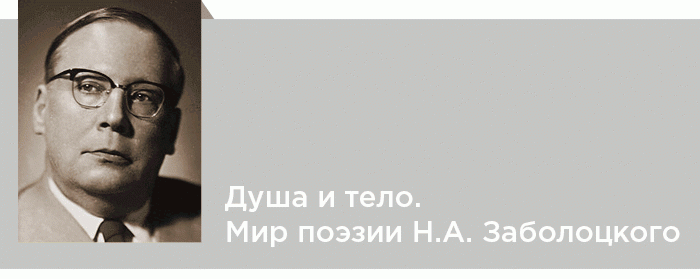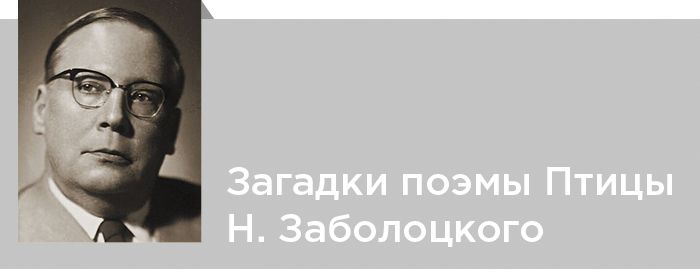«И любовь, и песни до конца»

Наталья Корниенко
(Москва)
«И ЛЮБОВЬ, И ПЕСНИ ДО КОНЦА»
Лирика Заболоцкого и песенные контексты советской литературы
О музыке и слове в эстетике Заболоцкого сказано и написано немало. Стало привычным в подтверждение и обоснование постсимволистской концепции «Столбцов» и «Лодейникова» обращаться к высказываниям самого поэта (внетекстовый материал) и приводить воспоминание Николая Корнеевича Чуковского о том, что Заболоцкий не любил Фета:
«Он [Заболоцкий] отказывается воспринимать природу как источник чувственного наслаждения и эстетического созерцания, она для него — предмет анализа. Здесь будет уместно вспомнить об отношении Заболоцкого к творчеству А. Фета, стихи которого и являются лирическим описанием природы, а его лирический герой, говоря словами самого Фета, выступает как «природы праздный соглядатай». Н.К. Чуковский свидетельствует: «Николай Алексеевич терпеть не мог Фета, как и многих других поэтов, с детства меня восхищавших. От этого между нами возникали постоянные споры, доходившие до настоящей ярости. Я отстаивал Фета с бешенством. Я читал ему фетовское описание бабочки:
Ты прав: одним воздушным очертаньем
Я так мила,
Здесь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла...
Выслушав, он спросил:
— Вы рассматривали когда-нибудь бабочку внимательно, вблизи? Неужели не заметили, какая у нее страшная морда и какое отвратительное тело?»
В противоположность фетовскому лирический герой Заболоцкого становится прежде всего познающим субъектом, то есть воплощением самой родовой способности человека «познающего»1.
Не вступая в область литературоведческой полемики, смеем думать, что все было не так просто с поэтическим феноменом Фета и столь однозначно в отношении Заболоцкого к одному из столпов русской чистой лирики. Заболоцкий не был склонен к исповедям на литературные темы. К тому же в любви к Фету не принято было признаваться — ни в 1920-е, ни в 1930-е, ни в 1940-е, ни в 1950-е... Прямые отсылки к Фету в лирике Заболоцкого 1950-х гг. также являются, скорее, исключением (в общем поэтическом контексте десятилетия) и вряд ли сводимы лишь к эволюции поэта.
Мы хотим хотя бы контурно заострить внимание даже не на символистско-постсимволистской концепции слова-музыки, а в прямом смысле на песне как одном из базовых концептов поэтического мира Заболоцкого 1920—1940-х гг., а также на культурных контекстах песенных сюжетов и мотивов его лирики.
Ожидание «песни» — одна из постоянных тем русской литературы первых трех десятилетий XX в. Песня — тот лирический жанр, который сохранил в самом понятии память о рождении поэтического слова и лирического стихотворения из недр народной песни. Этой родовой памятью отмечены заглавия многих поэтических книг в русской и европейской поэзии, когда «песня» указует не столько даже на подражание народной песне, сколько на ее свободные и идеальные, не достижимые для авторского персонального «Я», родственные связи с жизнью. В разных национальных культурах, отмечал А. Веселовский («Историческая поэтика»), «не общавшиеся друг с другом» народы, в эпических и лирических песнях имеют «одни и те же жизненные положения», отлившиеся в повторяющихся поэтических образах, сюжетах и формулах — «формуле желания», «формуле пожелания», «формуле невозможности»2 (здесь и далее курсив наш. — Н. К.). Начиная с эпохи сентиментализма (пик — романтизм) с песней, символизирующей подлинную эстетическую культуру народа, в истории литературы неизменно связывался протест против условности и омертвения литературных форм. В русской поэзии 1910-х гг. своеобразным фундаментальным исследованием «мировых кудес» русской песни является «Песнослов» (1919) Н. Клюева. Именно блоковская героиня — «зрячая душа» и «влюбленная душа» (статья «Поэзия заговоров и заклинаний», 1908) — стоит в центре поэтического мира Ахматовой 1910- 1920-х гг. Это душа, ведающая о сложной простоте рождения песни и законах ее пребывания в жизни и культуре: «В этой жизни я немного видела, / Только пела и ждала. / Знаю, брата я не ненавидела / И сестры не предала» («Помолись о нищей, о потерянной...», 1912). Эта «душа» пребывает у Ахматовой в «предпесенной тревоге», ощущает высокий статус песни и ведает о тайнах «песенного дара», пытается объясниться с миром через песню и через нее же рассказать о самом главном — не внешнем, а внутреннем состоянии; она ведает и о связях разбойной жизни и покаяния, песни и души, «голоса памяти», «голоса радости» и «голоса боли», «звонкого вопля» и «тихого слова» — «Я только петь и вспоминать умею» (книга «Подорожник», 1921). «Любимое слово и дело» Ахматовой — песня, отмечал еще в 1925 г. В. Виноградов, раскрыв глубинные связи символики песни-частушки и песни-молитвы — аккомпанемента и выражения «внутренней речи героини»: «Если я печален и пою, то не я пою, горе поет» — эта формула, установленная Потебней для народной поэзии, царит и над творчеством Ахматовой»3. «Песенное слово» — простое и родное самой жизни, и именно в этом — родовом — своем качестве оно оказалось чужим, кажется, всем атрибутам века торжества цивилизации и мирового города «четвертого сословия» — толпы (О. Шпенглер). «Лирики больше нет», «раздавленная душа торжествует над миром этих дней»4, — писал автор «Заката Европы», одной из самых читаемых в первое половине двадцатых годов книг.
Песня — один из лирических центров поэтического мира Клюева и Ахматовой. Гибель песни определяет лирический сюжет клюевского «Песнослова», в котором над всеми включенными в книгу песнями, как верно заметила Е. Маркова, «довлеет материнский плач»5, а также знаменитую клюевскую парафразу коммунистического манифеста: «Для варки песен — всех стран Матрены / Соединяйтесь!» — несется клич» (Четвертый Рим. 1922). Отсутствие песни рождает у Ахматовой, как и у Клюева, грандиозную апокалиптическую картину, пророчества о грядущих бедах человека и человечества в целом: «А люди придут, зароют / Мое тело и голос мой» («Умирая, томлюсь о бессмертье...». 1912); «Даже птицы сегодня не пели, / И осина уже не дрожит» (Июль 1914.1914); «Теперь никто не станет слушать песен. / Предсказанные наступили дни» («Теперь никто не станет слушать песен...». 1917); «Нежною пленницею песня / Умерла в груди моей» («Сразу стало тихо в доме...». 1917) и т. д. — так вырисовывается «картина безголосого мира», «смерти не только тела, но и голоса — источника звучания» (В. Виноградов). Именно в продолжение и развитие клюевского и ахматовского сюжета гибели песни появляется у Есенина сюжет ребенка-человека, выросшего в беспесенном мире нового века: «Что видел я7 / Я. видел только бой / Да вместо песен / Слышал канонаду. / Не потому ли с желтой головой / Я по планете бегал до упаду? (Русь уходящая. 1924). Лирическая тема сиротства человека перерастает у Есенина в глобальную — ущерб переживает в новом веке сама жизнь. Так вырастает лирический песенный сюжет, в котором лирическое, как и у Ахматовой, становится, синонимичным «песенному». Именно Есениным в поэтически точной формулировке и по-юродски (для современного ему песенного контекста) будет сказано о высоком жизненном значении песни:
Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.
(«Быть поэтом — это значит то же...», 1925)
Обратим внимание на даты, проставленные под стихами первой книги Заболоцкого «Столбцы» (1929): 1926, 1927, 1928. С 1925 г. осуждена на молчание Ахматова; в 1927 прокатилась самая мощная волна критики «русского стиля» Клюева, «Домашних песен» С. Клычкова; началась кампания борьбы с «есенинщиной», в которой было произнесено слово-понятие «юродство» и дана его квалификация: «Ирония юродствующих входит как составная часть в совокупную идеологию новейшего национализма» («Злые заметки» Н. Бухарина, газета «Правда, 12 января 1927 г.) — через пять лет это понятие станет определяющим и для Заболоцкого. К 1928 г. из литературного, шире — культурного процесса были исключены поэты мощной песенной традиции, лирики, в художественном мире которых песня являлась базовым философским и эстетическим концептом. Шла борьба за новый быт, освященная глобальными целями строительства новой культуры и воспитания нового человека, а потому исключавшая все, связанное с русской культурной традицией: из массовых библиотек изымались русские сказки и старые песенники, «Слово о полку Игореве», старые детские книги; на музыкальном фронте развернулись сражения с русскими народными песнями, «старыми» романсами, русскими «церковными» композиторами (С. Рахманинов) и внедрялась новая песенная культура, смысл которой воплощен в главной песне страны — «Интернационале» (с 1918 г. — гимн советской России). Огромные государственные средства брошены на создание нового песенного репертуара и его пропаганду; по-комсомольски в 1926 г. были опоэтизированы гитара (И. Уткин) и гармошка (А. Жаров), исполняющие, конечно же, новые песни революции и борьбы. На волне борьбы с «русским стилем», «ахматовщиной» и «есенинщиной» утверждают себя в роли главных песенников поэты разных группировок: А. Безыменский, И. Уткин, А. Жаров, М. Светлов, И. Сельвинский, П. Герман и др. Первые итоги кампании за новый быт подводились в год 10-летия празднования революции. Итоги были не столь утешительными — в самых разных областях культуры и жизни: массовый алкоголизм, рост преступности, всплеск проституции и венерических заболеваний, волна самоубийств в среде комсомольцев и т.п. Самые жестокие оценки государственной кампании террора против основ русской песенной традиции разбросаны в стихах Клюева, «песнолюбящего раба», как он себя аттестовал:
От былин, узорных погудок
Только перья, сухой помет, —
И гремит литаврой желудок,
Янычар созывая в поход.
(«Родина, я умираю...»)
Слезотечна старуха-книга,
Опечален Толстой и Фет.
По-цыгански пляшет брошюра,
И бренчит ожерельем строк.
Примеряет мадам культура
Усть-Сысольский яхонт-платок.
Костромские Зори-сережки,
Заонежские сапожки...
Строятся филины, кошки
В симфонические полки.
Магдолина льнет к барабану —
Одалиска к ломовику...
По кумачному океану
Уплывает мое ку-ку.
(«Теперь бы Казбек — коврига...»)
И нет Ярославны поплакать зигзицей...
(«Поле усеянное костьми...»)
Мы забыли про цветик душистый
На груди колыбельных полей.
(«Братья, мы забыли подснежники...»)
Не хочу Коммуны без лежанки,
Без хрустальной песенки углей!
(«Не хочу Коммуны без лежанки...»)
С книжной выручки Бедный Демьян
Подавился кумачным хи-хи...
(Воздушный корабль)
В воронку адскую стремятся без оглядки,
Вы Детство и Любовь пугаете Трудом.
(Труд)
Можно сказать, основные персонажи «Городских столбцов» и развернутых Заболоцким картин «дикого карнавала» (На лестницах), «сумасшедшего бреда» (Белая ночь) уже появились в русской поэзии. «Нету лиц у них, и нет имен, песен — нету» — цветаевское (книга «Лебединый стан», 1921), филигранно точное резюме к образу жизни, каким он предстает в «мировом городе» Заболоцкого, где в сумбуре песенно-музыкальных мелодий эпохи (Обводной канал) царствует и мучается безликая и безымянная масса-толпа. Заметим, что ни одной новой песни (а к этому времени они уже были написаны и внедрялись в массовую жизнь; опубликованы десятки новых песенников) в «Городских столбцах» не названо; можно указать, правда, на одну очевидную песенно-музыкальную аллюзию — симфонию «Гудки», о которой много писалось в газетах 1926-1927 гг. (исполнение гудками московских заводов «Интернационала»), и выступление Д. Бедного с обличением репертуара русской гармошки и глобальной программой привития «темному» народу любви к симфонической музыке (газета «Правда», январь 1927 г.)6. В «Обводном канале» экзистенциальную картину существования, складывающуюся из фрагментов разнородных песенно-музыкальных сюжетов — «Кричат слепцы блестящим хором...»; «Другой поет хвалу Иуде...»; «А третий...в кастрюлю бьет, как в барабан» — венчает высокая и одновременно весьма (для 1920-х) «литературная» музыка заводского гудка: «Высок под облаком гудок».
В борьбе за новый быт, тесно увязанной с именами главных идеологов русских песнопений Ахматовой, Есениным и Клюевым, в 1926— 1927 гг., ареал клуба неизменно противопоставлялся церкви (Ахматова) и пивной («есенинщина») и был воспет Д. Бедным, пролетарскими и комсомольскими поэтами. У Заболоцкого ареал клуба лишен романтического пафоса — «курятник радости», «густое пекло бытия», «праздничный угар» и торжество все той же «есенинщины» («Народный дом», «Вечерний бар»). Звучащие в «Городских столбцах» прежние старые мелодии почти все искалечены, как искалечена и сама жизнь. Однако эти маргинальные для эпохи песни очень ясно и весьма высоко маркированы у Заболоцкого («звук самодержавный», «песня нежная» и живописующая) и только потому они единственные напоминают о человеке и пробуждают в безликой толпе лирические чувства: «И каждый слушатель украдкой / Слезою чистой вымылся» (Бродячие музыканты); «Но музыка опять гремит / И все опять удивлены», «Иные, даже самые безбожники, / Полны таинственной отравою» (Цирк). Последнюю характеристику можно прочитать и как ироническую аллюзию к широко цитируемому образу сознательных комсомольцев, которые держат под подушкой не «Спутник коммунизма», а книгу стихов Есенина («Злые заметки» Бухарина).
Напомню еще одну из шпенглеровских характеристик эпохи цивилизации: «... литература может на время превратиться в реальный гротеск»7. Последний собственно и доминирует в «Городских столбцах», маркируя фрагментарность картины мира без классического для русской литературы неба (Бога), распадающееся бытие Mipa без мира, вечное движение без созерцания. Это мир «неочарованных людей» (образ из стихотворения 1957 г. «Вечер на Оке») и неутешительных ответов Заболоцкого на современные и вечные вопросы жизни и культуры. Их поэт задает в присокровенных письмах к другу юности в 1921 г.: «Толстой и Ницше одинаково чуэюды мне. <...> но божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу через него Бога. И бьюсь, так живет и болит моя душа». Если отменяются Бог (небо), любовь, благодать, дом, лирика, природа, народ, то должен торжествовать какой-то иной закон бытия. Формула этого закона появляется у Заболоцкого в финале стихотворения «Свадьба» и венчает картину «мирового бытия», всасывающего в свою воронку старо-новый быт. При этом сам финал выполнен во все тех же шпенглеровских характеристиках «четвертого» сословия» как безымянного кочевничества, озлобленного, отчужденного от труда-долга и государства8:
А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.
«Литературность» этого безблагодатного закона, имеющая не только общекультурные, но и современные источники (конструктивисты, «производственничество» и жизнестроение Лефа, лирика Маяковского и пролетарских поэтов) в «Городских столбцах» дополняется и усиливается другим старым, но столь же безблагодатным законом массового бытия: «О самодержец пышный брюха...», «Хочу тебя! Отдайся мне!» (Рыбная лавка. 1928). Если отменяется «мир как представление», то остается «мир как воля», а это — «мир слепого хотения» с его «диктатом тела», «самоутверждением тела» (определения А. Шопенгауэра). Образы-описания этого безблагодатного мироустройства уже были найдены в классической эстетике —европейской и русской: «Мир сам есть Страшный суд» (А. Шопенгауэр, книга «Мир как воля и представление», в переводе А. Фета); «безвременье», «торжество паучихи» (А. Блок, статья «Безвременье»). Образами Страшного суда из Апокалипсиса переполнены «Городские столбцы», и в них же звучат вопросы пути-спасения, на которые нет ответа. Их задает старый мир и старая культура:
Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!
(Новый Быт)
Вопросами без ответа Заболоцкий наделяет в «Столбцах» и новый безлюбовный беспесенный мир, пребывающий в бесконечных (не только «книзу головой», но и вверх) метаморфозах оборотничества: «И ночь... просится на небеса» (Белая ночь), «Иные, даже самые безбожники, / Полны таинственной отравою» (Цирк), «Ревут, как трубы, о любви» (о кошках), «чахоточная воет рыба» (На лестницах).
В статье о лирике Заболоцкого 1937 г. Михаил Зощенко, восхищаясь «Столбцами» — «превосходными стихами», в подтверждение мысли, что «за словесным наивным рисунком» у Заболоцкого «почти всегда проглядывает мужественный и четкий штрих» к содержанию жизни, процитирует большой фрагмент из стихотворения «Ивановы»:
Иные дуньками одеты,
Сидеть не могут взаперти.
Прищелкивая в кастаньеты,
Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик
И дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?
Зощенко выбирает из «Столбцов» сюжет эмблематичный, отмеченный в русской литературе романом Достоевского и связанный в поэзии XX в. с песенными и одновременно бездомными героинями блоковской лирической эпопеи — Незнакомкой, Фаиной и Кармен. «Чувствуется какой-то безвыходный тупик. Нечем дышать»9, — пишет Зощенко, подчеркивая, что именно в строке «Неужто некуда идти?» заключен главный лирический вопрос пути поэта.
Ответы на него, правда, уже даны в «Смешанных столбцах», что акцентировано датировкой стихотворений, совпадающей с «Городскими столбцами». Какие из ранних неопубликованных стихов Заболоцкий уничтожил? Можно ли выстроить все стихи Заболоцкого 1926-1929 гг. в реальной хронологии их написания — эти классические текстологические вопросы могли бы, наверное, на многое пролить иной свет знания, которым мы не обладаем и которого поэт нам не оставил...
Мир «Смешанных столбцов» и лирики Заболоцкого рубежа десятилетий — это мужественное созерцательное отречение от воли. Один путь этого отречения — это жизнь в ratio, сознание мозгового пытливого интеллекта, построенный на рассудочной воле; другой — жизнь в логосе, интуитивное восприятие высшей надмирной силы. Эти два отдельных мира-пути, за первым — традиции интеллектуальной культуры и цивилизация, будущее; за вторым — духовная традиция, классическая русская и европейская лирика, открывающие вечность (духовная вертикаль). За первым у Заболоцкого — «Безумный волк», «Лодейников», «Время», за вторым — мир воскресшей сказочно-песенной метерлинковской «Синей Птицы», мир чистой поэзии и творчества жизни, ответ Заболоцкого на призывы Хлебникова и Клюева творить новую песню-сказку. Напомню, что в русской литературной традиции «песни» всегда маркируются понятиями глубины жизни, простоты, естественности и красоты: «Слог песен должен быть приятен, прост и ясен, / Витийств не надобно; он сам собой прекрасен...» (А. Сумароков. «Эпистола о стихотворстве», 1848). Подобные характеристики «песни» мы найдем и у Фета, и его учеников-последователей — символистов, Есенина, Ахматовой и Клюева. Появятся они и у Заболоцкого, причем, в то время, когда имена последних были фактически исключены из русской литературы, во многом по тем же основаниям, что и лирика А. Фета:
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
(Прогулка. 1929)
Кукушка, песенку построя,
На двух тонах (дитя простое)
Поет внутри высоких рощ.
(Поэма дождя. 1931)
«Инфантилизм приема» в воссозданных картинах «труда» по созданию песни весьма точно обозначает вектор традиции и реакцию поэта на современную ему поэтическую ситуацию. Объявленный в дискуссии 1931 г. о творческом методе советской литературы «пересмотр эстетических ценностей» (В. Полонский) сопровождался призывом создать «бодрые песни» борьбы и неизменным обращением к фетовскому «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» как конденсированному выражению «лирики уединенного сердца», явно неуместной в произошедшей «смене культурной эпохи»10 и т. п. Выбор имени Фета не был случайным. Фет — консерватор, крепостник, реакционер. Фет — единственный, пожалуй, русский лирик, серьезно и профессионально занимавшийся вопросами того земледелия, которому Заболоцкий посвятит первую свою поэму. К тому же во всей русской поэзии не было поэта столь органически чуждого эпохе воспевания антиприродности «второй природы», как Афанасий Фет с его лирическими песнями радости.
Заболоцкий словно бы пропускает мощную традицию символистского освоения шопенгауэровской компоненты «мира как воли и представления» в лирике Фета и обращается к главному поэтическому открытию Фета. А в русской поэзии — это фетовские лирические идиллии, песни радости с «глубью небес», «вечной думой» неба, «звездными» хорами, «небесными хорами», «брачным гимном» пчел, «сияньем» утра, «чистым» пением малиновки, «лесными песнями», «чистотой» воздуха», «непобедимыми соснами», «молитвой» звезд, прозрачно сияющими небесами...». Хрестоматийно школьное — «Я пришел к тебе с приветом...» — поэтическая Утреня, выражающая радость твари, благославляющей утренней песней Создателя, картина мира во всем его великолепии: небо, земля, мир видимый и невидимый, человек, исполняющий творческий промысел. Поэтическое задание у Фета подчинено знанию о символическом значении утра (Пс. 103) — утро каждого дня есть образ и отражение вечного Утра: «Не я, мой друг, а Божий мир богат...» («Кому венец: богине ль красоты...»); «Сияют небеса, нетленные как рай...» («Пойду навстречу к ним...»), «Оглянись — и мир вседневный / Многоцветен и чудесен...» («Мы с тобой не просим чуда...»)...
«С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из Града Господня всех, делающих беззаконие» (Пс. 100), — эта картина Утра вечности, когда Господь истребит всех грешников, чтобы в своем Граде (т. е. Небесном Иерусалиме) были одни святые, включает в себя и жизнетворческое содержание: следующие заповедям Христа, применяя эти слова к себе, должны с самого утра уничтожить злые помыслы и намерения, вынуть бревно из своего глаза, убить в себе бесов...
«Утренняя песня» (1932) Заболоцкого, являясь откровенной манифестацией традиции фетовской утренней песни, не является исключением в лирике поэта. Первые контуры сюжетов на эту тему появляются опять-таки уже в «Городских столбцах»:
Младенец-хлеб приподнял руки
И слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
Трубил о нем во мрак ночной.
(Пекарня. 1926)
Хвалебные молитвы Утрени разбросаны в «Смешанных столбцах» и в лирике рубежа десятилетий и вписываются в поэтику литургики мира «первой» природы — Богом созданного тварного мира: «Он слышит говор листьев и камней...», «Мы услыхали бы слова / Слова, которые не умирают, /Но которых песни мы поем» («Лицо коня», 1926); «Птица легкая кружится, / Ради песенки старинной / Нежным горлышком трудится» (Прогулка. 1929); «Вода, как матушка, поет» (Поэма дождя. 1931); «Песню прадедов воинственных / Начинает петь глухарь. / С причитаньями старинными / Водят зайцы хоровод» (Весна в лесу. 1936);. «И сосны, как свечи, стоят в вышине, / Смыкаясь рядами от края до края» (Лесное озеро. 1938), «сияющий храм» природы (Соловей. 1939) и т.д. От «хвалитных» песнопений неотделим, как мы видим, и другой, также традиционный песенный ряд, связанный с плачем. Почти бесслезны «Городские столбцы». В «Смешанных столбцах» причитают зайцы (Весна в лесу), «неудержимо плачут» дровосеки (В жилищах наших. 1926), рыдает и плачет речка, роняет «седые слезы» бык (Прогулка. 1929).
То, что это мир представлений евангельского «сокровенного человека», догадывались уже современники, прочитавшие в эстетическом юродстве Заболоцкого более глубинную тему содержания жизни. Так, А. Безыменский в выступлении на Первом съезде писателей (1934) называет Заболоцкого (вполне справедливо) в ряду главных последователей «империалистической романтики Гумилева и кулацко-богемной части стихов Есенина»: «Под видом «инфантилизма» и нарочитого юродства Заболоцкий издевается над нами, и жанр вполне соответствует содержанию его стихов, их мыслям, в то время как именно «царство эмоций» замаскировано»11. Автор главной песни комсомольской молодежи «Молодая гвардия» не случайно так остро отреагировал за лирику Заболоцкого, ибо являлся одним из ведущих поэтов-песенников и идеологов новой советской песни. Безыменский лукавил, когда говорил о «замаскированности» мира эмоций в лирике Заболоцкого. Какая уж маскировка в опубликованных и неопубликованных произведениях поэта (написанная в 1932 г. «Утренняя песня» впервые печатается только в 1937 г.), если оглянуться на лирико-песенный контекст начала 1930-х гг., отмеченный не только одним из самых многотиражных песенников «Красное Знамя» (1930) и масштабными акциями создания новых песен. В 1930 г. проходит Первая всесоюзная музыковедческая конференция, определившая магистральные пути борьбы с «церковщиной», «нэпманской музыкой», «цыганщиной» русской классической музыки; ярлык «фашиста», приклеенный к именам Глинки, Мусоргского, Рахманинова; первое объединенное заседание пролетарских поэтов и музыкантов — РАПП и РАПМ, на котором была сформулирована задача коллективного создания текста и музыки массовой песни. К последней акции в декабре 1929 г. подключается «Комсомольская правда», на страницах которой 1 декабря печатается стихотворение комсомольского поэта И. Уткина «Песня»; текст стихотворения сопровождался авторским примечанием: «На днях мною, наряду с другими товарищами, через «Комсомольскую правду» был получен вызов от Особой Дальневосточной армии написать для наших героических красноармейцев военную песню. В ответ на предложение я дал товарищам обещание немедленно написать песню. Песня мною написана, я помещаю ее в «Комсомольской правде» и вызываю пролетарских молодых композиторов: тт. Давиденко, Шехтера, Чемберджи и Коваля немедленно взяться за текст и оформить его музыкально, чтобы в скором времени через наш скромный труд бойцы Дальневосточной армии могли почувствовать связь с пролетарской общественностью». 7 декабря «Песня» была вновь опубликована с нотами на страницах газеты. Музыку написал Н. Чемберджи. Не только комсомольские поэты участвуют в этой акции. В массовом «Огоньке» в начале 1932-го печатаются «Красноармейские песни» И. Сельвинского и т. п. В 1932-м конкурс на новую массовую песню проводит «Комсомольская правда», в 1934-м — главная газета страны «Правда». В структуре создаваемого Союза советских писателей выделяется секция поэтов-песенников. Председатель — П. Герман, организационное ядро новой структуры составили уже известные по 1920-м фигуры: И. Уткин, В. Киршон, А. Сурков, Дж. Алтаузен, П. Арский, А. Арго, Н. Адуев, А. Д. Актиль, С. Васильев, И. Сельвинский, А. Жаров, А. Безыменский, М. Светлов, М. Голодный. Реакции на это образование разбросаны в стихах поэтов, то ли не вошедших, а скорее — не включенных новообразованный «союз» поэтов-песенников. Гневной и презрительной была оценка данного объединения, прозвучавшая в знаменитых сегодня «Клеветниках искусства» (1932-1933) Н. Клюева — не песни, а «бумажные погосты». Открытая полемика звучала и в написанном в 1933-м стихотворении «Раненая песня» П. Васильева:
Что вы особачились на песню мою.
Песни — мои сестры, а сказы — братья.
Я еще такие песни спою,
Что и самому мне не снятся,
Я хочу ходить в советских полках.
Заболоцкий, кажется, вовсе и не обличает новых песенников, он просто пишет стихотворение, содержащее непривычное для эпохи сочетание «Утренняя песня». Правда, оркестр инструментов, созданный Заболоцким для прославления наступившего утра, — «большие гитары», дудки, скрипки, волынки — вряд ли мог оставить равнодушным не только деятелей Российской ассоциации пролетарских музыкантов, но и пролетарских поэтов. Песенную продукцию последних он опишет не раз. Сочинителем «песенок», которыми можно «потрясти мироздание», является Безумный волк, он же — «составляет» книги песен (Безумный волк. 1931). Совсем не из репертуара «красной гармони» звучит мелодия в стихотворении «Отдыхающие крестьяне» (1933), явно развивающем сюжет есенинской «Руси советской» (диалоги крестьян). «Длинная гармошка» у Заболоцкого искусно возвращает есенинской тальянке (она в «Руси советской» исполняет «агитки Бедного Демьяна») ее главный жанр — плясовую: «И на травке молодой / Скачут страшными прыжками, / Взявшись за руки, толпой».
У интернациональных песен, которыми совпоэты воистину потрясали мироздание, был один авторитетный источник — «Интернационал», «адов гимн» (определение И. Бунина). Бедный Солдат в «Торжестве земледелия» является жертвой доверчивого отношения к «Интернационалу» как новой песне судьбы («Мы старый мир дотла снесем...») и чтения новых песенных книг на тему борьбы со «старым бытом». В 1937 г. Заболоцкий открыто скажет о главных советских песенниках, которые быстро сменили ориентиры и от «интернациональных» песнопений двадцатых перешли (по приказу сверху) к освоению народности и созданию псевдонародных песен радости, «счастливой» и «веселой» страны. Оценка прозвучит в пушкинской статье — с позиций «скромного» пушкинского «Памятника»: «развязная, на редкость многословная, путанная, лишенная вкуса и малейшего поэтического такта речь Сельвинского»; «подтанцовывающая и жонглирующая речь Кирсанова»; «утомительная, серая речь Безыменского»; «пошловато-сентиментальный язык Уткина»12. Зададим простой вопрос — могли ли простить столь откровенную оценку собратья-писатели?.. Арест Заболоцкого в 1938 г., на наш взгляд, был спровоцирован рядом публичных выступлений Заболоцкого 1937 г. Однако ни пытки, ни лагеря не сломили Заболоцкого, и в 1945 г. вновь в его лирике зазвучала мелодия «Утренней песни». Она вплетается тихим голосом вечности в торжественно-империалистическую стилистику мелодий советских акынов, прославляющих творцов строительства нового мира и будущего («Творцы дорог», «Город в степи»). Не сломленная и даже укрепленная авторитетом великого памятника русской культуры — «Словом о полку Игореве». Окончательная дата работы над переводом памятника — 1946 год. Эта же дата — 1946 г. стоит под стихами, развивающими тему Утрени: «Утро», «Уступи мне, скворец, уголок...», «В этой роще березовой...»
Величественно-поэтическое «Утро» — картина земного и небесного рая, дух покоя, света, чистоты детства, полноты жизни, мир, приготовившийся к смыслу часа первого Всенощной — Утрени, к звучащему возгласу на Утрени «Слава Тебе, показавшему свет» (свет, как образ света лица Божьего): «Колеблется воздух, / Прозрачен и чист», «Рожденный пустыней / Колеблется звук». В этот час, когда читалось Евангелие, пели петухи... Правду Mipa о мире своей песней возвещает иволга — «птица-отшельница», и эта песня названа «песней пустынной». Можно сказать, в песню-голос Божественного откровения превращается образ звука, появившийся в «Утре». У «песни пустынной» глубокая символическая библейская традиция: пустыня — место действия библейских пророков, в пустыне Христу явился дьявол для искушения (Мф. 4,8-9); пустынножительство избирали православные подвижники веры и благочестия. Стихотворение «В этой роще березовой...», своеобразное лирическое шестипсалмие, является одним из высочайших образцов духовной поэзии XX в. и развивает главную темы пушкинского «Пророка» — смерти и воскресения поэта, тайны воплощения Слова. О пушкинской «духовной жажде» напоминает у Заболоцкого иволга, в народных преданиях поющая к дождю, утоляющему земную жажду. «Пустынная песня» напоминает о евангельской жажде: «Великой скорбию томим» (Мф. 24, 2). Чуждый литературности, Заболоцкий в 1-й строфе меняет пушкинский библейский пейзаж «мрачной пустыни» на национальный, фетовско-есенинский благодатный. Ареал «страны березового ситца» у Заболоцкого почти мифически идеальный: «вдалеке от страданий и бед», одухотворенный пейзаж, тот же свет чистоты и струения воздуха:
В этой роще березовой,
Вдалеке от страданья и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высокий ветвей...
Перед нами картина неба, когда-то открытого толстовским «солдатом» Болконским на аустерлицком поле — «не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого», «бесконечного неба», когда «все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба» («Война и мир»). Но, кажется, простая иволга у Заболоцкого опровергает этот авторитетный вывод, она ведь является у Заболоцкого хранительницей памяти «Слова о полку Игореве», где тема войны и мира, духовного воинства и воинского долга занимают едва ли не главное место. Иволга и торит дорогу лирического героя к жизни, сопровождает возвращение к людям и дому, ведет мелодию «Всенощной»:
Пролетев над поляною
и людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жилье,
Целомудренно бедной заутренней
Встретить утро мое.
Резкий перелом обретенной мирной лирической интонации в начале 3-й строфы: «Но ведь в жизни солдаты мы...» и возвращение в историю глубинно мотивирован у Заболоцкого. И прежде всего содержанием «бедной заутрени». «Во Всенощном бдении «Утреня» <...> носит образ полноты, выявленности и наступившего, исполнившегося обетования. <...> «Утро» для людей наступило с пришествием на землю Спасителя. Но оно, это мистическое утро, застало человека в грехах»13, — пишет В. Ильин, один из глубоких исследователей символики Всенощного бдения. Утреня не мыслима без покаяния, лирический герой берет на себя все грехи мира, и провожает его на бой та же иволга. 3 и 4 строфы — картины Mipa как войны, ад земли — исполнены покаянной скорби и сокрушения солдата-мученика. 5 строфа — страдание и сокрушение сердца, смерть и воскресение, исцеление голоса для новой песни мира. 6 строфа — апостольское свидетельствование о Небесном Иерусалиме, нисходящем на Россию с неба. Возвращается тот же, что и в первой строфе, пейзаж, но он теряет конкретные черты («в этой роще березовой») и превращается в эпическую («И над рощей...») картину прославления величия, силы и славы грядущего небесного Спасения:
Встанет утро победы торжественной
На века.
Мелодия Утрени звучит — «сквозь литавры и бубны истории» («Уступи мне, скворец, уголок...») — и соединяет разные времена и мелодии, утро человека, дом и Утро вечности. Лирическое «Я» не конфликтует текущим временем («Но ведь в жизни солдаты мы...»), ибо Утро вечности как бы все расставляет по своим местам, вводит иерархию ценностей, позволяет не путать будущее и вечность. Утреннюю песню (как и часы) поет все та же вечная природа (а кто бы еще мог ее исполнить в те годы?), и она-то оказывается единственной «птицей небесной», что как пела раньше у Заболоцкого, так теперь поет Богу — «доколе есмь» (Па, 103: 33).
Песнь иволги — «песня жизни моей» — песнь мира, «утра победы торжественной»: «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа» (Пс, 103: 35). Обретенная здесь триада гармонии сама становится у Заболоцкого в дальнейшем самостоятельной темой, весьма насыщенной самыми разными оппозициями (природное — искусственное; подлинное — мнимое; живое — мертвое; природа, культура — культура, цивилизация) и литературными аллюзиями:
Начинай серенаду, скворец,
Сквозь литавры и бубны истории
Ты — наш первый весенний певец
Из березовой консерватории.
(«Уступи мне, скворец, уголок...», 1946)
Кузнечики, согретые лучами,
Отщелкивают в воздухе часы.
.................................
Когда горят над сопками Стожары
И пенье сфер проносится вдали,
Колокола и сонные гитары
Им нежно откликаются с земли.
Есть хор цветов, не уловимый ухом,
Концерт тюльпанов и квартет лилей....
.................................
Вся сопка дышит, звуками полна
И тварь земная музыкальной бурей
До глубины души потрясена.
И засыпая в первобытных норах,
Твердит она уже который век
Созвучье тех мелодий, о которых
Так редко вспоминает человек...
(Творцы дорог. 1947)
Ты и скрипку с собой принесла
И заставила петь на свирели.
(Поэма весны. 1956)
Можно сказать, что «Утренняя песня» является неким метасюжетом лирики Заболоцкого, к которому поэт возвращался вновь и вновь: то психологизируя его (Встреча. 1957), то онтологизируя через нее понятие «неочарованные люди» и эстетику «очарованья русского пейзажа»: «Горит весь мир прозрачен и духовен» (Вечер на Оке. 1957), то превращая в лирическую новеллу о любви и памяти («Кто мне откликнется в чаще лесной...». 1957).
Присутствие Фета в художественном мире Заболоцкого не исчерпывается лирической темой Утрени. Фетовский вектор присутствует и в поэтической натурфилософии Заболоцкого 1930-х гг. Читаем у Фета:
Учись у них — у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимался, кора.
Все злей метель, и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.
Разъятое под микроскопом рационального и научного анализа мироздание, природа, схоластические споры о времени, экзистенциальные бездны и эсхатологические картины гибели природы — но и в этих картинах «болезни» всегда остается у Заболоцкого какой-то знак и указание на уроки учебы и выздоровления. Так, скажем, натурфилософские рефлексии Лодейникова («природы вековечная давильня») окаймлены лирическим сюжетом утренней песни — как и у Фета, это голос и хор:
И в этот миг жук в дудку задудил.
Лодейников очнулся. Над селеньем
Всходил туманный рог луны,
И постепенно превращалось в пенье
Шуршанье трав и тишины.
Природа пела. Лес, подняв лицо,
Пел вместе с лугом. Речка чистым телом
Звенела вся, как звонкое кольцо...
«Не слышит сердце правильных созвучий, / Душа не чует стройных голосов...» («Я не ищу гармонии в природе...». 1947) — отрицающее «НЕ» лишь акцентирует фундаментальное значение понятий «правильные созвучия» и «стройные голоса».
Нельзя также не вспомнить имя Фета, когда речь идет и о традициях колыбельной песни в русской лирике (Лермонтов, Майков, Ахматова, Клюев, Заболоцкий, Клычков, Васильев) и культурных контекстах борьбы за новый быт. С окончанием Гражданской войны на избы-читальни и клубы была возложена задача внедрения в народную жизнь новых обрядов — «красных» крестин, свадеб и похорон, новых детских песен, игр и сказок (о последних Заболоцкий хорошо знал и как студент педагогического института).
Особая статья в революционном песенном репертуаре связана с колыбельными и первыми детскими песнями. В десятках пролетарских «Колыбельных», созданных в это десятилетие и широко вводившихся через клубы в народный репертуар, инвариантом нового содержания выступала модель «Международного гимна»:
Будет месяцы и годы
Длиться в мире бой,
Но добьемся мы свободы
Жизни трудовой.
И придет конец невзгодам
Не в одном краю:
Будет воля всем народам!
Баюшки-баю...
Спи, дитя страны свободной,
Доченька моя.
Пред тобою путь широкий —
Светлая тропа.
..........................
Без цепей и без насилья
Строим жизнь труда.
Спи, дитя, страны свободной,
Спи: ты — не раба!
Новые колыбельные были противопоставлены старым и содержанием, и формой: они риторичны, в них отсутствует сказочное начало («жили-были...») с характерным ритмом свободно движущегося времени, загадка и повтор. Колыбельные Фета — это песни о мире и мира, тихий лирический рассказ, ненавязчиво вводивший дятя в круг жизни: «Тихо вечер догорает, / Горы золотя; / Знойный воздух холодает, — / Спи, мое дитя.... Смотрят ангельские очи, / Трепетно светя; / Так легко дыханье ночи, — / Спи, мое дитя» (Серенада. 1844). Учительность классической колыбельной лишена дидактичности (диалог ребенка и няни в колыбельной «Ворот», 1847). Пролетарские колыбельные — дидактичны и одновременно риторичны. Риторический характер новой колыбельной пародируется в рассказе В. Шишкова «Спектакль в селе Огрызове» (1923): для «коммунистического ребенка» кулаком поется следующая колыбельная:
Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...
Ты лежи, лежи, лежи
И ногами не дрожи...
Заболоцкий воспроизводит содержательную модель колыбельной песни со всеми ее формальными элементами, которые являются кодификаторами классического литературного текста колыбельной. Модель колыбельных «новин» опознается уже в «Столбцах». «Сладкая» колыбельная природы в стихотворении «Искушение» (1929) сохраняет традиционную сказочную основу этого жанра:
Баю, баюшки, баю,
Баю девочку мою!
Ветер в поле улетел,
Месяц в небе побелел.
Мужики по избам спят
У них много есть котят.
А у каждого кота
Красные ворота....:
Сопоставимо с фетовской «Колыбельной песней сердцу» стихотворение «Меркнут знаки Зодиака...» (1929), являющееся в русской поэзии своеобразной Колыбельной песней разуму. У Фета — страдания «малютки»-сердца, у Заболоцкого — «разума-воителя» Описание традиционного домашнего ареала колыбельной содержится в стихотворении «Отдых» (1930):
Спой мне, тетя Мариули,
Песню легкую как сон!
Все животные заснули,
Месяц в небо унесен.
И сколь бы напряженно ни погружался Заболоцкий в метафизику «второй природы» — «симфонии» битв мироздания и мировоззрения, в его художественном мире «простая» песнь наделяется «слабой силой» (выражение А. Платонова) правды, в выражении которой почти всегда присутствует лирический опыт А. Фета. Так, например, в «Седове» (1937), стихотворении, сюжет которого в целом выдержан в гумилевской «империалистической» стилистике, без внешнего полемического нажима видоизменяется финал стихотворения Маяковского «Товарищу Нетте — пароходу и человеку»: «Лишь одного просил бы у судьбы я: / Так умереть, как умирал Седов». Кажется, почти резюме Маяковского: «Но в конце хочу — / других желаний нету — / встретить я хочу / мой смертный час / так, / как встретил смерть / товарищ Нетте». Однако при совпадении ритмического рисунка содержание жизни, стоящее за финалом у Маяковского и Заболоцкого, различно. Маяковский точно воссоздал и опоэтизировал один из важных концептов «нового быта» — «красные похороны», допустив плач и слезы лишь в отношении одного героя — Ленина (поэма «Владимир Ильич Ленин»). У Заболоцкого плач матросов над могилой Седова — собственно и организует лирическую тему стихотворения об одном из покорителей «первой природы». Бесхитростный плач матросов маркирует у Заболоцкого фетовскую тему русского кладбища и выливается в экзистенциальную картину жизни нового безрелигиозного века. «И нет Ярославны поплакать зигзицей...» — скажет Клюев в «Огненном лике» о новой культурной ситуации, складывающейся в первое советское десятилетие. У Заболоцкого плач сопровождал «старый мир» (Торжество земледелия) и появляется в стихотворении 1937 г. — а это уже была другая культурная ситуация, когда в связи с реабилитацией народности были сняты наветы с русской песни и был частично реабилитирован плач...Конечно, Заболоцкий, создавая трагического «Седова», можно сказать, даже не «остраняет», а величественно отстраняет плачи-новины, которые пишут советские поэты (сборники на эту тему издаются с 1936 г.).
Онтологическую бездну между современными плачами-новинами второй половины 1930-х гг. и традицией плача по-своему приоткрывает сделанный Заболоцким перевод «Слова о полку Игореве». У Заболоцкого классический плач-причитание Ярославны о муже встроен в эпическую картину плача о мире («И от края, братья, и до края / Пали жены русские рыдая...») и дополняется плачем матери о сыне: Плачет мать над темною рекою / Кличет сына-юношу во мгле, / И цветы поникли, и с тоскою / Приклонилось дерево к земле». Примечательно, что описание возвращения Игоря домой, маркированное христианским содержанием мотива возвращения («Сам Господь из половецких стран / Князю путь указывает к дому»), сопровождается аккордами и картинами все той же «Утренней песни»:
Дятлы, Игоря встречая,
Стуком кажут путь к реке,
И, рассвет веселый возвещая,
Соловьи ликуют вдалеке.
«...ни на что не похожий собор нашей древней славы...и будет стоять вовеки, доколь будет жива культура русская... », — скажет Заболоцкий о «Слове о полку Игореве». Напомню, что реабилитация этого текста — также явление второй половины 1930-х гг.
На столкновении двух мелодий — плача и «утренней песни» высекается лирическое содержание в стихотворении «Слепой» (1946). Известно, что основным в репертуаре слепцов и в советское время оставались старые и новые духовные стихи, в которых доминировал плач. Оплакивались богооставленность человека, братоубийственная война, сиротство... Живописные портрет слепца и картина пения («Целый день он поет, / И напев его грустно-сердитый, / Ударяя в сердца, / Поражает прохожих на миг...» сменяет пронзительный вопрос («Что ты плачешь, слепец?..»), перерастающий в неожиданное (для художественного мира Заболоцкого) лирическое признание о родственности («Эти песни мои — / Сколько раз они в мире пропеты!») и почти невозможности создать новые песни радости: «Где найти мне слова / Для возвышенной песни живой?»
У двух вопросов, как и у этих двух песенно-лирических жанров есть объединяющие их неразделимые понятия: память и любовь. Слепец напоминает об умерших («Научился смотреть / В вековое лицо темноты»), и Заболоцкий прекрасно понимает, что традиции Утрени в русской культуре неотделимы от напоминания человеку о мрачности вечной гибели — смерти без воскресения. Напомним то, что Заболоцкий хорошо знал и, кажется, никогда не забывал.
Первая часть православной Утрени начинается с ангельского славословия— пения («Слава в вышних Богу») к шестипсалмию — чтению шести псалмов (3, 37, 87, 102 и 142) и одних из самых скорбных и наполненых смертной горечью псалмов 87 и 142: «Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи перед Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя: приклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменех бых с низходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язвеннии спящи во гробе, их же не помянул еси к тому, и тии от рки Твоея отриновени быша. Положи мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. <....>» (Па, 87). После окончания шестипсалмия читаются утренние, благодарственно-просительные молитвы (моление о просветлении и наследовании вечных благ), Великая ектиния...В каждой из 4-х частей Утрени звучат утренние песни, они нарастают со 2-й части (полиелей), когда звучит песня победного торжества «Воскресение Христово видевши», и в прославляющих праздник возвышенных песнях-одах 3-й части службы (канон). Четвертая (последняя) часть Утрени начинается хвалебными песнопениями и хвалитными псалмами (Пс. 148,149,150) — они носят имя светильное («возвещающий приближение света») и прославляют свет вечный — немеркнущее сияние Лика Христа и невечерний день Его царствия. Кульминацией этой части является пение «Великого славословия» («Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение...»). По своему смыслу «Великое славословие» в Утрене занимает то же положение, что исполнение на Вечерне «Свете Тихий». Богословы выражение «Свете Тихий» переводят как «Свете веселый», «Свете радостный», «свет приятный»...
Эти две великие песни назовет Заболоцкий в конце жизни, вспоминая детство.
Наш скромный опыт сомнений в концептуальности положения об антифетовском направлении поэтических исканий Заболоцкого базировался на классическом мотивном анализе лирики поэта. Укрепляли наш анализ воспоминания самого Заболоцкого о детстве, очень, скажем, выделяющиеся на фоне образов детства, как его писали современники поэта. В воспоминаниях детства, о котором Заболоцкий написал в кристально чистых по пушкинскому звуку автобиографических очерках «Ранние годы» (1956), песенно-музыкально-живописные картины природы занимают большое место. Сельский ареал: пение птиц в рощах, «целомудренная прелесть растительного мира», «чудесная природа Сернура» — «никогда не умирала в моей душе и отразилась во многих моих стихотворениях». Сельский и городской ареалы — соборы, церковный хор и пение, еженедельное посещение обедни и всенощной. Мальчик-подросток, каким его описывает Заболоцкий, кажется, похож на традиционного для советской литературы нигилиста, и совсем не похож: «Но тихие всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и, когда девичьи голоса пели «Слава в вышних Богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья». А этот живописный ареал детской памяти — почти комментарий к евангельской символике одухотворенного пейзажа у Заболоцкого: «Совсем другой была природа под пасху. Она оживала вся сразу и, окончательно еще не проснувшись, была наполнена смутным и тревожным шумом постепенного своего пробуждения...» Музыкальное училище, оперы, концерты, «пленительные звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома, — звуки, еще никогда не слыханные мной! Городской сад с оркестром...» — как и живопись, «музыка повсюду пользовалась почетом и любовью»... И завершает это поэтическое безмятежное озеро воспоминаний детства — «женский плач», с которым в жизнь мальчика вошла 1-я мировая война...
Примечания
I Игошева Т. Проблемы творческой эволюции Н. А. Заболоцкого. Новгород, 1999, с. 44.
2Веселовский А. Язык поэзии и прозы // Русская словесность. М., 1997, с. 97-98.
3 Виноградов В. О символике А. Ахматовой // Анна Ахматова: pro et contra. Антология. T. 1. M., 2001, с. 266.
4 Шпенглер О. Философия лирики. М., 1923, с. 12, 14.
5 Маркова Е. Творчество Николая Клюева в контексте северно-русского словесного искусства. Петрозаводск, 1997, с. 90-158.
6 Подробно об этом см.: Корниенко Н. «Сказано русским языком...» Андрей Платонов и Михаил Шолохов. М., 2003, с. 103-104.
7 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. Пг., 1922, с. 63.
8 Ср.: «Лишенный душевных корней народ очень поздних эпох, наподобие кочевников, перекатывает волны своей бесформенной и враждебной форме массы через эти каменные лабиринты, всасывает остаток живой человечности вокруг себя, безродный, озлобленный и нищий, полный ненависти к развитой ступенчатости старой культуры, для которой он умер, ждущий освобождения из этого невозможного существования»; «Четвертое сословие само по себе есть лишь факт, не идея»; «Пролетариат стал уже не именем, а задачей. Будущее стало рассматриваться с этого момента сквозь призму некоторой дозы литературности»; «Он [Маркс] привил пролетариату неуважение к работе», Работа для него товар, а не долг»; «...в его мышлении отсутствует государство» (Шпенглер О. Пруссачесство и социализм. Указ. изд., с. 59-65).
9 Предисловие М. Зощенко к книге стихотворений Заболоцкого 1937 г.
10 См.: Полонский В. Концы и начала // «Новый мир», 1931, № 1; [Дискуссия о творческом методе советской литературы] / /Там же, 1931, № 10. II Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, с. 550.
12 Заболоцкий Н. Язык Пушкина и советская поэзия (Заметки писателя) // «Известия», 1937, 25 янв., с. 6.
13 Ильин В. Всенощное бдение. Париж, б, д., с. 158, 159.