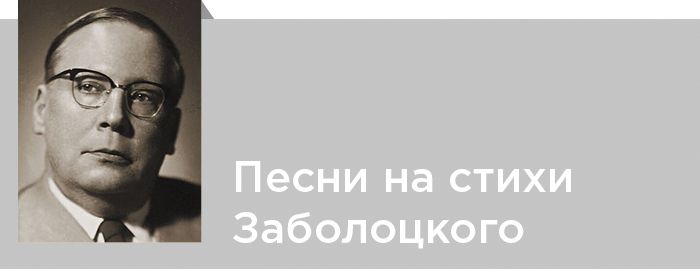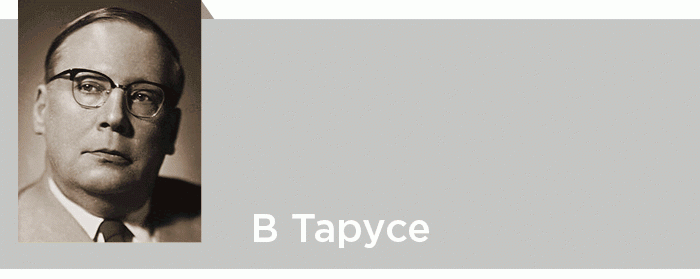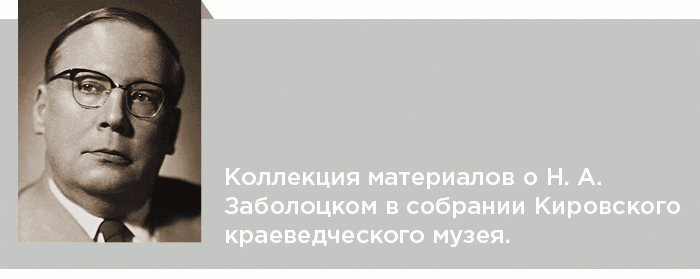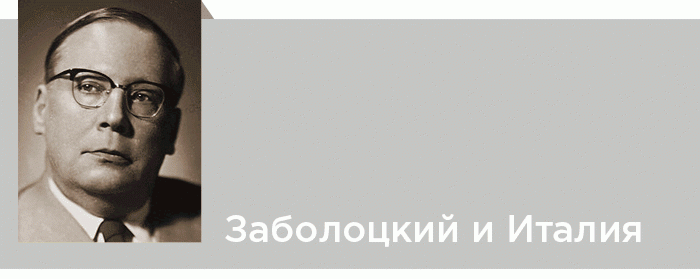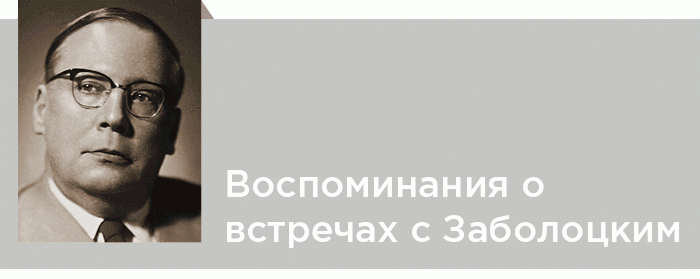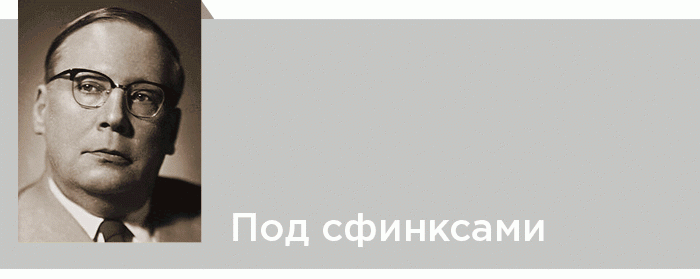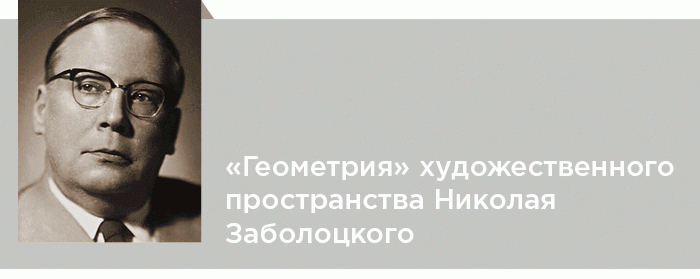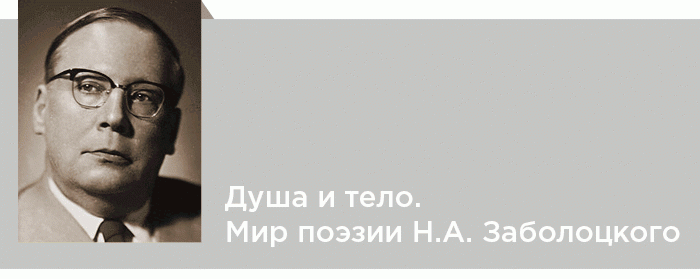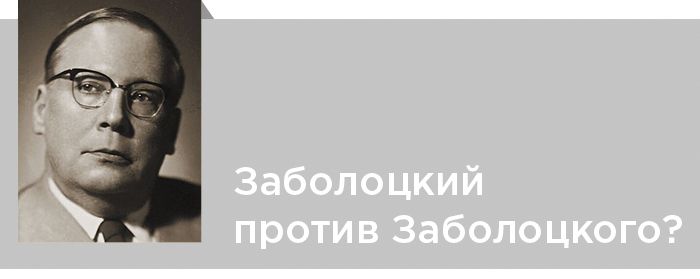Социальная утопия Н.Заболоцкого

Михаил Петров
(Тверь)
СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ Н. ЗАБОЛОЦКОГО
Творчество раннего Заболоцкого традиционно считается новаторским. А между тем, читая даже наиболее «крутые» его столбцы, испытываешь постоянное ощущение их кровного родства с традицией — с русской поэзией XVIII, XIX и, конечно, начала XX века. Словно именно на них откликается многое из доселе не уясненного, бегло прочитанного. И на самого раннего Заболоцкого вдруг по-новому откликнется Ломоносов или Державин, Тютчев или Баратынский, Пушкин или Лермонтов. Так, наверное, лондонцы после выставки известной картины Мане вдруг заметили, что туманы у них — розоватые, а не серые, как казалось.
Тема нового мирового порядка в поэзии Заболоцкого вызревала прежде всего из XVIII века, века русского Просвещения и торжества неученой, необразованной, неискушенной поэзии. Из «незнающего русского языка» Державина, для которого человек — трагическое соединение истлевающего в прахе тела и повелевающего громам ума, червь и бог в одном лице, «крайня степень вещества», смерть для которого одновременно и страх, и великий стимул жизни. А жизнь — небесный дар страдающей, мучающейся и силящейся осознать себя природы.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет...
Приемлем с жизнью смерть свою...
Не мнит лишь смертный умирать
И быть себя он вечным чает...
Но:
Где стол был яств, там гроб стоит...
Не эти ли ужасные вопросы будоражат «темных» крестьян из «Торжества Земледелия» и совсем не трогают «образованных» жителей городских столбцов:
Крестьяне, храбростью дыша,
Собираются в кружок,
Обсуждают, где душа?..
Или:
Скажи по истине, по духу,
Живет ли мертвецов душа?
Не этот ли первобытный ужас переполняет Державина в стихотворении «На смерть Мещерского»:
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем.
А с точностью до наоборот описание пищи на столах у Заболоцкого? «Шекснинска стерлядь золотая» разве не напомнит нам «колбасу кишкой кровавой»?..
С XVIII веком раннего Заболоцкого роднит необразованность, незнание того, что ученые знают или притворяются, что знают, и желание понять тайну «трепета естества и страха», а также все то, что ученый и искушенный уже Пушкин называл у Державина переводом с татарского подлинника.
(Забегая вперед отметим, что творческая эволюция Заболоцкого шла от Державина и Хлебникова (странный путь, если учитывать, что Хлебников — поэт XX века!) к веку девятнадцатому, к Тютчеву, Пушкину, а затем и к современной советской поэзии. Заболоцкий начал с того, что тоже «не мнил умереть» и «быть себя вечным чаял», переводил с «марийского подлинника». А потом мучительно легализовывался в литературный процесс 30-х и 40—50-х годов из «неученой» в более понятную космополитичной, социально «заточенной» образованщине тех лет «ученую» поэзию. Из мечты о «новом мировом порядке», в реальный «социалистический порядок». С середины 30-х годов он начинает заново перечитывать отвергнутого и многократно осмеянного обэриутами Пушкина, а затем, в ГУЛАГе, Лермонтова, Тютчева, Баратынского и др. Вернувшись из Караганды, Заболоцкий, можно сказать, лишь повторил свои старые песни, правда, более понятным языком и слогом. Его поздняя лирика недаром отзывается то Пастернаком, то Тютчевым, то Тихоновым, под которых он невольно подстраивает, как это ни горько, свою лиру. Поздний Заболоцкий — это ответы на все те же мучительные вопросы о феномене человека во вселенной («На то, чтоб умереть родимся?»), ответы уже «ученого» поэта на вопросы молодого, «неученого». И ответы эти его не утешили. В бессмертие души, судя по «Завещанию», он так и не поверил. Но и летать после смерти над головой далекого правнука медленной птицей, проливаться летним дождем, ощущать себя в природе, как «мысль ее, как зыбкий ум ее» — его религиозному чувству было явно недостаточно... Несмотря на огромный интерес к Евангелию, там, внизу, среди «корней, муравьев, травинок и столбиков из пыли», в кругу «щепочек и сосков сирени», умершие друзья все же так и не могли вспомнить его, «наверху оставленного брата».
Благодаря Заболоцкому (парадокс!) и Пушкин открывается с совершенно незнакомой стороны — как явление русского космизма. Пушкиноведы любят почему-то подчеркнуть его «равнодушную природу». Как чуть что, так «И равнодушная природа... И равнодушная природа...». А ведь его Поэт в минуты вдохновенья бежит, простите, не в библиотеку, а «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы», к природе. К равнодушной в такие минуты не бегают. Значит, там, у подножия жизни, в мире бессмертных деревьев, камней и волн, он искал и находил для себя ответы. Не равнодушная она у Пушкина, это всего лишь поэтический троп, подчеркивающий разные эмоциональные состояния вечной, и потому спокойной природы и скоротечного волнующегося человека. Перед тем, как исполниться волею Все- вышнего, восстать пророком и глаголом жечь сердца людей, услышать голос Бога, Поэту почему-то необходимо услышать голос природы, причем, самой низшей, вспомнить свое темное прошлое:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
А сочувствие к прозябанью дольней лозы, к ее растительной, но живой тоске существования — и есть существо русского космизма. Тут шаг до того, чтобы расслышать голоса семени овса и гусеницына носа...
Несомненна связь с Тютчевым, который рассказал о других, об ученых, но глухонемых. О тех, для кого природа — вещь для себя, немая, мычащая, бессловесная пища. Я имею в виду его гениальную стихотворную отповедь Гегелю, который оставил Природу по ту сторону духовного, отделил Природу от Духа, а Человека от всего Живого, подготовившего, если брать широко, идеологию Мирового буржуазного хозяйства:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Это о Природе. А вот о них, — о госпоже гордыне, об «антихристе всеобщего дела» глобализме, о философах потребления, о тех, кто «не видит и не слышит, живет в сем мире, как впотьмах», для кого и «солнца ... не дышат, и жизни нет в морских волнах», при ком «леса не говорили, и ночь в звездах нема была».
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!
Тут уж недалеко до разговоров «звезды с звездою» Лермонтова и до говорящего камня Заболоцкого, до лика Сковороды, до Баратынского с его гимном естественному человеку, который, пока «естества не пытал горнилом, весами и мерой», внимал вещаньям природы и любил ее, был взаимно любим и ею. Разрыв с природой произошел после того, как:
... чувство презрев, он доверил уму,
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.
Заболоцкий с его новым мировым порядком вышел из русской поэзии XVIII—XIX веков, создав из ее слов и россыпи гениальных догадок о родстве всего сущего золотой сон о всеобщем братстве и все- единстве живого вещества.
Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней,
Внимательный! Он знает крик звериный...
И в ветхой роще рокот соловьиный,
И зная все, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
.................................
И если б человек увидел
Лицо волшебного коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!
По моему мнению, Заболоцкий достоин звания небожителя русской поэзии только за этот эпитет «внимательный». Чуткий конь, слушающий говор листьев и камней, по верности натуре и силе образа сравним разве что со знаменитым скифом, стреноживающим коня, что в собрании Эрмитажа. А сколько тайных и явных перекличек с русской поэзией XIX века! И крик звериный, и рокот соловьиный, и чудесные виденья, и вырвал бы язык. И какое неожиданное освещение русской поэзии, которая, кажется, только и занималась космизмом, только и думала о новом мировом порядке, основанном на всеединстве и всеобщем братстве живого. Словно поэты разных поколений и поэтических эпох думали и работали по единому, кем-то заранее составленному плану, а стихи Заболоцкого только высветили его, показали преемственность усилий.
А ведь русский космизм, как явление жизнетворчества, связан тысячами капилляров еще и с живой жизнью: с природой, с близостью к ней самого человека, с нашей географией, с ветхозаветным земледелием XIX века, с непритязательностью русского человека к материальным благам и, одновременно, с его высоким религиозно-нравственным и интеллектуальным потенциалом. Недаром и Л. Толстой, и Н. Федоров, и Ф. Достоевский «ошибались» именно по этой части. Народные чаяния о молочных реках и кисельных берегах и Беловодье, вся народная культура — и устная, и книжная, и религиозная — говорят о единстве человека с природой. Тут вам и пословицы, и мириады погодных примет, и песни, и сказки, и Сивка-Бурка вещая каурка, и Серый Волк, и братец Иванушка, обратившийся в козленка, и герой чудесной сказки, который похлебал у чумаков похлебки и обрел способность понимать язык животных, что, кстати, и спасло его. А Серафим Саровский, который ходил молиться в лес, ставя икону на березу? А горлица, которая и поныне поет верующему на человеческом языке: «Покайтесь! Покайтесь!» А ласточки, которые щебетали знающим: «Мужики в поле, мужики в поле, бабы за яишницу!» А жития русских святых, в которых медведи носят заболевшим отшельникам воду и дрова? А поэтические утопии Хлебникова об озерах с посеянными в них особыми водорослями, которыми люди могут питаться, щадя природу и не отвлекаясь на уродский труд. Да, творческий труд создал человека, а уродский труд «Столбцов» его же убьет...
Стало общим местом делить книгу «Столбцы и поэмы» на столбцы и на поэмы. И остается удивляться, что кому-то нравятся только столбцы, кому-то только поэмы. Столбцы за яркую сатиру опролетарившегося и омещанившегося города. Города эдаких уродливых, обжорных, невежественных шариково-ивановых. Поэмы за высокую духовность, за беспредельную утопию. Нет, не русскую и не советскую жизнь подвергал осмеянию Заболоцкий в столбцах, было бы слишком просто, если бы это было так. Вполне допускаю, что столбцы с их карикатурой на действительность испытали влияние социальных идей обэриутов. Но без поэм столбцы так и остались бы фактом истории советской поэзии 20-х годов XX века, как стихи Хармса, Введенского, Олейникова. Именно поэмы вывели имя Заболоцкого на орбиту мировой поэзии. В столбцах осмеян не нэп какой-то, не похоть и обжорство питерского мещанства, а сам мировой порядок, по которому живет все человечество. Ну, больше специй кладет в разрезанный трупик барана армянин, ну на подсолнечном, а не на оливковом масле на примусе жарит рыбу Иванов, ну, прежде чем жарить труп животного, еврей выпускает из него всю кровь. Главное, что жарят трупы. Тут за сатиру не спрячешься и русской грязью свою и вселенскую грязь не отмоешь. Хотя попытки перевести стрелку на национальное были и есть и у самого Заболоцкого, и у его толкователей.
Большой натяжкой выглядит связь «Столбцов и поэм» с фламандской живописью и нэпом. Заболоцкий брал «налево» и «направо» потому, что человечеству, казалось ему, о новом мировом порядке не думать уже нельзя, если оно хочет остаться человечеством. Фламандцы, кстати, здесь совсем не в жилу, так как они любовались на своих натюрмортах будущей пищей, а Заболоцкий хотел вызвать к ней отвращение. Чего стоит «цыпленок, синий от мытья», который «наморщил разноцветный лобик», или «трупы вымытых животных», что «лежат на противнях холодных». Это фламандцы? Нэп и фламандцы попали в аргументацию толкователей из благих намерений Н. Степанова отвести взгляд партийных критиков от подлинной идеи поэм Заболоцкого. А она претендовала не менее как на новый мировой порядок, в котором ужи шьют перчатки, а волки смотрят в телескоп. Конечно, новый социалистический человек чувствовал себя на его фоне достаточно ущербным. Ошибочным мне видится и мнение о том, что поэт исчерпал тему города в столбцах и потому перешел к поэмам. «Столбцы и поэмы» — целостная книга и рассматривать ее нужно только как книгу целостную. Мне кажется, жанр ее более связан с идеями Н.Ф. Федорова, разделявшем мир на городской и сельский. Городской мир — мир столбцов, «мир унижения и позора ума человеческого, приближения человека к животности». Мир сельский, деревенский, по Федорову, тоже мир несовершенный, но все же единственно способный к совершенству своей близостью к праху отцов (к кладбищу, где «залог величия» человека) и к природе. Что касается сатиры на городскую жизнь, темы неприятия города, то ведь это одна из главных тем русской поэзии XX века не только у Заболоцкого. Разве антигородской пафос крестьянской поэзии 20—30-х годов не напоминает столбцы Заболоцкого? Клюев, Есенин, П. Васильев и все, кому досталось от критиков-марксистов за идеализацию русской деревни, разве говорят не о том же? И разве идеализация деревни не стала темой русской поэзии да и литературы XX века? «Столбцы и поэмы» именно так и разделены. Ужасный город, поедатель трупов, с культом низа и благолепием тления, с рыбными лавками, мясными рынками, барами, футболом и мещанским бытом видится поэту как обман его мечтам о братстве и всеединстве — это «Столбцы». И мир сельский, где крестьяне собираются в кружок, чтобы обсудить главное, что должно беспокоить человека: «Где душа? Почему природа мучит человека, превращая его в старика? Понимает ли природа происходящее или нет? Больно ли цветам, когда их косят и сметают ударом ног? И не пойдем ли мы обратно, если будем лишь рожать?» — это «Смешанные столбцы» и «Поэмы». Заболоцкий соединил обе темы и высек из них тоску по новому мировому порядку. Именно здесь мы находим знакомую нам по Федорову, Вернадскому и Циолковскому идею нового мирового порядка. Причем, в поэмах Заболоцкого не человек, сама Природа, не дождавшись от него конских свобод, стала на путь освобождения, обретая язык, разум, пытаясь воссоздать то, что было по неведению и человеческой гордыне разрушено. Вот почему старый мировой порядок новые герои Заболоцкого отвергают, вот почему Бомбеев прямо заявляет: «И нам порядок твой не нужен: /В нем людоедства страшные черты».
А Лесничий провозглашает «деревянный, простой, дремучий, честный век», век, когда животные уподобятся растениям, научатся брать пищу из земли и солнечного света. Еще ранее, в стихотворении «В жилищах наших» Заболоцкий рисует процесс рождения фантастического одервенения человека:
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно дервенеют вены,
И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки.
Глаза закрылись, времена отпали,
И солнце ласково коснулось головы.
В ногах проходят влажные валы,
Уж влага омывается, струится,
И омывает лиственные лица:
Земля ласкает детище свое.
А вдалеке над городом дымится
Густое фонарей копье.
Образ человека-дерева, созданный поэтическим гением Заболоцкого, достоин стать в один ряд с такими мифами человечества, как миф о кентаврах, древе жизни и живой воде, которая из него изливается, об иерогамных браках, браках с деревьями. А образ сознающего и говорящего камня вообще не имеет аналогов в мировой культуре.
Говоря о космизме в раннем творчестве Заболоцкого, нельзя обойти еще одну важную тему — тему социальную. В начале XX века в России на смену ученому, знающему Гегеля и Канта, рефлектирующему, оторванному от жизни человеку пришел «державным шагом» человек не-ученый, человек-делатель, переустроитель жизни и природы, готовый ценой собственной жизни решать свои социальные, материальные и духовные проблемы. Эту «смену пород» в российском обществе Блок сопоставил с новым явлением Христа, пришедшего, как известно, не нарушить, а исполнить. Но что исполнить? Среду ли переустроить, или самого человека? — вот вопрос. Произойдет переустройство по национальному, классовому или какому другому признаку? Заболоцкий видел исполнение только в преображении самого человека. В поэме «Рубрук», например, движителем истории становятся не социальные энергии, а природные, небесные, космические. Поэт очень близко подходит к идеям Георгия Вернадского и Льва Гумилева. Волны нищих духом природных людей, кочевников, вот-вот готовы смыть западную цивилизацию и христианскую веру, как некогда вымершие гунны смыли римскую и дали толчок к великому переселению народов. Нет ли в этих катастрофических волнах живительной силы, очередного опыта Природы, которая, как гончар, сминает свои неудавшиеся творения, чтобы на их месте создать новые, более совершенные? Ибо: «Приходят боги, гибнут боги, / но вечно светят небеса!» И: «Здесь был особой жизни опыт, / Особый дух, особый тон». И:
Вы рады бить друг друга в морды,
Кресты имея на груди.
А ты взгляни на нагни орды,
На наших братьев погляди!
У нас, монголов, дисциплина,
Убил — и сам иди под меч.
Не вспомнил ли Заболоцкий о кичливой Европе, которую недавно освобождал русский не очень культурный солдат. Не очень культурный? Но ведь и во времена первохристианства мировое сознание перевернули не академики, не умудренные талмудом книжники и фарисеи, не цитирующие Платона, Аристотеля и Сенеку латиняне и греки, а безграмотные плотники и рыбаки, поверившие и спасшие своей любовью человечество от взаимоистребления, понесши по миру главный завет: «Да любите друг друга!». Теория марксизма, тактика и стратегия революционной борьбы, история ВКПб, пятилетние планы — это всего лишь сектантские, скороспелые, временные объяснения тех глубинных изменений в человеке, которые привели в России к революции и которые оказали и еще будут оказывать огромное влияние на историческое развитие человечества. Без осознания этого сдвига невозможно понять ни революции, ни энтузиазм первых пятилеток, ни порыв к всеединству и союзу народов, ни победу красных над белыми, ни строительство нового мирового порядка, основанного на всеобщем братстве, который все равно придет, как бы кто этого не хотел. Как гениально выразил этот почти инстинктивный порыв к новому мировому порядку В. Маяковский:
Мы диалектику учили не по Гегелю,
Бряцанием боев она врывалась в стих,
Когда под пулями от нас буржуи бегали,
Как мы когда-то бегали от них.
«Мы академиев не кончали», — сказал еще один осмеянный нашей образованщиной герой, подтвердив еще раз, что не теория и философия ведет человечество по таинственному пути истории, а Небо и Провидение...
Если все вышесказанное перевести на язык литературных примеров, то на смену Онегиным, Печориным, Лаврецким, Карениным, Раневским, Передоновым, Саниным пришли Максим Максимычи, Хори и Калинычи, Поликушки, Герваськи и все бестиарные с точки зрения первых типы предреволюционной бунинской деревни, и Гришка Мелехов, и Давыдов, и Разметнов, и все герои Андрея Платонова. Кстати, герои Платонова по большей части не помнят родства, не знают родословия. Это особый признак. Герои Платонова произошли как бы непосредственно от матери-природы, от этой гады бестолковой, они все живут без гордыни крови, но это не Иваны, родства не помнящие. Их общая мать — природа, она их создала, а теперь пришел черед им пересоздавать ее. Это совершенно новая задача, вера и мироощущение, мироощущение человека новой веры. Вот почему Пухов спокойно режет колбасу на гробе своей жены, он ведь знает, что смерть жены только эпизод их жизни, и едет воевать с белыми, которые враги только потому, что мешают борьбе с главным врагом — гадой бестолковой. Это и герои поэм Заболоцкого: Лодейников, Бомбеев, Солдат, Безумный Волк. Чем-то похож был на этих героев и сам Заболоцкий 20-х годов. Недаром один из идеологов обэриутов Липавский, как о том свидетельствует Никита Заболоцкий в книге «Жизнь Н.А.Заболоцкого», говаривал Хармсу: «Его поэзия — усилия слепого человека, открывающего глаза. В этом его талант и величие. Когда же он делает вид, что глаза уже открыты, получается плохо»... Слепой оказался более зрячим, он видел сердцем, это Заболоцкий доказал своим творчеством.
Вопрос: «Почему так внезапно завершился научно-утопический период творчества?» также все еще не решен, и решить его можно только по вере Заболоцкого. Заболоцкий, судя по его творчеству, был человеком, более верящим в науку, чем в Божественное Провидение. Но ведь идеи космизма без высшей религиозной идеи, одухотворяющей науку и человека-делателя, теряют свой высокий смысл, обмирщаются до идеи великого Котлована, только уже не на земле, а на небе. То, что мы и видим сегодня — космическое пространство, превращенное во всемирную помойку, в замочную скважину государственных и промышленных секретов, в место бандитских засад, из которых выцеливают детей и старух и подсказывают бандитам на земле, где им получше спрятаться и поглубже спрятать свои деньги, чтобы не нашли.
Размышляя в 30-е годы о времени, когда не только бомжи, но и липы пошлют в Верховный совет своих полномочных представителей, Заболоцкий был недалек от вывода, что без социальной гармонии солнечный свет может стать пищей рабов, как стали ею сегодня соевая колбаса и сыр. Или за место под солнцем начнутся такие же кровавые бои, как и за место на земле. Вспомним поэму «Лодейников»:
Огромный лес травы вытягивался вправо,
Туда, где солнце падало, светясь,
И то был бой травы, растений молчаливый бой...
Одни, вытягиваясь жирною трубой
И распустив листы, других собою мяли
Другие лезли в щель
Между чужих листов. А третьи, как в постель,
Ложились на соседа и тянули его назад, чтоб выбился из сил...
Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Рожденный высокой религиозной идеей русский космизм в 30-е годы превращался, как и предсказывал еще в XIX веке Н.Ф. Федоров, в государственный технократизм и милитаризм. Ну, пошлют липы в совет Верховный своих депутатов, а там их заголосуют. Ну, освоит человек автотрофное питание, а как придет время и поверхность земли станет мала, и начнут люди изводить друг друга из-за места под солнцем, как изводят друг друга в лесу растения. Ну, создадут колхозы, а в нем у человека паспорта отберут и начнут управлять из райкома, как бессловесной природой. Утопическая идея нового мирового порядка превращалась в 30-е годы в великую пародию. Да и сама поэма «Торжество земледелия», где «волк с железным микроскопом звезду вечернюю поет», бабочек учат труду, а ужу дают уроки по прядению и шитью перчаток, звучала пародийно. Ведь это писалось в годы великого перелома русской деревни! Шло раскулачивание деревни, не хватало элементарной пищи, нужно было догонять Европу по уровню жизни, доказывая преимущество социализма в роковой гонке потребления и людоедства. Людей в голодных краях России действительно стали есть, а нельзя художнику и мыслителю в годы реформ так далеко забегать вперед мыслью. Вместо лошадиного института колхозная Россия при Хрущеве полностью извела лошадей, а сегодня посткоммунистические реформаторы извели уже и коров, и коровьи дворцы, да и сеять во многих районах почти перестали. Россию столкнули к мировому порядку людоедства и потребительства. Здесь, наверное, и кроется ответ на вопрос, почему так внезапно онемел в 30-е годы Заболоцкий. И почему после первой книги «Поднятая целина» замолчал Шолохов, почему не стал Никита Моргунок героем колхозной поэмы Твардовского. Вообще анализ «Поднятой целины» Шолохова и «Торжества Земледелия» Заболоцкого чреват открытиями. Ведь и социально-бытовой, и научно-утопический показ русской деревни в годы великого перелома оказались переломными для творчества двух писателей. Чтобы защитить богатства социализма, в России началось спешное строительство государственного капитализма, началась борьба двух мировых порядков, которая закончилась самой кровопролитной в истории человечества войной, для нас Великой Отечественной войной. Слово Отечественная вдруг словно бы пришло из глубин философии Федорова, потому что без этого понятия, слишком дорогого для всякого русского человека, война вряд ли окончилась бы победой, а значит, мы снова вспомнили и об отеческих гробах, и о родимых пелищах. А потом опять забыли, заслушавшись старых сирен.
Неизученным осталось и отношение Заболоцкого к церкви, православию. Те фрагменты, которые встречаются в «Столбцах и поэмах», говорят, скорее, об индифферентном отношении автора к религии, как к культу, и негативном к служителям культа. Попы в его столбцах не батюшки, а всего лишь обрядовые фигуры, попы. Они ругаются, хохочут, поют, «как бубен», трясут ногами, ревут обедню, «сидят, как башни, перед балом », воют, ударяют в струны золотые, сравниваются с самоваром; «Отче наш» у него читают весы, бездомного кота он называет монахом помойного ведра. А вот пример из «Торжества земледелия»:
Забитый бревнышком навозным,
Шатался церкви длинный кокон,
На рейках книзу головой
Висел мышей летучих рой,
Как будто стая мертвых ведем
Спасалась в Риме этом третьем...
А ведь Заболоцкий неплохо знал Библию, относился благочестиво к Священному писанию, был чувствителен к народному обряду поминовения. Назвать его атеистом было бы ошибкой, скорее это старообрядческая традиция отношения к служителям культа, которая особенно крепко вкоренилась в религиозное сознание за Уралом и в Сибири. Да и в центральной России была достаточно сильна. «Попы обиралы и обжиралы, сами курят и пьют, толстопузые и т.д.». А пушкинские попы? Думается, прояснение этого вопроса может пролить свет на одну из причин творческого кризиса Заболоцкого в 30-е годы.
К мечте Заболоцкого и Бомбеева построить другой мировой порядок, основанный не на философии потребления, не на людоедских орудиях убийства, не на пожирании трупов, а на основе «внесения в при- роду воли разума» (Н. Федоров), человечество еще и не приступало. Оно с еще большим наслаждением поджаривает трупы и поглощает и их, и невосполнимое земное вещество, наивно думая, что безумный пир этот продлится бесконечно. Мечта его пока не выходит за рамки интенсификации мирового хозяйства, выраженного еще Либихом, мечтавшим избавить человечество от проблем, вырастив два колоса там, где сегодня растет один. Уже растут пять, где рос один, но проблем не убавилось. Печально, что пока и практические открытия русского космизма направлены на поддержание старого порядка, одетого в овечью шкуру глобализма.
И сегодня т.н. «цивилизованное человечество» по отношению к природе, к живому — хищный, безжалостный и умный волк. Настроены фабрики по добыванию мяса. Заболевших животных и птиц уничтожают десятками тысяч. Жадное и ненасытное, оно придумывает себе все новые и новые жертвы. Поедая себе подобных, покупая у бедных органы для ремонта тела богатых, грозясь выпустить из колб клонированных людей, оставляя вокруг себя пустыни и отвалы, болота и свалки, оно пожирает, даже понимая, что вечно так продолжаться не будет, что это путь в никуда. К несчастью, и Россия, страна, где родилась философия нового мирового порядка, философия общего дела, где она оформилась в дивные художественные образы Тютчева, Баратынского, Заболоцкого, Хлебникова, и Россия сегодня совлечена со своего умом не понятого пути к общемировому безумству пожирания собственной плоти.
И природа, и человек, и в особенности Россия последнего десятилетия устали от небратских отношений, как никогда. Если со свободой и равенством у нас все в порядке, то с братством!.. Даже беглого взгляда на любую российскую помойку достаточно, чтобы убедиться в глубочайшем небратском отношении человека к человеку. Сегодня у нас не братья — братки. Братки уголовные и диаспорные, что, в общем-то, суть одно. И потому поэтический мир Николая Заболоцкого, в котором о братстве вопиют даже камни, с каждым годом будет предъявлять свои права на осознание и воплощение.