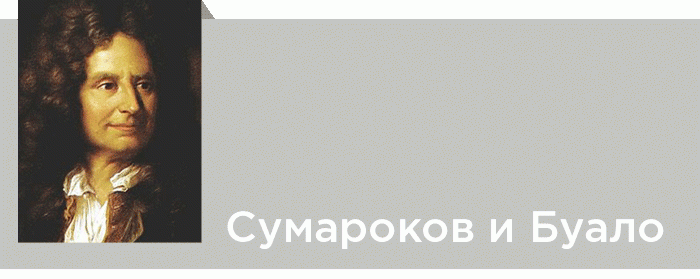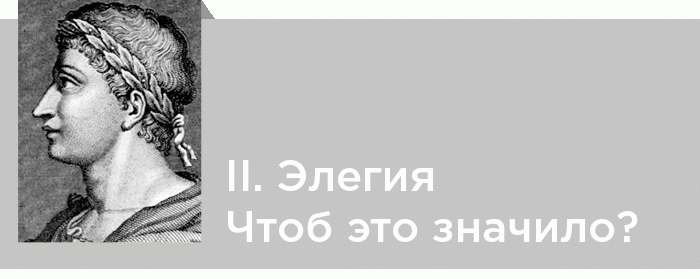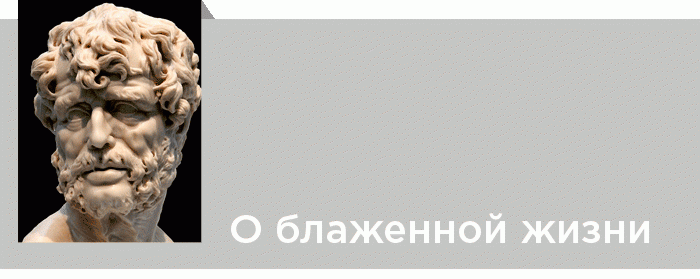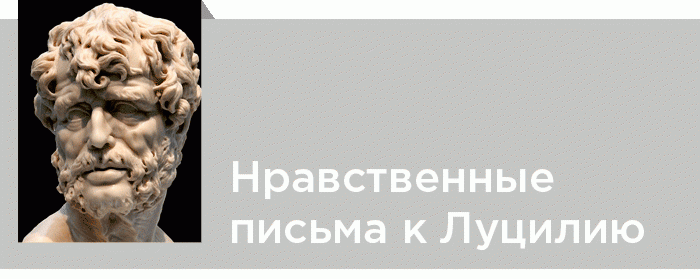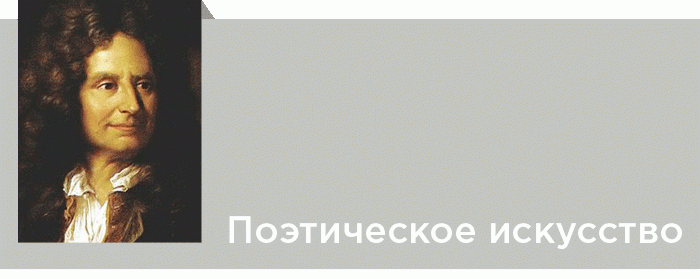Концепция комического у Сенеки

Т. Г. Мальчукова
Высказывания Сенеки о смехе и смешном, единичные, затерянные в его обширном философском наследии, не привлекали еще внимания исследователей. Ни в изложениях стоической эстетики, ни в специальных исследованиях («Сатиры на смерть императора Клавдия») о концепции комического у Сенеки даже не упоминается. Вопрос этот не безынтересен, однако, и применительно к самому Сенеке, чей привычный психологический облик моралиста и проповедника кажется настолько несовместимым с умонастроением комического писателя, что вплоть до последнего времени периодически возобновляются сомнения в атрибуции ему этой сатиры. Если же иметь в виду исключительное положение этого разнообразного и плодовитого писателя, философа, властителя дум в современной ему культуре, а также распространенность в его время комических и сатирических жанров, то взгляды Сенеки на смех и смешное приобретут и более общее значение. Оценка и понимание смешного определяется у философа-моралиста его этической позицией.
В трактате «De ira» Сенека, стремясь освободить душу своего современника от аффекта гнева, пишет: «На отдельных лиц распространяется строгость военачальника, но необходимо прощение, когда бежало все войско. Что уничтожает гнев мудреца? Толпа порочных. Ведь он понимает, сколь несправедливо и опасно гневаться на общественный порок».
Противопоставляя здесь две жизненные позиции: одну — частную, партикулярную, а другую — общую, универсальную, Сенека призывает своего современника быть философом, то есть встать на универсальную точку зрения. Универсальное отношение к миру имеет две эмоциональные формы. Цитируем дальше трактат «О гневе»: «Гераклит, когда выходил и видел вокруг себя стольких плохо живущих и еще больше худо умирающих, плакал и сожалел обо всех веселых и счастливых, бежавших ему навстречу; он человек нежной, но слишком слабой души и сам достоин слез. Демокрит, напротив, говорят, никогда не был без смеха на людях; ведь ничто из того, что делается так серьезно, не казалось ему серьезным». Те же мысли высказываются в трактате «О спокойствии духа», написанном в 62 году, примерно, через пятнадцать - двадцать лет после трактата «О гневе»:
«Нужно, чтобы пороки толпы казались нам не ненавистными, но смешными; будем лучше подражать Демокриту, чем Гераклиту. Ведь один плакал, когда выходил к толпе, другой — смеялся; все, что мы делаем, казалось одному — несчастьем, а другому нелепостью. Нужно переносить все с легкой душой; человечнее осмеивать жизнь, чем оплакивать. Пусть каждый исследует отдельные причины, по которым мы веселы или печальны, и он признает, что прав Бион, сказав: «Все занятия людей подобны комедиям, и жизнь их не более почтенна или серьезна, чем черновые наброски». Но лучше воспринимать общественные нравы и человеческие пороки спокойно, не разражаясь ни смехом, ни слезами. Ведь мучиться чужими несчастьями — вечная мука, а наслаждаться ими — бесчеловечное наслаждение».
В данном случае Сенека утверждает άπάθ-εια — бесстрастие стоического мудреца. Ссылаясь в обосновании темы своего трактата на Демокрита и следуя в учении об эвдемонии Панетию, который склонен истолковать жизнеощущение философа положительно — как благорасположение духа, Сенека трактует их эвтимию только как постоянный ненарушимый душевный покой — tranquillitas animi.
В смехе для него неприемлем оттенок своекорыстного наслаждения от сознания собственного превосходства. Тем более, что это превосходство часто оказывается мнимым и тогда насмешка становится орудием самоутверждения или даже жизненного успеха. «Смех обнаруживает наглеца, и в шуте насмешник соседствует с параситом и льстецом. Сенека осуждает людей, которые изощряют свое остроумие в порицании других и, надев маску Сократа, обращается к ним со следующей речью: «Что за безумие, что за враждебная богам и людям страсть бесчестить добродетели и оскорблять злыми речами святыни... Если вы хотите упражнять эту отвратительную свободу речи (taetram istam licentiam), нападайте друг на друга: ведь когда вы безумствуете против неба, вы, не говорю, кощунствуете, но даром тратите труд. Некогда я дал Аристофану повод для шуток.Все комические поэты осыпали меня своими ядовитыми стрелами: (И что же? — Т. М.) моя добродетель прославилась благодаря этому». Характерно, что Сенека порицает свободу речи — παρρησία, которую так превозносили киники; они считали откровенную насмешку орудием исправления человеческого рода, уподобляя себя врачам, дающим больным горькое, но целительное лекарство. У Сенеки философ тоже смотрит на толпу, как врач на больных. Но моральное исцеление он связывает скорее с серьезным увещеванием, чем со смехом. Другу своему, насмешнику Марцеллину, человеку сильного, хотя и ложно направленного ума, Сенека собирается противопоставить именно моральное увещевание: Марцеллин «будет делать, что обычно: призовет шутки, которые способны вызывать смех даже у плачущих, и будет шутить сначала над собой, потом над нами. Он упрекает философов в корыстолюбии, сладострастии, пьянстве, он уличит одного в прелюбодеянии, другого покажет в трактире, третьего во дворце... Пусть он вызовет у меня смех, я, может быть, исторгну у него слезы6». В данном случае Сенека признает правомерность смеха Марцеллина над философами и сам соучаствует в нем, в другом письме он призовет философов к осторожному и осмотрительному поведению, дабы то, что кажется им самим прекрасным, не показалось толпе смешным и ненавистным.
В приемлемом для Сенеки смехе будут полностью отсутствовать ненависть, злорадство и своекорыстие. Смех Марцеллина вызывает сочувствие уже потому, что тот смеется сначала над собой, а потом над философами. Некий шут Сателлий Квадрат получает одобрение, когда вопреки своему личному интересу и корысти осмеивает своего недалекого хозяина. Мудрецу же его незапятнанный дух повелевает порицать пороки не из-за ненависти, а ради исцеления. Мимы, правдиво изображающие современную порочность, также снискивают у него похвалу. «Если я когда-нибудь захочу насладиться дураком, — пишет Сенека в письмах к Луцилию, — мне не нужно далеко ходить: я смеюсь над собой. Причем Сенека не ставит это в зависимость от какого-либо своего поступка: его смех не имеет частного повода и частного объекта: в себе он осмеивает общую глупость. Точно так же он вымучивает не поименно названных философов, но их софистические выдумки: «Я громко хохочу, когда представляю себе, что и солецизм живое существо, и варваризм и силлогизм и, будто художник, рисую их формы. И это мы обсуждаем, нахмурив брови и наморщив лоб. Я не могу сказать об этом словами Цецилиана: «О печальные безделицы! Ведь они смешны».
Приведенные суждения Сенеки, кроме упоминания «смеющегося Демокрита, явно примыкают к концепции Аристотеля, где комическое имеет объективный характер, рассматривается как некий вид частного безобразия и уродства, где смежное противостоит и далеко уступает в значении серьезному и где, наконец, смеху и смешному отводится определенное и строго ограниченное место и время. В духе этой традиции Сенека осуждает ямбическое направление с его грубой и откровенной насмешкой и произвольным, не соответствующим нравственной градации выбором объекта осмеяния.
Образ Демокрита, смеющегося над людской жизнью, ведь «ничто из того, что делается так серьезно, не казалось ему серьезным», приводит нас к другой античной концепции комического, где смех рассматривается как универсальная миросозерцательная форма, а поэтому соединяется с серьезностью, образуя, иронию Сократа или серьезно-смешное — σπουδαιο γελοΐον кинико-стоической философии. Подоснову такого мироощущения составляет общее всем названным философам осознание своей независимости от реального мира частных стремлений и страхов, которое, однако, обладает в каждом отдельном случае ощутимыми модификациями.
Ирония Сократа, комического героя на сценах жизни, запечатленных Платоном, включает в себя и самоунижение, и разоблачение противника-аладзона, и отрицание общепризнанных жизненных ценностей и является методом, орудием, инструментом познания истины. Положительный, серьезный момент сократовской иронии, ее цель — обнаружение истины, добродетели, сатирический ее смысл — в отрицании общепринятых мнений.
Впоследствии сократическая ирония теряет свой положительный аспект, растворяя его в сатирической стихии. В отличие от «ничего не знающего» Сократа герои кинико-стоической философии и сатирической литературы Демокрит и Менипп несут в себе все знание и осуществляют в себе идеал добродетели, но и это знание и этот идеал чисто отрицательные — презрение к миру частных интересов, практической жизни и общепринятых ценностей Формально сохраняя название серьезно-смешного, исповедуя принцип — смеясь, говорить правду — ridendo dicere verum, римская и греческая сатира ограничивается только комическим изображением, ибо представить отрицательную правду, свободу от земных желаний и страхов можно только, осмеивая эти страхи и желания.
Справедливости ради следует сказать, что некий положительный аспект, правда понятый узко, в индивидуальном плане, в смехе Демокрита или Мениппа над жизнью все же есть. Антипод Демокрита — плачущий Гераклит оценивается у Сенеки как человек нежной, но слабой души. Эта слабость несомненно усматривается в подчинении аффекту печали. Слезы — печаль вместе с наслаждением, страстным желанием и страхом (λύπη, ήδονή, επιθυμία, φόβος) — главные аффекты, освобождение от которых считали своей задачей основатели Стой. Страх и печаль (timor et tristitia) выступают у Сенеки в сочетании. Смех, напротив, легчайший аффект души и к тому же совершенно лишен страха: «Многое, устрашающее нас ночью, день обращает в смех». Позднейшая философия сводит отрицательные аффекты к двум: страху и желанию. Освободившийся от них мудрец (qui пес сирit, пес timet) будет, по Сенеке, счастливым человеком. Безгранично свободный, а потому и счастливый смеющийся Менипп воплощает для сатирики Лукиана положительный идеал. Смех связан, таким образом, с осознанием внутренней свободы, составляя в некотором роде ее аффект, и превращается в ее знак.
Идеал внутренней независимости, начиная с Сократа, пребывает в греческой философии постоянно, но дистанция между мудрецом и неразумным, между философской и практической жизнью — увеличивается. Если Сократ у Платона соучаствует в комедии жизни, играет на одних подмостках с каменщиками, валяльщиками, софистами, поэтами..., здесь отношения внешне равны, а осмеяние обоюдно, то в последующей кинико-стоической традиции, в частности у Сенеки, Сократ приподнят над жизнью, превращен в святыню, в Мудреца, который с высоты созерцает течение времени, громко смеясь — ex alto prospicit et cum multo risu seriem temporum cogitai.
Подобная точка зрения приводит к концепции жизни как сценической игры. Эквивалентный жизни образ игры, употребительный уже у Гераклита, получает развитие и углубление у Платона и в дальнейшем становится общим местом кинико-стоической философии. Уподобляя жизнь сцене и человека актеру, Бион Борисфенит и Аристон Хиосский утверждают независимость ценности человека от его судьбы и призывают мудреца хорошо сыграть свою роль, безразлично, досталась ли ему роль счастливца, или несчастливца, Терсита или Агамемнона.
Это сравнение превращается у Сенеки в метафору. Оба его члена: актер, у которого богатый костюм прикрывает жалкие отрепья, и человек, внешний блеск и импозантность которого скрывают внутреннюю беспомощность и ничтожество, — свободно заменяют друг друга в повествовании. Смещаются акцепты и в противоположность прежнему употреблению подчеркивается несоответствие внешней видимости внутренней сущности. Контраст будет всегда нисходящим: сущность всегда хуже видимости, а не наоборот. Уподобление приобретает у Сенеки оценочный характер. Воспользовавшись традиционными гомеровскими именами, можно сказать, что человек для Сенеки — это Терсит, изображающий Агамемнона: «Тот, кто гордо выступает на сцене и надменно говорит: «Я правлю в Аргосе. Царство мне оставил Пелопс, страну, которая от Геллеспонта и Ионийского моря прилегает к Истму, в действительности же раб, получающий 5 мер зерна и 5 динариев.Тот, кто высокомерный, деспотичный, надменно уверенный в своих силах говорит: «Если ты не уймешься, Менелай, падешь от этой руки», — получает ежедневное содержание и спит в тряпье. То же самое можно сказать обо всех тех изнеженных, которых носилки поднимают над головами людей и толпой».
«Все, кого ты видишь в отороченных пурпуром тогах, счастливы не больше актеров, которым на сцене мифы дают скиптр и хламиду: ведь в присутствии народа они величественно выступают, обутые в котурны, когда же уходят, разуваются и возвращаются к своему росту». Человек, по Сенеке, как бы играет в жизни роль хвастуна-аладозона, претендующего на известные достоинства и поступки, не обладая ими. Нисходящий контраст между ролью и самим актером, между претензией и действительностью будет действовать комически. Этот комический контраст обнаруживается тем сильнее, что, вопреки призыву стоиков «хорошо сыграть свою роль», современники Сенеки — плохие актеры жизни: «Мне следует чаще пользоваться этим примером (имеется в виду сравнение человека с актером — Т. М. Ведь никто другой не выражает лучше эту драму человеческой жизни, что указывает нам роли, которые мы все плохо играем». Плохое исполнение ролей на сцене жизни связано с тем, что люди не постоянны, а многолики: «Мы покажемся тебе, то бережливыми и серьезными, то расточительными и суетными. Вдруг мы меняем роль и принимаем противоположную той, что оставили. Потребуй от себя, чтобы ты был до конца таким, каким решил представиться (вначале). Сделай так, чтобы тебя могли похвалить, или по крайней мере узнать. Об ином, кого видел вчера, по праву можешь спросить (сегодня). Кто это? Такова перемена». Частая смена ролей, переодевание, приводящие в неузнаванию, к путанице qui prò quo, как известно, предъявляется одним из характернейших приемов развития комического действия. Жизнь, называемая прежде игрой, сценой, драмой, трагедией и комедией, теперь однозначно становится ничтожной комедией.
Смеющийся Демокрит предстоит Сенеке как идеал в течение всей его жизни. Но это не значит, что в общем пессимистически настроенный стоик императорской эпохи отождествляет свое мироотношение с позицией радующегося своей свободе и осмеивающего мир мудреца. Редкий как птица феникс-мудрец, с громким смехом обозревающий с высоты весь мир — это сияющая цель, к которой Сенека движется вместе с другими любителями мудрости. Достижение цели мыслится на пути нравственного самоусовершенствования: каждый день Сенека избавляется от какого-нибудь порока и по сравнению с другими он все-таки скороход. Движение это хотя и мыслится поступательным, несомненно знает взлеты и падения, глубоко пережитые Сенекой и лично, и в судьбе его сословия, и в катастрофах его трагических героев.
В 54-56 годах, в начале еще не обманувшего ожиданий «золотого века», в апогее своей политической карьеры, Сенека, обласканный наставник еще не запятнавшего себя преступлениями императора, переживает такой взлет и соответственно, по собственному мироощущению, приближается к своему нравственному идеалу. На вершине личного счастья, владея высшей реальной свободой, которой только может пользоваться второе, или в крайности четвертое лицо в государстве (после императора, Агриппины и Бурра), Сенека в трактате «О счастливой жизни» ярко живописует фигуру мудреца-обладателя внутренней, т. е. идеальной свободой. В данный момент идеал жизни стоит перед Сенекой не как апатическое спокойствие души, но как позитивная радость жизни. На место апатии ставятся χαρά и εύθυμία. Свободного от страха и желаний мудреца «необходимо сопровождает постоянная веселость и исходящая из глубины души радость» (hilaritas continua et laetitia alta ex alto veniens).
Ощущение свободы, всесилия, бесстрашие и сопутствующие ему радость и искрящееся веселье проникают в атмосферу другого произведения Сенеки этой же поры «Сатиры на смерть императора Клавдия». Авторское и народное ликование, трактованное преувеличенно и космически — ведь оно приветствует начало благодатнейшего века (initium saeculi felicissimi) — имеет однако реальную политическую причину: «Все веселы, довольны (laeti, hilares). Народ римский разгуливал, будто свободный. «Нечего бояться, что позабудется событие, вызвавшее всеобщую радость (gaudium publicum), своего счастья (felicitatem) не позабыть никому: «Я знаю, что получил свободу с того самого времени, как преставился тот, на котором оправдалась поговорка: «Родись либо царем, либо дураком».
Осмеяние смерти и апофеоза императора Клавдия, а не изображение всеобщего ликования составляют тему и цель данного сочинения Сенеки. Это с полной очевидностью демонстрирует преобладание сатирической насмешки над радостью и весельем в истолкованном кинико-стоической традицией смехе Демокрита. Недаром впоследствии Ювенал отождествит демокритовскую позицию со своей.
Исполненная саркастической насмешки и злой иронии эта сатира многократно уничтожает Клавдия, которого Сенека заставляет потерпеть поражение на Олимпе, быть низринутым в преисподнюю, после чего он осуждается судом Эака, проигрывает в кости, становится рабом сначала Калигулы, и, наконец, собственною вольноотпущенника. Повествование разворачивается в сатире драматически и таким образом реализуется концепция жизни как смешной и ничтожной игры.
Реальные (смерть, погребение и апофеоз Клавдия) и фантастические (совет богов, травестированный в заседание римского сената, загробный суд) события и исторические фигуры (в том числе и дорогой сердцу каждого римлянина образ императора Августа) представлены в сниженном комическом плане. Но главным актером на этой комической сцене жизни является сам умерший император.
Клавдий является перед нами как аладзон, бахвал и выскочка, представляющийся мудрым, храбрым, милостивым, полновластным императором, а на самом деле он человек хилого сложения, ничтожного ума, слабой воли, раб собственных вольноотпущенников, убийца друзей и родных, без всяких на то оснований претендующий на апофеоз.
Отмеченный в характере Клавдия контраст между видимостью и сущностью, между ролью и актером как основное средство комического свойствен не только Сенеке, но исключительно распространен в комической литературе эпохи Нерона. Примерами такого рода будут герой первой сатиры Персия, уступчивый мальчик, эфесская матрона, выскочка Тримальхион, Эвмолпу Петрония и, наконец, длинная вереница врачей-убийц, немых риторов, безграмотных грамматиков, неподвижных бегунов и танцоров и им подобных в греческой скоптической эпиграмме. Такой принцип построения комического характера диктуется высказанной у Сенеки и несомненно разделяемой его современниками склонностью рассматривать мир как смешную комедию и людей как плохих ее актеров.
Созерцательный характер жизни римлян I в., исключительная приверженность их к зрелищам, среди которых большое место занимают промежуточные между сценой и жизнью виды (битвы гладиаторов, травли животных, разыгрывание мифов или морских и сухопутных сражений осужденными насмерть преступниками) — все это, венчающееся фигурой императора-актера, несомненно способствует такому мироощущению.
Таким образом, понимание комического у Сенеки обнаруживает известную двойственность, обусловленную двойственностью его этической позиции. Стоический императив практической деятельности и сама жизнь придворного философа и политика внушает ему аристотелевскую концепцию комического, где смешное трактуется как некий вид частного и объективного безобразия и строго ограничивается область его применения. С другой стороны, соприсущий философии идеал внутренней свободы и независимой созерцательной жизни, всегда актуальный для Сенеки, предопределяет понимание комического, иронии как универсальной миросозерцательной формы, объединяющей в себе и положительный момент серьезное, «истинную радость» и отрицательный — осмеяние жизни как ничтожной комедии. В 54-56 годы этот идеал получает у Сенеки.
Л-ра: Проблемы античной культуры. – Тбилиси, 1975. – С. 239-248.
Произведения
Критика