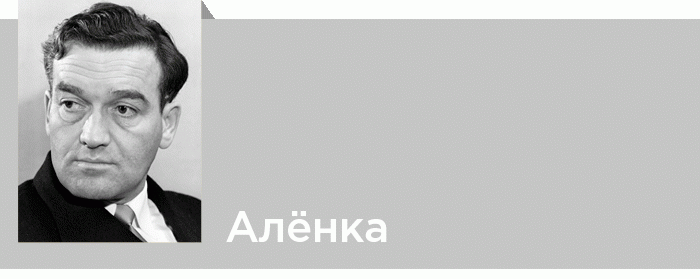Времена не выбирают

Евгений Сергеев
Проза Сергея Антонова лет пятнадцать не появлялась на страницах наших журналов — и вдруг сразу две повести, и обе привлекли к себе внимание.
Впрочем, не «сразу» и не две. Теперь речь надо вести о трилогии. Не знаю, соберет ли автор ее под одной обложкой, даст ли ей общее название, но трилогия уже есть, и не исключено, что со временем она превратится в тетралогию.
Первая часть — «Царский двугривенный». Повесть появилась в 1970 году в журнале «Юность», выходила и отдельной книгой, но во всех вариантах она обужена и укорочена: ее перекроили на подростковый размер, подгоняя под разряд «произведений для детей и юношества». Сможет ли автор восстановить книгу в полном объеме, сумеет ли он это сделать теперь — сказать трудно, однако несомненно, что внутри трилогии повесть эта кажется упрощенной и явно нуждается в расширении и доработке.
Третья, заключительная часть, — «Васька». Закончив повесть в 1974 году, Сергей Антонов помыкался с ней по журналам и издательствам, правда, недолго — «Ваську» отклонили безоговорочно и полностью, то есть даже без обычных в таких случаях предложений «подумать», «уточнить», «сгладить», «доработать» и т. д. Только через тринадцать лет она появилась на страницах «Юности», зато в несглаженном виде.
И, наконец, последняя по времени написания (1985 год) и центральная (во всех смыслах слова) часть трилогии — «Овраги», опубликованная в нынешнем году «Дружбой народов».
«Царский двугривенный»: место действия — Оренбург, время действия — 1927 год; «Овраги»: деревня 1929 года; «Васька»: Москва 1934 года. Историческая канва трилогии — «великий перелом», время предшествующее и последующее.
«Великий» — эпитет достаточно редкий в нашей историографии, которая в целом не страдает излишней скромностью. Великими названы Социалистическая революция и Отечественная война, да еще перелом, пришедшийся как раз посередке — через двенадцать лет после революции и за двенадцать лет до начала войны. (Странные бывают совпадения: начиная с 1905 и по 1953 год все важнейшие события нашей истории следовали с двенадцатилетним интервалом...)
Странные совпадения есть и в литературе, например, в повестях и романах, где речь идет о коллективизации и раскулачивании. Так, в большинстве книг, посвященных годам коллективизации, присутствует образ провала, разрыва, ямы, разверзшейся земли: у А. Платонова — котлован, у М. Шолохова — Гремячий лог, у С. Залыгина — страшный береговой обрыв, у С. Антонова — овраги. Казалось бы, уже найденное историографами слово — «перелом» — достаточно образно и многозначно: это и травма, и авария, и крутое изменение какого-либо процесса, казалось бы, сама внутренняя противоречивость этого слова подсказывала художникам готовый образ. Ан нет. Они, не сговариваясь, искали и нашли другой. Совпадение не преднамеренное, не умышленное, но, видимо, и не случайное. Из числа тех же неумышленных и неслучайных совпадений и имя одного из главных героев «Оврагов» — Роман Платонов. Как бы там ни было, но определенная близость повести С. Антонова с платоновским «Котлованом» ощутима. Разумеется, близость отнюдь не внешняя, не сюжетная, не стилистическая, а — как бы это поточнее выразиться — интонационная, что ли. В повести С. Антонова, так же как и в платоновском «Котловане», удивляет какая-то непривычная для нашей прозы обыденность, будничность, забытовленность трагедий. Помните, в повести А. Платонова Активист, узнав, что Чиклин ненароком, но до смерти зашиб ни в чем не виновного мужика, говорит: «И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убивец, а двое — это уже вполне кулацкий класс и организация!» «Лишняя» трагедия полностью согласуется с пунктами плановой отчетности. То же и в «Оврагах»:
«— Неловко, Клим Степанович, кулаков много — два и два десятых процента.
- Не может быть! ... Ты что, позабыл, что мы с Острогожским районом соревнуемся? Они к октябрьским шесть процентов раскулачили, а у нас два и два десятых?! ...Ты, я гляжу, сильно мужичков жалеешь. Вчера в Ефимовке уполномоченного по заготовкам избили. В больнице лежит. Кто бил? Бедняки! Какие они бедняки, если уполномоченных бьют. Не бедняки они, а подкулачники. Перепиши их всех — и будет у тебя еще полпроцента».
У Платонова — развернутая и материализованная метафора: кулаков «сплавили» — сколотили плот, усадили на него людей и пустили вниз по реке. У С. Антонова показано, как материализуется казенная цифирь: «Небось помнишь, как особый уполномоченный из ГПУ приезжал? Ночью уполномоченный прибыл, наган на стол, а у нас уже список кулаков готов. Шесть дворов на высылку. Кого с семьями, кого одного. Список составлен комсодом, утвержден сельсоветом, все честь по чести. Только у нас шесть, а согласно инструкции окружкоме надо восемь. Моментально собрали комиссию и совместно добавили двух, у кого дома под железом. Опомниться не дали. Проснулись кулачки, а под окнами милиция с винтовками».
Но особенно в обеих книгах удивляет и даже обескураживает несуразность смертей и «несерьезность» их описания. О смертях говорится второпях, почти что походя, с добавлением нелепых слов, неуместных шуток, с сарказмом, чуть ли не с ерничеством. И здесь у С. Антонова, прозаика, придерживающегося (если уж подыскивать аналогии) чеховской манеры письма, появляются словесные сопряжения, свойственные стилистике Платонова. Вот, к примеру, о Клаше — жене Романа Гавриловича и матери Мити говорится, что она «умерла окончательно», будто можно умереть предварительно или приблизительно.
Еще примеры.
«Рано утром Чиклин проснулся: он озяб и прислушался к Насте. Было чуть светло и тихо, лишь Жачев бурчал во сне свое беспокойство.
- Ты дышишь там, средний черт! — сказал Чиклин к Елисею.
- Дышу, товарищ Чиклин, а как же нет? Всю ночь ребенка теплом обдавал!
- Ну?
- А девочка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодела с чего-то!
Чиклин медленно поднялся с земли и остановился на месте. Постояв, он пошел туда, где лежал Жачев, посмотрел — не уничтожил ли калека сливки и пирожные, потом нашел веник и очистил весь барак от скопившегося за безлюдное время разного налетевшего сора».
Это о смерти Насти, самой близкой автору героини «Котлована».
«Федот Федотович отправился было кликнуть хозяйку, но Петр не разрешил. Пошел сам. Через минуту вернулся и возвестил громко:
- Она висит.
- Где?! — Роман Гаврилович вскочил.
- В хлеву.
- Ты ее снял?
- Чего ее снимать? У нее нога задубела.
Из дома вышли расстроенные, пожалели немного разудалую Женьку, попрощались и разошлись».
А это — о самоубийстве второй жены Гущева, о смерти же его первой жены, матери Риты (той самой Риты, что станет главной героиней «Васьки»), и вовсе сказано три слова: «Она глотнула (не того лекарства. — Е. С.) и скончалась».
Так же буквально в двух словах сообщает С. Антонов и о гибели Макуна, и это тем страннее, что описанию малиновых галифе того же Макуна автор, не скупясь, отдает целые абзацы.
Преднамеренное подчеркивание несуразности и обыденности трагедий объединяет «Овраги» с «Котлованом», однако природа подобного взгляда на события у обоих писателей резко различна.
А. Платонов — очевидец «великого перелома», потрясенный простотой уничтожения, которую он в своей притчевой повести доводит до логического абсурда, чтобы стала наглядной грозящая опасность полного и окончательного самоистребления народа, общества, державы: «Погибнет ли эсесерша, подобно Насте, или вырастет в целого человека, в новое историческое общество? Это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда его писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только прошлого, но и будущего». Повесть — предупреждение, попытка стать «в перекоре шествий» (как выразился Маяковский), встать поперек той «генеральной линии», что перечеркивала и человеческое в человеке, и историческую судьбу народа.
С. Антонов тоже свидетель тех событий, но он младший очевидец, несовершеннолетний, еще не обретший права голоса и гражданства. Ранняя ребячья любопытствующая и приметливая зоркость; позднее взрослое печальное прозрение — вот «контрапункт» трилогии.
В повести «Васька» один из персонажей — инженер, готовящий к печати сборник воспоминаний метростроевцев, — замечает, что «некоторые, со смехом рассказывают трагические эпизоды: пожары, обвалы, гибель от удушья, от электрического тока. Вряд ли это украсит книгу». С. Антонову, разумеется, ведома нравственная недопустимость шутейно-безразличного отношения к трагедиям, но его персонажи относятся к ним именно так. И писатель не хочет «украшать» ни книгу, ни своих героев, которых он искренне любит. Ему нужно, чтобы читатель сам ощутил всю извращенность, болезнетворность той общественной атмосферы, которая делала нравственно дефективными даже людей от рождения умных и добросердечных.
Не вчера начались (хотя лишь недавно выплеснулись на страницы газет и журналов) и не завтра кончатся у нас споры о том, чем порожден «великий перелом» — суровой необходимостью или жестоким произволом? Одни считают, что он был неизбежен и необходим, поскольку неотвратимо приближалась война, а никаким иным способом нельзя было за 10-12 лет достичь того военно-экономического потенциала, который требовался для обороны. А коли так, то при всех оговорках, при всем соболезновании пострадавшим, тем не менее остается в силе логика, которую с горькой иронией сформулировал А. Твардовский: «Ведь суть не в малом перегибе, Когда — Великий перелом».
Другие напоминают, что именно те бесчеловечные методы, которыми создавался необходимый военно-промышленный потенциал, привели к тому, что этот потенциал на одну треть был уничтожен в первые же месяцы войны. Они указывают, что экономика страны к началу войны могла быть гораздо мощнее, когда бы диктаторские методы управления ею не порождали бесконечных и неоправданных потерь: гибли люди, без толку тратились труд, деньги, материалы. С. Антонов явно придерживается второй точки зрения, и его повесть — это один из аргументов в данном споре. Но все же он — писатель, а не экономист, историк или социолог. Его дело — постичь и передать чувства и мысли людей, постичь психологию времени. Психологию внутренней вражды.
Можно сказать, что вся трилогия — развернутое повествование о том, как зарождался, развивался и укреплялся в людском сознании образ внутреннего классового врага — виновника всех тягот, лишений, недостач и промахов, ответчика за неурядицы и катастрофические просчеты в быту и на производстве.
1927 год. Благополучие нэпманов злит неимущих. Частник гонит халтуру, и поди разберись, почему: то ли не умеет работать на совесть, то ли не хватает материалов и инструментов, то ли просто-напросто производить и сбывать всякую дрянь ему выгоднее? Кооперация, как выразился Маяковский, только-только «стала оперяться», а потому и права, и силенки у нее еще цыплячьи. Промышленность в застое. Товаров, особенно ширпотреба, не хватает, какой-нибудь сатин, и тот — явный дефицит. Лишь село при нэпе ожило. Крестьянин шлет на рынок мясо, молоко, хлеб, но цены «кусаются». В людях зреет глухое недовольство. «Свояк Скавронов» — нервный человек, ярится и напрямую спрашивает: за то ли сражались? Роман Платонов утешает свояка: скоро с нэпом покончим! Но пока идут чистки, проработки, кампании самокритики и принародные покаяния. Рабочие косятся на инженеров: черт их поймет, чего они там высчитывают при помощи своих логарифмов? Проку от них вроде бы не видно, а вот аварии случаются — уж не их ли рук дело?
В «Царском двугривенном» есть эпизод, ключевой для понимания этой повести. На рынке всей гурьбой, всем шалманом затравили люди бездомного ласкового и симпатичного пса Козыря. И Славик Огурец, поддавшись остервенению азарта, гнал бедолагу, но когда оказался пес в удавке, пожалел его малец и засовестился. Однако дворовый заправила Таракан успокоил Огурца: «Может, кобелек заразный или бешеный. Почем ты знаешь?» И Славику сразу стало легче, хоть и знает он, что Козырь был здоров. Но это сегодня здоров, а за будущее как ручаться?
Итак, выработана социальная этика, согласно которой можно десятки безвредных собак затравить, лишь бы, не дай бог, одну бешеную не упустить...
Год 1929. Найден, наконец-то, враг-вредитель, злыдень затаившийся — кулак. И вдруг всем все стало ясно. Вот Митя Платонов — он еще ни одного живого кулака и в глаза не видел, а уже знает, что кулак — ненавистный враг. Роман Платонов — человек разумный и самостоятельный, но ведь идет, и с радостью, в заградительный отряд и в пылу схватки убивает молодую крестьянку, потому что «раскулачка — законная часть классовой борьбы. А классовая борьба означает одно: если не дашь в морду ты, дадут в морду тебе». С. Антонов скрупулезно прослеживает, как логика бытья в законе с неумолимостью приводит к тому, что сначала гибнет Клаша, мать Мити и жена Романа Гавриловича, а затем и сам Роман Платонов. В итоге сиротами остаются и Митя — сын двадцатипятитысячника, и Рита Чугуєва — дочь кулака.
«Колхозы — штука толковая. Колхозы — родня сельской общины и с руки русскому крестьянству. А мужик шарахается от колхозов, как черт от ладана. Почему? Да потому, что колхоз не создают, а навязывают. Навязывают сверху, бестолково, без ума, с бухты-барахты. А где бестолочь, там и жулье, там мазурики, мародеры, вредители, и в итоге грабеж крестьянского добра».
Желание тянуть «в рай за шиворот», желание «насильно облагодетельствовать», «принудительно осчастливить», уверенность, что цель оправдывает средства, приводят к тому, что средства становятся самоцелью, насилие разрастается, а о благе уже и речи нет.
Борьба ради борьбы. Борьба, битва, сражение как оправдание трудностей и потерь, неразберихи и сумятицы. Парадоксально, но С. Антонов показывает неизбежность этого парадокса — «упоение в бою» как психологическое оправдание нужно не только командирам, власть имущим, но и подвластным, подчиненным.
1934 год. Москва. Строится метро — объект сугубо мирный, но стройплощадка превращена в театр боевых действий. В повести «Васька» показателен разговор между Николай Николаевичем (тем самым, который составляет сборник воспоминаний метростроевцев) и Митей Платоновым:
«...Такую вот картину увидят потомки, почитавши ваши воспоминания. Неразбериху увидят, кавардак, бестолковщину...
— Ошибаетесь, Николай Николаевич. Они увидят битву и большевистские темпы, — перебил Митя. — Увидят энтузиазм молодежи».
Не согласен Митя с Николай Николаевичем, не хочет он и не может принять его логику, как и большинство Митиных сверстников, ныне уже состарившихся, не хочет и не может согласиться с этим. Человеку необходимо было чувствовать себя не участником общей бестолковщины, не жертвой торопливой безграмотности, не обезличенным «человеческим материалом», а сознательным бойцом, рядовым великой битвы. Ведь, коль битва, то «на войне как на войне» — приказы не обсуждать («разговорчики в строю!»), с потерями не считаться («умрем же под Москвой» — и честно умирали в штреках под Каланчевкой и Воздвиженкой).
В трилогии С. Антонова, — повторяю и подчеркиваю — передана психологическая драма целого поколения. Внутренний конфликт между непосредственным ощущением и поздним опосредованным осмыслением одних и тех же лет, одних и тех же событий. Память чувств подсказывает, что был энтузиазм, было напряжение борьбы, была искренняя неколебимая вера в свою правоту. Ведь были же? Были!..
Но поздний разум доказывает, что с энтузиазмом, самым что ни на есть искренним, в этой борьбе наломано столько, отнюдь не дров, а костей, столько искалечено судеб, столько законов нарушено и естественных связей порвано, что трещины, провалы и овраги, образовавшиеся в результате этого социального бедствия, до сих пор еще заровнять не можем.
Подчеркивая противоречия между непосредственным ощущением и поздним осмыслением, Антонов более чем скептически относится ко всевозможным документам, показаниям очевидцев, воспоминаниям участников и прочим «свидетельствам эпохи». Он не без иронии показывает, как «с потолка» брались цифры и «от фонаря» — факты для казенных отчетов и реляций; как искренне, для вящей убедительности, вписывает Митя отсебятину в протоколы (вместо «негодующие возгласы» — «бурные аплодисменты»); как Гоша — молодой литератор, создавая документально-биографическую повесть о Ваське, ничтоже сумняшеся «врет как очевидец», но при этом еще и теоретизирует: мол, только документалистика способна достойно отразить действительность; показывает, сколь двусмысленны и неполны воспоминания метростроевцев, которые к тому же многократно правились и редактировались, прежде чем явиться в виде «неприкрашенной правды».
Можно и согласиться с автором: да, в свидетельствах очевидцев реальность зачастую подстрижена и причесана по моде времени. Однако же «вихры» все равно торчат. Это и ценно в документалистике. Ценны случайности, непреднамеренности жизни, когда концы с концами не сходятся, когда «не стыкуются» поступки с постулатами. Тут интересно не то, что говорит свидетель, а то, как он проговаривается, ибо, что бы там ни было у него на уме, но жизнь диктует свое, и ее голос прорывается. Интересны «ляпы», «промахи», «сучки и задоринки».
У С. Антонова же — прозаика, чей стиль отточен новеллистикой, — «ляпов» нет. У него все настроено и выверено. Пружина интриги закручена до отказа, каждая деталь работает с полной нагрузкой, и произведение в целом похоже на безупречно отлаженный механизм. Все нити сюжета связаны, все «ружья» стреляют без осечки, всякое «лыко в строку». Может, и странно это прозвучит, но, на мой вкус, его прозе недостает «неправильности», взъерошенности, дисгармонии, не хватает лязга, скрежета, треска. Не хватает заноз и осколков, хлама и сора — столь естественных, когда речь идет о переломе, об аварии, травме, резком повороте истории, на котором и воз заносит, и люди и кладь — с воза долой. На мой вкус, авторская изобразительная манера в данном случае оказывается в довольно сложном и противоречивом отношении с объектом изображения.
Так, может, не за свою тему он взялся?
А вот этого истинному художнику в России от века выбирать не дано. Не он берет тему, а она его захватывает целиком и полностью. У нас по традиции само понятие «талант» предполагает не столько дар самовыражения, сколько способность художника воспринимать общую боль как свою. А если к тому же и автор к той же беде причастен, общей боли отведал, то тут ему, как говорится, «сам Бог велел», и от такого веленья художник может уклониться разве что ценой творческого самоубийства.
Целительные способности талантов различны. Один лечит шоком. Другой — внушением. С. Антонов — диагност. Его трилогия — история болезни, скрупулезный и точный анализ тех нравственно-психологических сдвигов в общественном сознании, которые явились причиной и следствием «великого перелома».
Л-ра: Литературное обозрение. – 1988. – № 9. – С. 43-46.
Критика