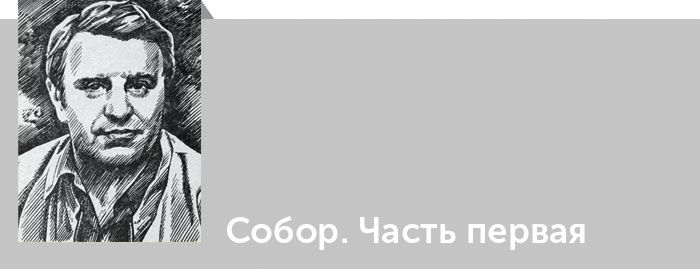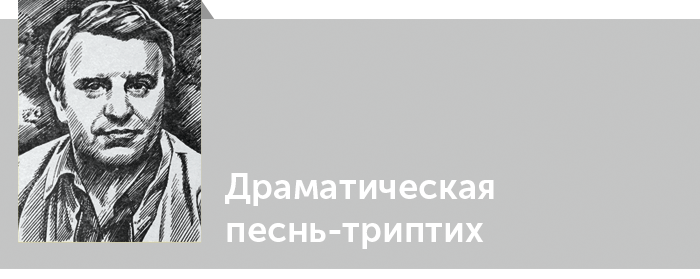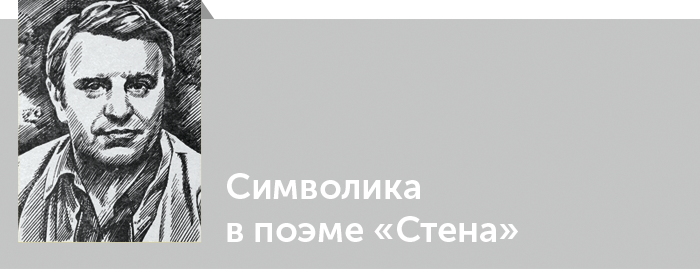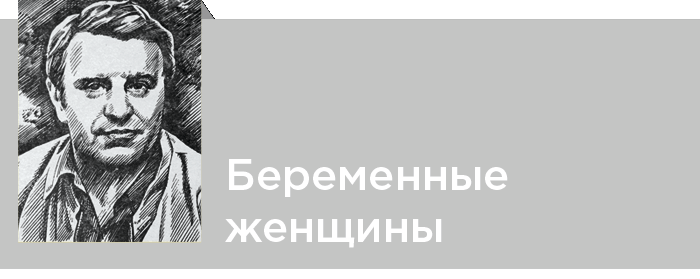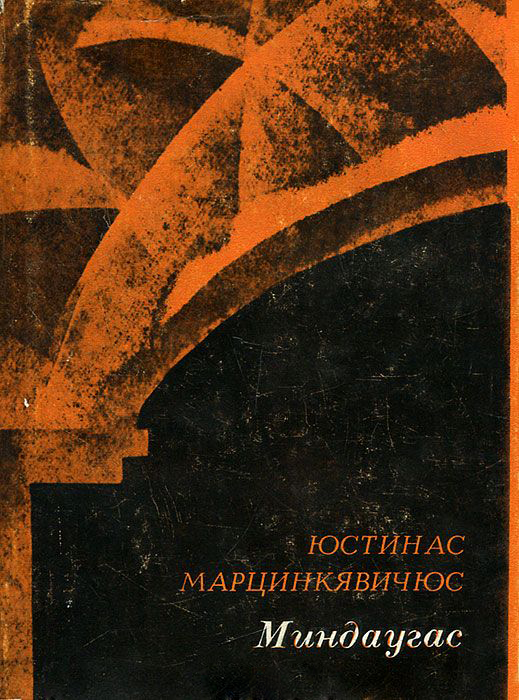Поэма начала

Туманное раннее утро. Тихо и спокойно.
И серая, словно холстина, масса.
Даже не знаешь, много ее или мало,
только знаешь, что ей надо дать форму.
Так что ж, малевать ночь
и свои кошмары?
Дождемся цвета иного и звука.
Начальной отметки дождемся.
Начнем сначала.
А может, возвратимся в ночь,
где не отличишь свет от тьмы,
как ни безумны твои усилья?
Может, вернемся...
Серая необрамленная масса.
В ней весь наш будущий космос.
Хорошо, что однажды ты его уже видел.
Теперь будет полегче,
Надо только как следует подумать,
припомнить, что в нем было всего важнее.
...В самом деле,
что в нем было всего важнее?
Припомнился хлеб и припомнился голод.
Хорошо, что мне известно и не забылось.
Вчера, только вчера как будто
я читал, что в мире миллионы голодающих:
ХЛЕБА!
Что ж, буду лепить лепешки
из серой и бесформенной массы
и смотреть, как зубы тонут в мякоти.
Белые зубы и черный хлеб -
какое счастье,
когда встречаются два этих цвета!
Я все припомнил:
пьянящий запах квашни Старинной
и широкую ладонь хлебной лопаты,
на которой-подобно миру-
создается округлость буханки.
Припомнил хлебный нож -
ценнейшую из семейных реликвий,
переходящую от поколения к поколенью.
Он властелин всех ножей и ложек,
философ утвари, поэт посуды.
Припомнил - он был стар и сточен,
но блистал мудростью.
Ему было лучше всех известно,
какое счастье, когда железо
воплощается в хлебный нож.
А меч (и все, что исходит от меча) -
вырожденье.
Мне это тоже известно. Не задерживайте-
я спешу на ежедневное свидание с хлебом.
Пропускайте всех - никого не задерживайте.
Разве некогда не молились:
"...хлеб наш насущный даждь нам днесь..."?
Даждь нам днесь насущную верность!
Даждь нам днесь единственную верность!
Садись, странник, сядь, неведомый брат мой.
Ты пришел издалека на сей перекресток,
именуемый жизнью.
Где ты только не был,
прошел все века и помнишь много.
Вижу, что ты правильно сделал,
сменяв выродок-меч на хлебный нож,
сядь и поешь.
Потом расскажешь,
как строил Вавилонскую башню и пирамиды,
как во чреве деревянного коня
торчал у ворот Трои.
Все это я уже знаю.
Но все равно послушаю с наслажденьем.
Поведай мне о последнем, девятом
круге Дантова ада - Освенциме и Хиросиме.
Все это я уже знаю и даже начинаю забывать.
Садись и ешь -
в моих руках только хлебный нож.
Потом присядем у порога,
и нас озарит заходящее солнце,
и все, возращаясь с работы,
будут здороваться с уважением.
А мои дети ахнут от изумленья,
когда ты расскажешь
о единственном чуде,
которое тебе удалось увидеть:
о манне небесной,
именуемой в просторечии хлебом.
И впрямь чудесно. Садись и ешь.
Пускай твой нож отрежет
столько, сколько тебе надо.
Ты много странствовал, много помнишь,
ты знаешь, что хлеба не надо больше,
чем его действительно надо.
Погляди: женщина ведет корову с пастбища.
Женщине издали видно,
что в моем доме странник, -
она подходит, но долго
не решается заговорить.
Корова стоит у ворот
и тоскливо жует жвачку.
Женщина опускает голову,
поправляет косынку и спрашивает:
- Странник, может быть, где-нибудь
ты встречал моего мужа?
Как ушел на войну,
так с тех пор и не вернулся...
Корова стоит у ворот и тоскливо жует жвачку.
Хлебный нож дрожит в твоих руках,
и в горле застревает кусок.
- Ешь, - говорю. -
Эта женщина у всех спрашивает одно и то же.
Вечер становится тишиною.
Корова поднимает голову -
вижу, как солнце закатывается
в ее печальные глаза.
Где искать всех погибших
и пропавших без вести?
Наступает пора обеда.
Забывшиеся женщины становятся у порога
и зовут детей поименно.
На столе стынет суп,
и ложка открыта, словно кричащий рот.
Мертвые, но непохороненные ложки
кричат и кричат все время.
Где искать всех погибших
и пропавших без вести?
На ночь мы оставляем для них на столе
хлебный нож
и прикрытую чистым полотенцем буханку.
Могут прийти, когда мы спим,
и переломить с нами хлеб
или войти в наши сны.
Да, с помощью хлеба и снов.
Ведь мы, живые, тоже объединены хлебом.
Я отрезаю большой ломоть и говорю женщине
- Бери и ешь, -
это все, что я могу сказать тебе в ответ.
Женщина уводит корову.
Ешь и ты, странник.
Хлеб воскрешает память
и пробуждает совесть.
Где искать всех погибших
и пропавших без вести?
Никто из нас не знает, и все молчат.
Стемнело, и я не вижу твоего лица,
когда ты встаешь и говоришь.
...я тот,
кто, ворвавшись с мечом
в горящую Трою,
шел сквозь нее, как огонь.
Это я убил царя троянцев Приама
и выискивал новую жертву,
хоть кровь и застилала мне глаза.
Во дворце на столе лежала буханка,
накрытая полотенцем,
а рядом - хлебный нож.
В ярости я ринулся
на еще горячий новорожденный хлеб
и рубил, рубил, рубил
окровавленным мечом...
Кругом бушевал огонь,
и было светло, как днем.
И я увидел, что хлеб залит кровью
и полотенце - белое, словно Приамовы одежды, -
покрыто кровью.
Я закричал от ужаса, уронил меч,
схватил хлебный нож
и убежал из горящей Трои...
Совсем стемнело.
Мрак и тишь - ничего больше.
- Света! - кричу. - Эй, дайте света,
зажгите огонь!
Уходи! - кричу. - И никогда, никогда
не говори этого моим детям:
пусть мир вырастает
из их сна, прекрасного и счастливого,
Твой хлебный нож, вынесенный из Трои,
страшней меча.
Я пожил достаточно, чтобы знать:
можно убить и словами.
Где искать всех убиенных словами?
...Река. Брод.
Сквозь воду, живую и прозрачную,
на дне еще заметны следы -
кто-то только что
перешел на другой берег.
Разве я ему сказал что-нибудь?
Разве он мне сказал что-нибудь?
Вода размыла следы...
Когда это произошло:
мгновенье тому назад
или тысячелетье?
Кто-то только что перешел на другой берег.
Мои дети вздрагивают во сне.
Я бессилен
сделать их сны нестрашными!
Зарастают травой наши шаги,
а слова переходят к детям.
Разве наши дети могут быть
лучше, чем наши слова?
Дети играют у реки.
Кто-то только что перешел на другой берег.
Что он рассказал детям?
Не знаю, верно ли это, однако начну,
пойду стучаться во все двери: - Откройте!
Кто-то только что перешел на другой берег.
Нельзя откладывать: приходите ко мне
резделить со мною хлеб и слова.
1967