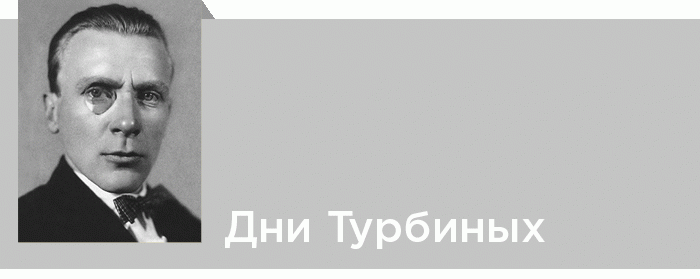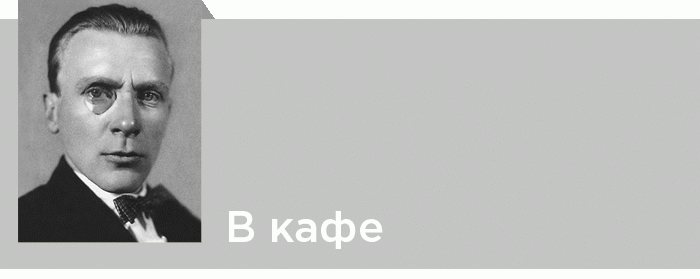Автор – рассказчик – герой в фельетонах М.А. Булгакова 20-х годов
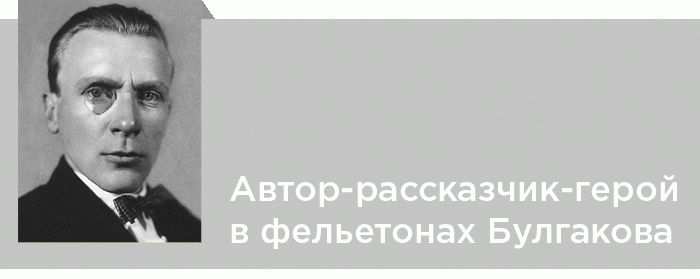
Е.И. Орлова
Интерес к наследию М. А. Булгакова, и в частности к его фельетонам, очеркам и рассказам, публиковавшимся в газетах и журналах 20-х годов, продиктован стремлением найти, собрать и сделать достоянием читателей и исследователей наименее известную часть творчества писателя. Дать сколько-нибудь полный очерк жизни и творчества Булгакова невозможно, опустив его активное сотрудничество в периодике тех лет, и не только потому, что это сотрудничество было неотъемлемой частью его жизни в Москве. Такой же иронией, обращенной в первую очередь на себя, окрашены и дошедшие до нас высказывания писателя о своей работе, будь то ранние пьесы («надеюсь, текст ни одной из них не сохранился») или фельетоны («которые мне самому казались не смешнее зубной боли»).
В равной мере важны признания и другого рода, как, например: «...мыслимо ли написать хороший фельетон по поводу французского министра, если вам до этого министра нет никакого дела?.. Где министр, что министр?..» — в ответ на предложение редактора, простодушно полагающего, «...что журналист может написать все, что угодно, и что ему безразлично, что ни написать». Торжественное «Рукописи не горят!» подготовлялось всем творчеством Булгакова. Так, автор вспоминает о пьесе, написанной «втроем», в соавторстве «с присяжным поверенным и голодухой»: «Когда я перечитал ее у себя, в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу? С зеленых сырых стен а из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорящие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..».
Следует предостеречь от неверного истолкования мысли М.О. Чудаковой, утверждающей, что в отличие от Зощенко «...его (Булгакова. — Е. О.) литературная жизнь тех лет четко разделяется на три разные жизни... Так что Булгаков мог бы, пожалуй, вполне добросовестно сказать: днем я пишу собачью ерунду, а ночью — повесть для потомства». Такое понимание правомерно лишь на поверхностном, «житейском» уровне и отражает только одну сторону отношений журналистики Булгакова и его «большой» прозы. Разумеется, не журналист становился писателем, а писатель пришел в журналистику, и происходил сложный процесс взаимодействия, влияния булгаковской поэтики на поэтику газеты (при том, что был, конечно, и обратный процесс — отталкивания).
М.О. Чудакова указывает на близость некоторых художественных принципов фельетонов Булгакова и его романов. Выясняется, что объективное значение ранних опытов писателя не совпадает с его собственными оценками. Фельетоны Булгакова не выпадают из его творчества; составляя его самостоятельную часть, они могут служить, как бы штрихами к портрету писателя,, дополняя и в чем-то, может быть, углубляя тот единый авторский образ, который складывается в контексте всего творчества художника. Положение о едином для всего творчества образе автора не исключает возможности говорить об образах автора или авторов применительно к одному произведению. Единый образ автора складывается в сознании читателя в процессе чтения, понятого как сотворчество, — прежде всего из представлений об образах автора в различных произведениях. Конечно, такой единый образ автора будет изменяться соответственно эволюции самого «биографического» автора, — подобно тому как портреты одного и того же лица в разное время дают нам «законченный» образ изображенного человека и не дают его. Но без сомнения, можно говорить о некоторых общих принципах создания «авторской партии» (М. Бахтин) и о соотношениях голосов автора и рассказчика, общих для многих произведений Булгакова.
Мы остановимся преимущественно на так называемом «московском» цикле фельетонов Булгакова, написанных им для газеты «Накануне». Эти фельетоны дают по сравнению с другими (скажем, «гудковскими») большее разнообразие принципов организации текста; здесь представлены, кажется, все возможные для сатирического произведения разновидности повествования. Зто «объективное» повествование (безымянного, не называющего себя повествователя, в большей или меньшей степени приближенного к автору), или повествование от третьего лица; рассказ рассказчика (как правило, это московский житель, литератор, близкий к автору); и письменный сказ — наиболее редкое явление в прозе Булгакова.
Публикации Булгакова в «Накануне» не ограничиваются «московскими хрониками». Он выступал здесь и как писатель. «С «Накануне» и началась слава Михаила Булгакова».
Это свидетельство мемуариста корректирует следующее положение М.О. Чудаковой: «Примитивно было бы думать, что в 20-е гг. для писателя был один-единственный путь в литературу — через газетный фельетон. То, что могло стать и становилось хорошей литературной школой для начинающих, имело совсем иное значение для такого литератора, каким был в начале 20-х гг. Булгаков. Если рассмотреть всю его работу этих лет в целом, легко увидеть, что в многочисленных фельетонах «Гудка» — не лаборатория его больших вещей, не предуготовление к крупным замыслам, а, скорее, наоборот, — «отходы» от них, легкая эксплуатация уже найденного, уже с законченностью воплощенного в «московском» фельетоне-хронике, в повестях и в романе». Так определяет М.О. Чудакова (и в этом с ней нельзя не согласиться) «иерархию» «гудковских» и «накануневских» материалов, их различную ценность. К тому же, именно появление «хороших фельетонов... в «Сочельнике» (под этим названием легко угадывается «Накануне», на что обращает внимание Л. Яновская в предисловии к публикации) способствовало тому, что скромный и безвестный «обработчик» писем становится «самостоятельным» фельетонистом в «Гудке». Именно в «московских» фельетонах, объединенных не только общей темой, но и общими принципами голосов автора, рассказчика и героя, проявляются уже характерные приметы художественного мира сатирика, и в первую очередь принцип создания «авторской партии» среди голосов повествователя и героев.
Однако разноречивость толкования понятий «автор», «рассказчик», «образ» или «голос» автора требует некоторого объяснения. Б. О. Корман указывает несколько значений термина «автор»: это «реальный», или «биографический» автор — создатель литературного произведения, историческая личность; автор как концепция, «взгляд на действительность, выражением которого является все произведение»; и, наконец, «автор» как синоним понятий «рассказчик», «повествователь».
Говоря об авторе, мы будем иметь в виду термин во втором значении, или образ автора. Особенно важно подчеркнуть нетождественность автора биографического и образа автора, когда рассматривается сатирическое произведение, одним из родовых свойств которого является своеобразная деформация жизненного материала, влекущая за собой и иные, более опосредованные, чем, скажем, в эпическом произведении, соотношения реального и литературного автора. Прямое же авторское слово, возможное в публицистических жанрах сатиры, может обрамлять текст фельетона, но, строго говоря, не может войти в его структуру без того, чтобы не началось разрушение сатирического «антимира», одним из условий создания которого является, по мысли Д.С. Лихачева, своеобразное «абстрагирование», «отчуждение» от действительности, которая сама по себе еще не может быть смешна.
Очевидно, исследование одного произведения писателя с точки зрения проблемы автора возможно лишь применительно к «большим» жанрам, так как все многообразие проявлений образа автора (принципы повествования, субъектные и внесубъектные формы выражения, наконец целое всего произведения) не может быть дано во всей полноте в пределах одного фельетона. Тем более трудно судить об образе автора (рассказчика) в фельетоне на основании одного отрезка текста, так как «маски» или «лики» рассказчиков в фельетонах Булгакова могут меняться в пределах одного произведения, степень приближенности их к автору может быть различна. «...Соотношение между образом рассказчика и образом автора динамично даже в пределах одной литературной композиции... В литературном маскараде писатель может свободно, на протяжении одного художественного произведения, менять стилистические и образно-характеристические лики или маски».
И все-таки «московские» фельетоны Булгакова, часто печатавшиеся с продолжениями, из номера в номер, составляют самостоятельный цикл в журналистском наследии писателя. Объединяет их, при разнообразии героев, тем, ситуаций, прежде всего образ автора, тот единый авторский голос, который явственно слышится в рассказе о «Москве краснокаменной», вводящем читателя в пеструю московскую жизнь, ибо «нет пагубнее заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года отпечатанной в одну краску...». Автор как бы выхватывает из московского калейдоскопа то одну картинку, то другую, всматривается в нее, оценивает — все это с точки зрения живейшей, личной заинтересованности, какая может быть только у участника, и никогда — у наблюдателя. Термин «объективное повествование» обнаруживает всю свою условность, когда мы говорим о нем применительно к булгаковскому повествованию. Даже в тех фельетонах, где отсутствует названный в тексте рассказчик, оно пронизано оценивающим авторским голосом. «На балконе над фонтаном модный оркестр играет то нудные вальсы, то какую-то музыкальную гнусность — «попурри из русских песен», от которой вянут уши» («Под стеклянным небом»). «Нудные вальсы» и суррогат «русских песен» — потому, что и жизнь здесь, где промышляют валютчики, — выморочная, искусственная; оттого и небо «стеклянное». И потому портреты героев здесь даны через описание их костюмов. «Вытертые, ветром подбитые пальто и дорогие бобровые воротники. Сухаревские ботинки-лепешки и изящная лаковая обувь. Седые и безусые. Наглые и вежливые». И еще одно отличает этих людей — чувство беспокойства, тоски во взгляде. Вот как изображены эти герои в фельетоне «Сорок сороков»: «Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно...»
Но раз уже сами «жулябии» испытывают беспокойство, то значит, их дни сочтены, и автор лишь «провожает» их спокойной иронией. Они обречены, потому что в самом разгуле нэпа уже содержатся признаки разложения и близкого конца.
«Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.
... Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить».
К тому же, «нет нэпа без добра»: Москва ожила, ремонтируется, отстраивается; и вместе с городом, его жизнью живет рассказчик, взявший на себя роль летописца «Москвы 20-х годов» и ни на минуту не сомневающийся в своем праве на это, проникающий в самые разные островки городской жизни, отправляющийся в гости к «приятелям»-нэпманам и на время как бы надевающий маску-«пропуск», отчего его голос как бы сливается с голосами героев.
«После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри и благодушие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои тридцать восемь лет, еще очень и очень недурна...».
Однако ирония постоянно дает почувствовать дистанцию между рассказчиком и героем. Речь рассказчика пронизана ироническим отношением к элементам чужого сознания, к чужому слову, заимствованному, но не растворенному в авторском.
« — Вот и весна, слава богу; измучились с этой зимой, — сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.
— И не говорите! — воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, в миг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: — Ваше здоровье!»
Ирония в голосе рассказчика не случайна. Новая буржуазия, филистерство, приспособленчество — объекты сатиры Булгакова 20-х годов. В самом характере изображения содержится и авторская оценка изображаемого. Исследуя особенности сатирического художественного мышления на материале творчества Гоголя, С.Г. Бочаров пишет: «...видение подлости, взгляд на нее, воплощенный в ее изображении, метод ее показа заключает в себе «образ честного человека» как идеал художника, выраженный не только в специальных патетических местах текста, но присутствующий и в помещиках принципом строения их характеров, светом, под которым исследуются излучины их окаменевших душ».
Но особенность рассказчика в фельетонах Булгакова заключается в том, что его голос способен вбирать в себя голоса героев и в то же время вести авторскую «партию». И эта черта булгаковского повествования заставляет нас обратиться к художественному опыту Салтыкова-Щедрина. Современные исследователи обратили внимание на особое речевое «поведение» рассказчика в некоторых его произведениях, что было определено как феномен «двоения» рассказчика, «...под одной оболочкой повествующего щедринского «Я» выступают и непосредственно автор-писатель, и объективированный герой-рассказчик. Щедринский повествователь — «Я», — следовательно, двупланов... Необычность и известная «дерзость» такого объединения в том, что эти начала в сатире полярно противоположны. Устами повествователя — «Я» — часто говорит сам автор, устами «Я» говорит и разоблачаемая им среда. Вот границы диапазона, в которых происходят постоянные перевоплощения повествователя в рамках одного произведения... Причем, сатирик никогда не оговаривает смену «голосов» «Я», полагая, что внимательный читатель сам поймет игру ликами повествования». «Спор относительно того, является ли рассказчик Салтыкова тождественным автору или рассказчик и автор — антиподы, правомерен в том смысле, что рассказчик, действительно, одновременно близок и далек автору». Эти наблюдения очень важны для понимания соотношений автора и героя-рассказчика у Булгакова. «Влияние Салтыкова на меня чрезвычайное...» — это признание Булгакова, сделанное им при ответе на анкету о Щедрине, предложенную советским писателям в 1932-1933 гг., дает, быть может, ключ ко многому в его творчестве; особенное значение могли иметь «Губернские очерки» Щедрина при создании сатирических «московских хроник».
По отношению к автору, рассказчику и герою в фельетонах Булгакова используются различные оттенки иронии. Она может быть направлена и на самого рассказчика, «поднабравшегося» из словаря московского филистера, и на сливающегося с рассказчиком автора — журналиста и литератора, пишущего о Москве и одновременно как бы вводящего читателя в тот быт, в котором создаются его московские хроники и который сам становится предметом этих хроник.
Есть в фельетонах Булгакова и еще один адресат полемического авторского слова — читатель. К нему постоянно обращается автор —- в шутливых «примечаниях для иностранцев» («Столица в блокноте») или в полемике с предполагаемым оппонентом.
Полемическое отношение к чужому слову, высказанному или предполагаемому, свойственное рассказчику фельетонов, сближает его с рассказчиком романа «Мастер и Маргарита», где «правдивый повествователь» тоже на время как бы проникает в сознание героя и, заставляя его самого говорить о себе, подбирает чужое слово, чтобы тут же вернуть его переосмысленным, сниженным и развенчанным. Такому же пересмотру подвергается и собственное авторское слово. Вырвавшееся как бы случайно, оно проверяется автором и либо утверждается — повторением, либо отвергается — повторением, но уже с иной, «снижающей», интонацией, в ином контексте. Этот принцип «игры» со словом, его переосмысление находим и в фельетонах, и в романе, и в письмах Булгакова. Сравним:
1. «...каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в полосатых подштанниках заслонил мне солнце!..
Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной... Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. ...
Словом, он не мыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я неправ».
2. « — Он мог бы и позвонить! — кричали Денискин, Глухарев и Квант.
Ах, кричали они напрасно: не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем.
...Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым».
3. «...А кроме того, почему я не состою в Горкоме писателей? А если где-нибудь состою, то где, будьте любезны? Я состою в Рабисе и очень рад, что состою. Но в глубине у меня мысль, что это неважно — где я состою».
4. «Ты спрашиваешь, как я поживаю. Хорошенькое слово. Именно я поживаю, а не живу ...
И так я поживаю.
<...>
Поживаю за кулисами, все актеры мне знакомые друзья и приятели, черт бы их всех взял!
<...>
Как одет... что ем ... не стоит...»
Поясним последний, наиболее сложный случай: «предложенное» автору слово не отвергается; оно «принимается» автором, но переосмысляется им и утверждается уже не как нейтральное; включенное в синонимический ряд, оно уже несет в себе «второй голос» — авторскую оценку и, повторяясь, создает лейтмотив.
Как видим, полемическое отношение к чуждому слову, наполнение его иным смыслом, когда слово берется автором как бы в кавычки, напоминая о дистанции между участниками воображаемого диалога, который постоянно ведет автор со своим героем (либо с читателем), — поэтический принцип, общий для многих, произведений Булгакова. При этом возможны различные соотношения голосов автора, рассказчика и героя — от слияния (как слиты бывают автор и рассказчик в упоминавшихся фельетонах), мнимой солидаризации, непременно «выдающей» себя (рассказчик и герой в «Четырех портретах»), до предельной дистанцированное автора и героя, до принципиального неприятия, пусть даже на условиях «игры», чужого сознания. Так, в отношении доживающих последние дни жуликов и нэпманов автор еще достаточно добродушен, фельетоны его полны юмора. Гораздо серьезнее звучит его голос, когда он поднимает — одним из первых в советской журналистике — проблему «самоцветного быта».
Как и Зощенко, Булгакова тревожило сознание того, что изменения, происшедшие и происходящие в жизни всей страны, не затрагивают обывательского сознания, застывшего в самодовольном невежестве, гордого сознанием своего «происхождения», которым оправдывается решительно все. «Революции политические и социальные совершаются легче, чем революции в психическом быту, в духовной культуре, где революций в строгом смысле слова пожалуй что и вовсе не бывает ...в психическом быту революции не произошло...» — констатировал М. Могилянский в
Герои Булгакова и Зощенко обнаруживают немало сходных черт. Однако принципы отношений автора и героя в прозе этих писателей дают нам примеры двух разных типов выражения авторской позиции в сатирическом рассказе. Сказовые формы, ставшие в творчестве Зощенко важнейшим средством пародийного развенчания обывательского сознания, не стали доминирующим принципом повествования у Булгакова. В его творчестве проявляется характерная для всей литературы 20-х годов активизация голоса героя, но вместе с тем и другая линия — активность авторского слова — сохраняется в его прозе, объединяя все произведения этого писателя.
Сказ, где герой предельно удален от автора, не мог стать таким существенным принципом повествования в прозе Булгакова, как, скажем, несобственнопрямая речь в романе «Белая гвардия», где были изображены герои, во многом близкие автору, что принципиально невозможно в сатирическом произведении, когда автор и создаваемый им «отрицательный мир» являют собой как бы противоположные ценностные полюса. При этом голос автора в булгаковских фельетонах, способный на время сливаться с голосами рассказчика и героев, всегда явственно слышим, несмотря на разнообразнейшую игру в «незнание», «недоумение», несмотря на маски простодушия и солидарности с героем «мира зла». Так в начале 20-х годов в творчестве Булгакова уже подготавливаются важнейшие принципы авторского повествования, во многом определившего своеобразие его последнего романа.
Л-ра: Филологические науки. – 1981. – № 6. – С. 24-29.
Произведения
Критика