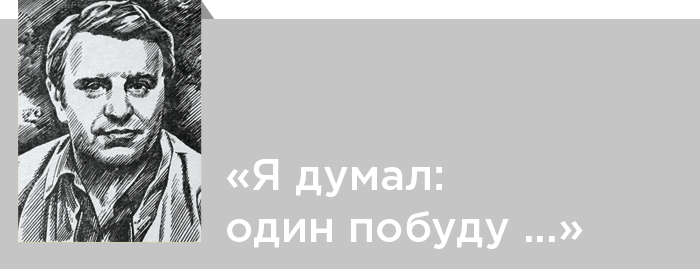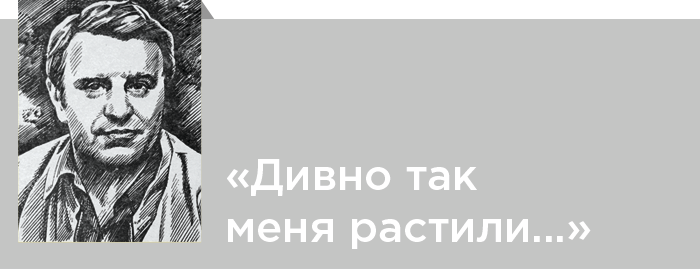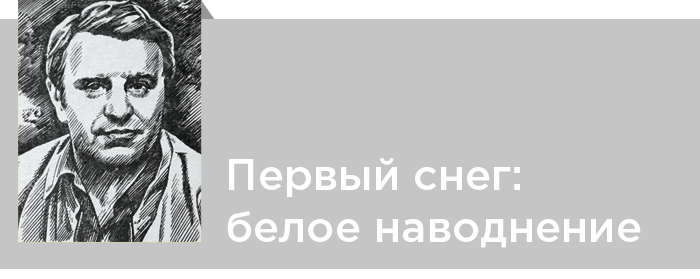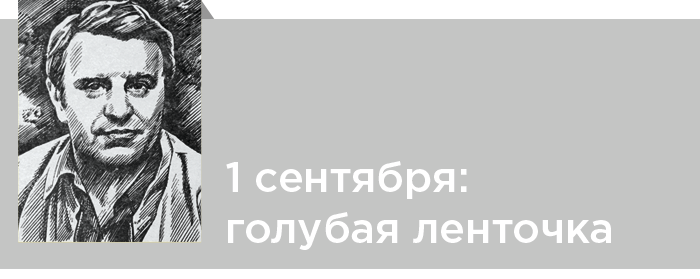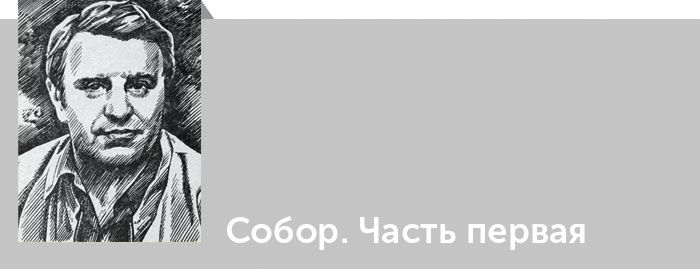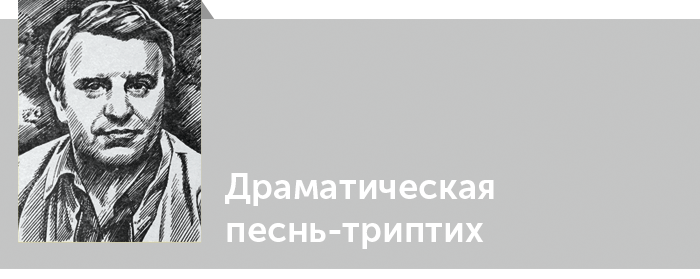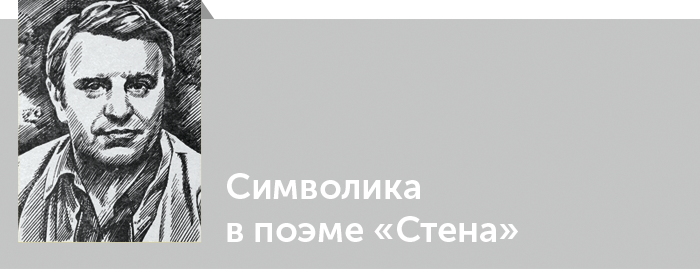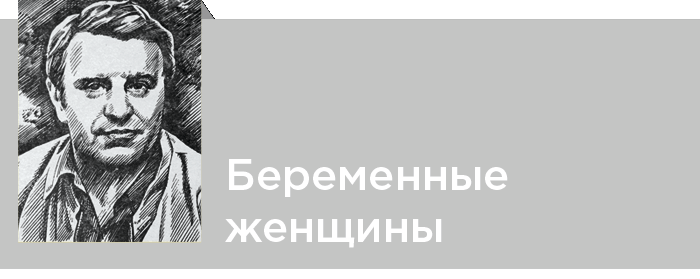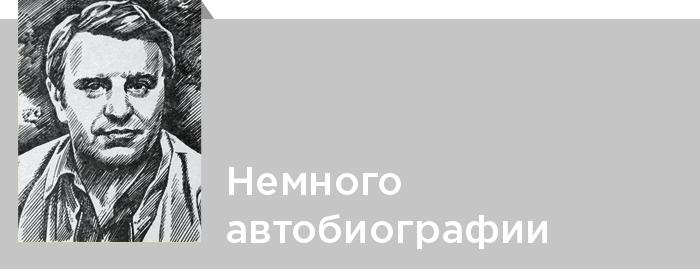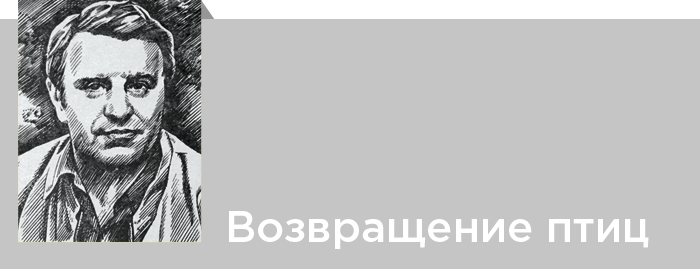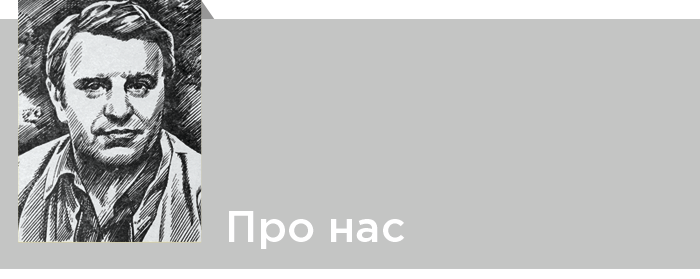И общее объять и человека

(Диалог с Юстинасом Марцинкявичюсом)
Б. Сидоров. Если не возражаете, Юстинас Мотеевич, коснемся сначала вашей биографии. Думаю, читателям будет интересно узнать, как вы пришли в литературу.
Бот я читаю строки, когда-то написанные вами: «Родился в 1930 году под соломенной кровлей в многодетной крестьянской семье (9 детей!)...
В 1940 году, без преувеличения, родился вторично — родился для средней школы, для университета, для бурной послевоенной жизни...»
Ю. Марцинкявичюс. В Вильнюс приехал в 1949 году и стал студентом филологического факультета. С тех пор я горожанин, но если признаться честно, всегда ощущаю себя человеком природы. Там — все мое существо... Ничего не могу поделать — все чаще и чаще снится извилина Немана, где расположилась моя деревня, линия леса, закрывающая горизонт, снится земля детства с ее солнцем и ветром, птицами и зверями, с добрыми но — увы! — и с плохими людьми. Не понимаю тех, кто литая этого чувств. Сколько раз уже повторено до меня, что любовь к родине начинается с любви к тому, может быть, и небольшому клочку земли, на котором отпечатались следы твоего отца. Тяжелые следы...
Е. Сидоров. Вы знаете, это можно почувствовать, открыв любую книгу Марцинкявичюса. Как бы ни был силен, например, интеллектуально-философский пафос ваших последних поэм, в них всегда присутствует как основа народное мироощущение. То же и в лирике, особенно в деталях: круп лошади, пахнущий свежей землей; еловая рукоять косы; дети, играющие с ужом; сельский портняжка со свадебной скрипочкой в руках; деревенское кладбище на взгорье, как стадо дымчатых овец. Само восприятие земли, солнца, травы хранит черты почти языческого пантеизма.
Ю. М ар ц и н к я в и ч ю с. Ну что ж, ведь мы были последними в Европе язычниками. Христианство официально пришло в Литву лишь в конце XIV столетия. Но еще на моей памяти старик крестьянин, возвратившись из костела, мог подолгу беседовать с любимым старым деревом во дворе, поверяя ему свои мысли и заботы.
Е. Сидоров. И эпическое чувство тоже из детства?
Ю. М а р ц и н к я в и ч ю с. Часто вспоминаю уроки той дальней поры, которые тогда, конечно, еще не осознавались, а сегодня полны глубокого значения. В детстве я узнал весь крестьянский календарь, весь цикл сельских работ. По вечерам, особенно зимой и осенью, когда труды по хозяйству были окончены, скот накормлен, отец сажал нас вокруг большого стола и пел песни. Они, как и сейчас понимаю, может быть, были и несовершенны, по своей художественной выразительности, но в них, как бы сгустком, вместилась почти вся, преображенная крестьянским мышлением, история христианства, наивная вера в его способность помочь трудовому человеку. Это был своеобразный крестьянский эпос, и он наверняка сыграл большую роль в пробуждении во мне первых проблесков поэтического сознания. Крестьянский «миф» о зерне, которое как бы погибает, а весною опять воскресает, дивным образом совпадал с христианским мифом об умирающем и воскресающем боге. Это будоражило детскую фантазию, соприкосновение с землей для меня было полно необъяснимого, тайного смысла, любая работа приобретала почти обрядовый, веками сложившийся характер. Дерево было по-настоящему живым, я вдруг мог почувствовать его боль, когда обламывал ветки. Мокрое полено, брошенное в огонь, издавало жалобный писк, похожий на стон, — и я верил, что это жалуются души умерших за грехи свои, заточенные в этом дереве... Впрочем, всего не расскажешь.
Не так уж незначительно, если вдуматься, то, что происходит с нами в жизни. Просто надо понять и осмыслить жизнь не как обыденность, а как историю, как бытие.
Е. Сидоров. Не в этом ли чувстве — залог подлинного расцвета современного социалистического искусства? Возьмем самый близкий вам пример — Литву. Шестидесятые годы принесли большие успехи ее культуре. В эти годы на всесоюзную и международную арену вышел литовский роман, его художественный авторитет связан с именами П. Авижюса, М. Слуцкиса, А. Беляускаса, В. Бубниса и других отличных прозаиков. Поэзия представлена такими яркими и разными художниками, как Э. Межелайтис, А. Балтакис, Ю. Вайчюнайте, А. Малдонис и, конечно же, Ю. Марцинкявичюс, простите, что говорю вам это в глаза. То же самое можно сказать и о кинематографе Желакявичюса, театре Мильтиниса, скульптуре Йокубониса, графике Красаускаса, архитектуре новых жилых вильнюсских районов. В чем, на ваш взгляд, причины такого расцвета?
Ю. Марцинкявичюс. Однозначного ответа, думаю, быть не может. Мне кажется, что пятидесятые годы были временем накопления духовных сил народа, ранее не имевшего возможности выразить себя. Вспомните, была война, фашистская оккупация, да и после победы выстрелы в наших лесах гремели до начала пятидесятых. Многие литовцы погибли в борьбе с гитлеризмом, в классовых боях, часть ушла в эмиграцию. Народ, строя новую, советскую жизнь, испытывал глубокую потребность в историческом и художественном осмыслении своего революционного опыта, в духовной компенсации физических потерь, и литература, и искусство были призваны утвердить социальный и нравственный опыт народа, его бессмертие.
Выросло, набрало силу новое поколение, к которому принадлежу и я. Поколение, чье детство прошло в условиях буржуазной Литвы. Через отцов и старших братьев мы чувствовали накал социальных страстей, сотрясавших нашу землю. Потом утвердился народный строй, и снова — трагедия войны и оккупация. А дальше — борьба за социалистическую Литву. Судьба малой нации на историческом изломе ощущалась нами непосредственно, стала нашей личной судьбой.
Вот, по-моему, корни, истоки подъема современного литовского искусства и литературы. Многовековые чаяния, идеалы народа должны были соединиться с революционной практикой и найти свое выражение в слове и линии, в театре, кинематографе, архитектуре.
Е. Сидоров. Некоторые критики и писатели, например, В. Кубилюс, В. Бубнис, М. Слуцкис, считают, что сегодня литовская проза начинает повторять себя. Канонизируется прием внутреннего монолога, да и вообще сильна инерция формы.
Ю. Марцинкявичюс. Видимо, они правы. После определенных достижений литовского социально-психологического романа наступило время некоторого спада. Мне лично кажется, что нашей прозе сегодня часто не хватает той «заземленности», которая совершенно необходима, если хочешь глубоко познать в выразить социальную сущность жизни. Техника — на довольно высоком уровне, эпическое и философское содержание — победнее. Но опыт, накопленный литовской прозой, очень плодотворен и до конца, по-моему, еще не осознан.
Стоит, на мой взгляд, всегда помнить следующее: корабль искусства может быть изящно выстроен, легко скользить по волнам, но если он не нагружен большой социальной идеей, страстью, страданием, то не оставит в море глубокой борозды. Уверен, что успех любой литературе приносит ее стремление мыслить масштабно, целыми пластами национального опыта, каждый раз это должно быть похоже на «сотворение» мира и человека. Ведь, в сущности, мир создавался столько раз, сколько было оригинальных художников.
Е. Сидоров. Признаться, мне очень близки ваши мысли о поэме как синтезирующем жанре, которые вы высказали несколько лет назад на страницах журнала «Вопросы литературы» в беседе с В. Огневым. Действительно, поэма, пользуясь всесторонним опытом литературы, как бы обобщает определенный этап общественной жизни и мысли. Чувствуя трагизм противоречий и борьбы, она создает характеры, которые должны стать типами времени и эпохи.
Ю. М а р ц и н к я в и ч ю с. Поэма — мой способ жизни, общения и выражения. Я и сейчас убежден, что это жанр всех поэтических жанров.
Е. Сидоров. Вот-вот. Не так ли и с современным романом? А точнее — с романным (поэмным) мышлением? Мне кажется, что нашей литературе недостает масштабного, художественно-философского взгляда на действительность. Недавно я уже писал об этом. Беда в том, что при всех бесспорных достижениях советской многонациональной прозы и поэзии художник нередко как бы оторван от мыслителя, не соединяется с ним на пространстве романа, поэмы, драмы. Но при таком разрыве нельзя пытаться передать наше время как нечто непреходящее, имеющее неоспоримую духовную ценность для будущих поколений.
Ю. М а р ц и н к я в и ч ю с. Я с интересом прочел вашу статью «На пути к синтезу», опубликованную «Вопросами литературы». Думается, в ней выражена тоска многих наших современников по масштабным произведениям, в которых личная судьба человека стала бы общезначимой не только для определенной группы людей, но и для целого народа, а может быть, и для целого мира. Соглашаясь с вами, хочу лишь добавить: современный герой очень редко бьется над смыслом всего сущего и происходящего. Такой человек способен потерять причинность событий, утратить представление об иерархии нравственных ценностей, а его духовная инертность может простираться довольно далеко, проникать во взгляды не только на жизнь, но и на литературу.
Может быть, многие наши произведения находятся «в плену» именно такой личности. Мы должны чаще задумываться над тем, чтобы передать наше время как «момент вечности».
Е. С и д о р о в. Речь идет, в сущности, даже не о результате, а о процессе. Иначе говоря, дело не в том, что получится («Война и мир», «Медный всадник», «Тихий Дон» точно не получатся, да этого и не надо!), а в том, чтобы непременно ставить перед собой большую задачу, в меру сил своих и даже выше меры. Она, эта мера, никому заранее не известна и достигнута может быть только на пределе творчества.
Всегда вспоминаю в этой связи Пьера Безухова, которого пронзила однажды простая и вечная мысль: «Сопрягать надо!»
Не так ли и художник призван сопрягать землю и небо, историю и будущее, социальное и общечеловеческое в единое напряженное целое?
Ю. Марцинкявнчюс. Вряд ли можно это оспорить.
Е. Сидоров. Еще как можно! Один критик утверждает вслед за поэтом: «Умчался век эпических поэм...»; другой считает, что важнейшее дело сегодняшней литературы — «исследование среды». Согласен, что важнейшее, только ради чего? И лирические, и аналитические формы чрезвычайно необходимы, никто и не списывает их по ведомству подсобных, но главная цель литературы — ведь должна же она светить впереди! Убежден, что если в произведении, претендующем называться романом или эпической поэмой, нет концепции мира и человека, нет цельного авторского взгляда, стягивающего воедино кардинальные духовные проблемы времени, то оно сегодня удовлетворить нас до конца уже не может.
Тут приходит на ум и еще одно соображение. Ведь у каждого большого художника живет в душе стремление — как бы это поточнее выразиться — гармонизировать действительность, что ли. Пожалуй, так. Как бы ни был противоречив и трагичен мир, в творце живет жажда понять закономерности и смысл целого, утвердить высшую правоту жизни.
Ю. Марцинкявичюс. Мне кажется, что в любом истинно художественном произведении присутствует концепция мира и человека, или, вернее, произведение является «художественной формулой» этой концепции. Странно, что вы пишете: синтез лишь в крупных формах — в романе, поэме. А вот «Я вас любил...» Пушкина (8 строк), «Слезы людские, о слезы людские...» Тютчева (6 строк) или «И снова осень валит Тамерланом...» Ахматовой (8 строк) — я нарочно называю короткие стихотворения — разве в них нет концепции мира и человека? Художник ведь и начинается с этой концепции, с большого чувства правды, боли, радости, он призван не только судить о мире, но и судить его, оправдывать и возвышать или, точнее, делать все это вместе — одним жестом, одним мазком, одной строкой, одним вздохом, одной улыбкой и слезой.
Когда вы говорите о творческой «гармонизации» действительности, я готов согласиться с вами. Задача или возможность этого изначально заложена в двойной природе творчества: в отображении действительности и в ее преображении. Об этом говорят многие писатели, в том числе и такой сложный, трагический художник, как Камю: «Был бы мир ясен — не было бы искусства».
Е. Сидоров. В ваших поэмах меня как раз и привлекает принципиальная установка на обобщение высокого масштаба, где земное и философское, современное и историческое стремятся объять друг друга в единстве художественной правды. Как говорит ваш Белый летописец из «Миндаугаса»:
...Нам непременно надо
и общее объять и человека,
увидеть цель и выяснить причину.
И национальный опыт, история народа в решающие, переломные моменты его развития дают поэту широкую возможность именно такого эпического постижения жизни.
Ю. Марцинкявичюс.*На мой взгляд, в истории больше всего проявляет себя философская сущность эпоса. Понятней становится мысль Белинского о том, что история когда-нибудь заменит роман.
Жизнь каждого человека— тоже своеобразный эпос, с борьбой, поисками счастья, страданиями, изменами, стремлением победить судьбу, если она враждебна ему. Когда я беру миф, народное предание, я вижу в нем подтверждение и своего человеческого и творческого опыта.
Е. Сидоров. Нынче сильна тяга многих наших писателей запечатлеть современную советскую жизнь, ее духовный опыт как процесс сложного движения к общечеловеческим идеалам. Ощутить быт как бытие. Не абстрактно, а непременно опираясь на исторически конкретно постигаемую действительность, где обобщение вырастает из реальной, земной почвы. Характерно, что это свойство художественного мышления особенно сильно проявляется у писателей, как правило, генетически связанных с народной средой.
Ю. Марцинкявичюс. Дело, конечно, не в происхождении и не в местожительстве писателя. Но ощущать свою кровную связь с народом, быть выразителем его идеалов художник обязан. Сегодня, в условиях развитого социализма, народная, национальная жизнь, как никогда ранее, получила возможность проявлять себя в самых разнообразных формах. Да и вообще вся подлинная литература во все времена опиралась на опыт народа. Взять те же мифы древности — это ведь застывшая в веках и поколениях национальная жизнь. И я оглядываюсь на нее, как на свою, которую прожил.
Нет человека вне времени и вне пространства. Ты национален? — спрашиваю я. И отвечаю: тем ты и интересен, понимая национальное содержание как живое, движущее качество. Даже в сфере такого, казалось бы, «интернационального опыта», как научная фантастика, создается национальная литература. Я не говорю об отсталых, враждебных формах проявления национального, я говорю о своем способе жить, общаться, понять и быть понятым. О традиции своей родной литературы, о «народной книге» фольклора. О эадаче писателя свидетельствовать о народе, о стремлении народа выразить себя своими формами добра и красоты.
Вместе с тем писатель, более чем кто-либо, является «продуктом» интернациональным. В его «строительстве» участвует опыт многих культур. Диалектически в любом истинно национальном искусстве всегда есть интернациональный пафос, сближающий народы. Другое дело национализм — это действительно огромное зло, разрушающее духовные ценности народа. Он крайне сужает возможности нации, ставит ей пределы, не допуская в «свою хату» иного опыта. Национальное разумно и возвышенно тогда, когда открыто к миру, к общению, к самоотдаче. Тогда нация способна и сама принимать и перерабатывать другой национальный опыт. Мы, литовцы, хорошо знаем, сколько вреда и бедствий может принести народу ложная внеклассовая национальная идея. Это слишком близкая к нам история.
Е. Сидоров. Обратимся к вашим драматическим поэмам. Как раз в них национальное чуждо какой-либо исключительности, оно всегда обращено к социальным, а дальше — к общечеловеческим идеалам.
Я прочел в «Дружбе народов» драматическую поэму «Собор» в переводе Давида Самойлова. На мой взгляд, это заметное литературное событие. Вслед за «Кровью и пеплом», «Стеной», «Миндаугасом», отлично в свое время переведенным А. Межировым, ваш «Собор» тоже обрел все права русского стихового гражданства.
Ю. Марцинкявичюс. Не скрою, мне радостно это слышать. Вот вам еще одно доказательство своеобразно и конкретно проявляющейся интернациональной миссии поэта: переводы. Чем бы мы обменивались — тостами? Благословен труд и подвиг переводчика, открывающий мир национальной многозначности нашей поэзии!
Е. Сидоров. В «Соборе», как и в «Миндаугасе», действуют исторически подлинные лица: архитектор, сын крепостного Лауринас Стуока-Гуцявичюс, построивший ратушу и кафедральный собор в Вильнюсе, и его антагонист епископ Масальский, крупный сановник церкви и польско-литовского государства. Хотелось бы услышать, каких принципов вы придерживаетесь, работая с документом, как взаимодействуют в ваших поэмах факт и вымысел, история и творческая фантазия?
Ю. Марцинкявичюс. Позвольте, Евгений Юрьевич, спрятаться за авторитетами. Аристотель: в поэзии больше философии и серьезности, чем в истории. Белинский: каждое лицо трагедии принадлежит не истории, а поэту.
Творческая фантазия всегда опирается на факт, на хорошее знание исторической среды, на детали быта. И знать необходимо в десять раз больше, чем тебе понадобится на самом деле. Только так можно чувствовать себя в материале более или менее свободно.
Для меня события прошлого не имеют «законченного» значения. Ибо то, что было, то, что мы называем историей, — на самом деле не завершено, а продолжается в нас и будет продолжаться вечно.
Птица современности поет на любой могиле.
Е. Сидоров. Должен признаться: читая ваши драматические поэмы, я иногда ловлю себя на мысли, что мне не хватает в них воздуха. Поясню, что имею в виду. Слишком много напряженной патетики, «высокого», но явно недостаточно «низкого», грубой жизни, юмора. Гениально снижал патетическую ситуацию Шекспир, не боясь скомпрометировать жанр или героя. То же — Пушкин в «Борисе Годунове» и, конечно, в «Маленьких трагедиях» — вспомним, например, его Моцарта. Вообще это одна из серьезнейших проблем реализма в драматической поэзии — слияние земли и неба; романтизму она в принципе была довольно чужда, вспомнить хотя бы Гюго, Байрона...
Ю. Марцинкявичюс. У меня есть одно оправдание: все-таки я поэт, а не драматург. И мои драмы, наверное, больше поэмы, нежели пьесы в стихах. Хотя, конечно, я вижу, как можно было бы построить сцену, придав ей более натуральный, что ли, характер. И в этом смысле есть движение...
Е. Сидоров. Да-да, как раз об этом я и хотел сказать. Движение, несомненно, есть. Если «Миндаугас» еще явственно нес в себе черты поэмного развития, то «Собор», на мой взгляд, больше драма, нежели поэма.
Ю. Марцинкявичюс. Интересно, почему вы так считаете?
Е. Сидоров. Сейчас скажу. В «Соборе» роль монологического высказывания заметно уменьшилась по сравнению с «Миндаугасом». Большее значение приобрели массовые сцены, в поэму проник простонародный говор. Тут, видимо, вот в чем дело. «Стена», например, как поэма «чистого» жанра, может быть, и не требовала привнесения в нее «низкого», ее стиль и структура поэтически более условны. Но драма в стихах (пусть вы и делаете акцент на слове «поэма»), где обязателен диалог, характеры, условна совсем по-другому. Хотя бы потому, что здесь «изъят» автор. И одним пафосом монологического высказывания не обойдешься. Здесь, как мне кажется, стихотворная речь должна более гибко отзываться на речь собеседника, контрасты не могут проявляться так откровенно и наглядно, как противоборство, скажем, Стены и Матери, Войны и Мира, Света и Тени.
По-видимому, и эстетическая система должна быть более гибкой. В этом смысле я и говорю о движении нашей поэтики. В «Соборе» ощущаются поиски живой драматургической формы, которая могла бы выразить многие диалектические оттенки. Мне вообще кажется, что ваше образное мышление по природе своей диалогично, и драматический эпос Марцинкявичюса — это прежде всего спор, в котором каждая добытая человеческим опытом истина вновь и вновь проверяет себя в отраженной искусством исторической жизни народа.
Ю. Марцннкявичюс. В первую очередь я хочу, чтобы мой драматический эпос читался, чтобы он «разыгрывался» на подмостках души читателя. Театр, уж если он берется за постановку поэмы, должен превратить поэтическое действо в сценическое. Тем более сегодня, когда накоплен большой опыт поэтического театра. Сидя в зале, я часто ловлю себя на мысли: достаточно ли четко и выразительно произнесено слово, дошло ли оно до последних рядов балкона, работает ли оно в полную силу?
Как видите, я сторонник литературного театра, и слово для меня — главное в нем действующее лицо. Драматическая форма — это каркас, условность; поэтическое слово — плоть, облегающая этот каркас. Именно на него вся моя надежда, а не на драматургическую структуру. Слово многозначнее, чем действие. И оно первичнее: «В начале было Слово». Конечно, не любое слово, хотя есть режиссеры, которые утверждают, что могут поставить в театре и телефонную книгу. Но пока это только попытка унизить слово, которое в поэзии является не игрой, а судьбой. А значит, и драмой, ибо драма развертывается там, где начинается судьба.
Е. Сидоров. В том, что поэтическое слово активно воздействует на зрительный зал, вызывает глубокий духовный отклик, я убедился сам, когда смотрел «Миндаугас» в Государственном литовском театре драмы. Честно говоря, я был приятно удивлен: спектакль идет уже несколько лет, а в зале не было свободных мест.
Сейчас, как мне известно, вы закончили новую драматическую поэму?
Ю. Марцинкявичюс. Да, третью поэму цикла, которая посвящена литовскому первопечатнику Мажвидасу (середина XVI века). В языке, и особенно письменном, нация утверждает себя, свое самосознание в веках.
Вместе с «Миндаугасом» и «Собором» новая поэма составляет своеобразный эпический триптих. В его фундамент заложены три основных элемента национального бытия, три основные эпические формы народного самосознания: государственность («Миндаугас»), письменность («Мажвидас»), духовность («Собор»). В героях триптиха я стараюсь реализовать и историческую национально-освободительную идею, и проблематику современного человека, пронизывая весь материал внутренней темой гражданского долга, который, как крест, может поднять, а может и согнуть человека.
Е. Сидоров. Вот эта тема долга в ее социальном и моральном аспекте представляется мне наиболее глубоким и сложным мотивом в «Соборе». Когда друзья — поэты, артисты, музыканты — зовут Лауринаса на вооруженную борьбу за независимую свободную Литву, он отвечает им:
...Есть борьба,
Одна борьба для нас: словами, цветом,
Аккордами, соединеньем линий,
Борьба эа красоту. И красотой...
Талант и бунт для него в тот момент несовместимы, он хочет и дальше строить, творить красоту, воплощая чаяния своего народа в гармонии высокого искусства. Мир спасет красота — помните, как у Достоевского?
Кто же прав? Трудный вопрос. Ваш герой выбирает бунт, ибо только в прямом служении народу он может осуществить свое содержание как творческая личность. Бунт выбрал и великий Петефи, если вспомнить другие исторические примеры. Но можно ли с точностью измерить на весах исторической справедливости, как должно поступать художнику, национальному гению, в те или иные кризисные минуты истории? Пушкину, например, в период декабрьского восстания. Меч выбрать или лиру — ведь и тем, и другим можно успешно бороться за правду, за освобождение человека?
Ю. Марцинкявичюс. Герой «Собора» выбрал бунт по исторической и по своей внутренней необходимости. Если бы он не вышел на баррикады в дни вильнюсского восстания, проходившего под лозунгами национального освобождения, то его жизнь осталась бы более однозначной и он наверняка не заинтересовал бы меня. Возможно, он и построил бы одним зданием больше, но его идея не вспыхнула бы в истории, словно комета, подобно той, которая возникает в первой картине «Собора».
А Байрон? Его трагическая гибель в Греции. Разве не те же чувства повлекли его туда? У Пушкина другая, не менее драматическая судьба. Он был «на берег выброшен грозою».
Е. Сидоров. Но вернемся к вашему творчеству. Должен сказать, мало кто, кроме вас, в современной многонациональной советской поэзии так последовательно утверждает поэму как универсальный способ поэтического постижения действительности.
Ю. Марцинкявичюс. Тут важен еще один, исторический, момент. Народную поэзию почти каждой нации несут два крыла — лирика и эпос. Но так уж сложилось, что подлинного, большого эпоса в народной литовской поэзии не было, хотя письменная поэзия, начиная от Донелайтиса, сильно тяготела к поэме.
Е. Сидоров. Стало быть, нехватка эпического в национальной поэзии и побудила вас обратиться к поэме?
Ю. Марцинкявичюс. Нет, нет, что вы, жизнь в литературе не начинается так рассудительно. Когда я писал первую поэму, думал, что она, чего доброго, останется единственной — ведь я «живу» и в лирике. А сейчас, оказывается, могу сказать: поэма — это и есть мое мироощущение...
Е. Сидоров. Видимо, есть сегодня глубокая потребность в искусстве, утоляющем жажду полноты бытия и мысли. «И общее объять и человека» — задача гигантски трудная, идеальная, по сути дела, но если не стремиться к идеалу, зачем творчество, зачем сама жизнь? Конечно, это старая истина, но в том-то и вечная сила простых истин, что каждое время, каждое поколение постигает их собственным, неповторимым опытом.
Из книги Евгения Сидорова «На пути к синтезу»