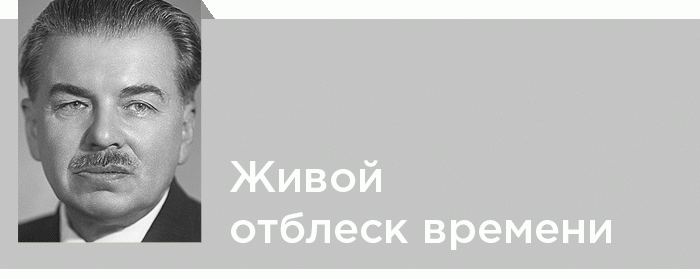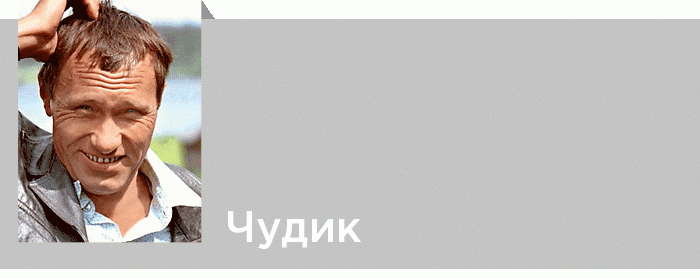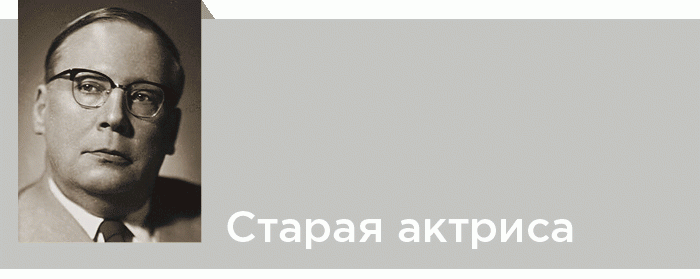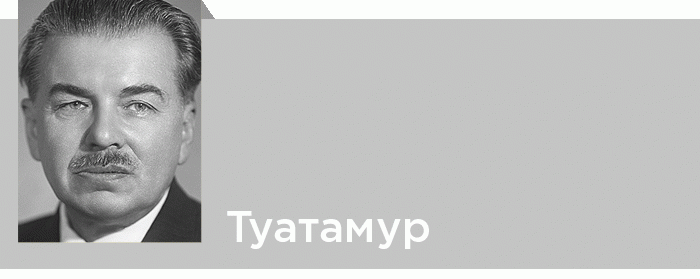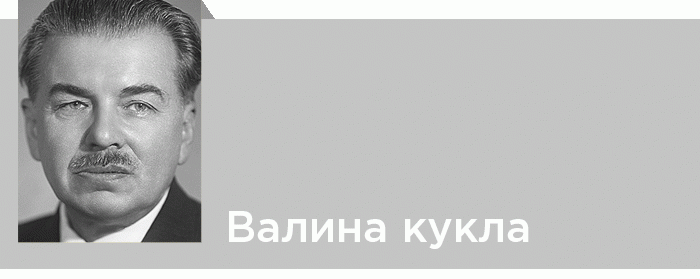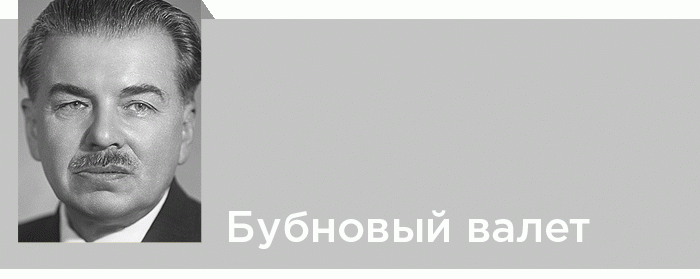Легенды и притчи в произведениях Леонида Леонова
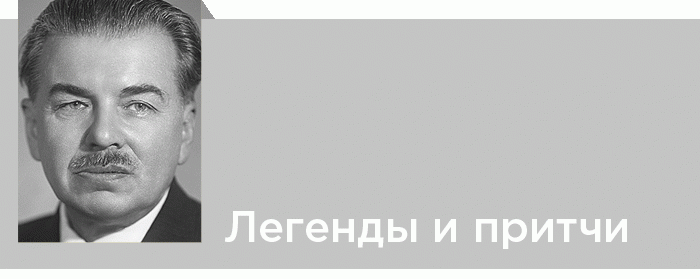
Г.И. Платошкина
В произведениях Л. Леонова значительная роль отведена многочисленным легендам и притчам. Словно бы разбросанные по произведениям писателя разных лет, они активно участвуют в решении многих философских, социально-нравственных проблем леоновского творчества.
Если все притчи из произведений Леонова как бы «выстроить» в один ряд и проследить развитие авторской мысли от одной к другой, го нельзя не обнаружить между ними самой прямой связи. И становится ясно, как «при помощи этих маленьких, на один глоток, сказаний» сам Леонид Леонов — по его же словам о притчах Льва Толстого — тоже стремится «утолить извечную человеческую жажду правды».
Уже первый леоновский рассказ «Бурыга» может рассматриваться как своеобразная притча — со многими смысловыми планами и предельно глубоко «запрятанными» тенденциями. Роль этого рассказа — словно бы «запева» для всего последующего творческого развития писателя — определяется, в частности, тем, какая функция принадлежит ему в цепи множества небольших по размеру, но глубоких по своей философской сущности притч-легенд. Так, в самом лесном «детеныше» Бурыге, в горестной судьбе «окаящки», при всей фантастичности этого образа, нельзя не почувствовать того, что составляет сущность диковатой, замученной рабской жизнью, но открытой для добра и справедливости мужичьей души, мятущейся и страдающей в мире жестокости, бесправия.
Любая леоновская притча по самой сути своей не только философски глубока, но и далеко не однозначна. Попытки некоторых исследователей «истолковать» такую притчу в каком-либо одном смысловом плане всегда приводили к неудачам. Вместе с тем нельзя не увидеть в системе леоновских притч некоторых сближающих начал, как бы связующих линий, что объединяют их в широком русле «мыслительной системы» всего творчества писателя в нечто единое и по-своему цельное.
Так, смысловая двусоставность леоновского изображения рубки леса в рассказе «Бурыга» — и как активного наступления «нови» на все ветхое, дремучее, и как безжалостного уничтожения «зеленого друга» — положила начало не только раскрытию темы леса в творчестве Л. Леонова, но и исследованию ряда смежных проблем, в числе которых и роль технического прогресса в истории человечества. В русле раздумий о том, что отход от природы в век бурного технического прогресса дает благо, но оплачивается очень дорого, многие моменты выделяются (и заостряются) Леоновым именно в притчах ряда его произведений последующих лет.
Леоновские легенды-притчи (по его же точному определению — «маленькие сказания») многое проясняют в идейно-образной структуре его произведений. В повести «Петушихинский пролом» содержатся три притчи, сочетание которых композиционно определяет трехчастность сновидений юного Алеши. Одна из них — это легенда о человеческой Радости, томящейся в неволе, спрятанной от людей в свинцовом сундуке. Позже окажется, что вместо этой райской Радости в сундуке «холодное, пустое место». Вторая притча — о тяжелой каменной ступе, в которой что-то бесконечно толок «чугунный слепой дед» («Толку землю твою, — сказал он Алеше. — Растолку — пущу по всем четырем ветрам, двадцати поветерьям. Пущай по всем краям полымем процветает»). Когда не обнаружится человеческой Радости в сундуке, окажется и черная ступа пустой. Иначе говоря, — не только обещание райской Радости неземной, но и мрачные, адовы угрозы человеку земли были обманом.
А что же истинно и каков путь к человеческому счастью? Эта мысль — о мучительной сложности человеческих поисков и сомнений, как и всего движения человечества к свету, к свободе и счастью, — выделяется автором в третьей притче.
До сих пор оставался незамеченным исследователями (а может быть — неразгаданным) образ большой смысловой емкости, возникающий в третьих, заключительных частях Алешиных снов, — образ косматого, бешено вертящегося мужика — воплощение всей трудовой России, ее страданий и мучительных поисков, горьких разочарований и надежд. В образе этом — в предельной концентрации и в той же степени обнаженно — выражается главная авторская мысль о судьбе России.
Все три притчи в «Петушихинском проломе» даются Леоновым в предельно сжатом виде. Каждая из них — это словно бы образная формула, которая «логарифмически» представляет какую-то важную авторскую мысль. Дело в том, что в повести «Петушихинский пролом», как и во многих других ранних произведениях, Леонов уже использует способ, который гораздо позже будет определен самим писателем как «художественное логарифмирование». Так, в символике трехчастных Алешиных снов расшифровываются обозначения рая, ада и земных страданий человеческих. И все эти притчи в совокупности способствуют выделению в повести темы будущего и возможных путей к нему.
Сны-притчи в «Петушихинском проломе» Л. Леонова — словно бы «изначальные мелодии» его будущих, порою довольно развернутых притч-легенд — уже содержат в себе мысли о путях России, о судьбах русского народа, о трудной ломке в человеческом сознании на переломе эпох. Эти мысли в разных аспектах и все с большей глубиною и будут прослеживаться в дальнейшем творчестве писателя, и в частности — найдут последовательное развитие в целом ряде его притч.
Если рассматривать леоновские притчи в их совокупности, то многое может дополнительно проясниться. Становится ясно, например, что притча об отдаленном будущем, которую Черваков рассказывает любимой женщине, дается в «Унтиловске» не только с целью «обличения» не видевшего жизненных перспектив и оттого пессимистически настроенного, вдобавок довольно эгоистичного и самовлюбленного «человечка», но в какой-то мере это еще и проявление того полезного скептического начала, что заставляет человека вдумчиво относиться к жизни, к выбору путей и средств в своей борьбе за будущее. И мужицкая легенда о медведе в рассказе «Бродяга», что дается в соотнесенности с судьбою крестьянина-бедолаги Чадаева, должна рассматриваться не только в плане осуждения бездушного отношения к человеку, но и более глубоко — как мысль о необходимости бережного сохранения всего, что дорого сер; человека и что понадобится ему на пути в будущее, в том числе о борьбе за природу. И в этом — связь легенды с другими «маленькими сказаниями» Л. Леонова.
Именно тем, что произведения Леонида Леонова, по его же признанию, принадлежат к «мыслительной литературе», тем, что сама их структура определяется логикой развития авторской мысли, равно как и мнением писателя к предельному «сгущению» в художественном Сражении, к высокой степени концентрации мысли, — всем этим опаляется немалая роль системы притч в его творчестве.
В любом из произведений Л. Леонова, содержащем в себе «маленькие сказания», для писателя важны все жанровые особенности притчи: и возможность предельного заострения авторской мысли, и особые способы художественной выразительности, и высокая мера экспрессивности, и свойственная этому жанру «параболичность мышления».
При создании притч Леонидом Леоновым нередко использовался сказочный прием троекратности, что расширяло возможности для более емкого — словно бы «тройственного», а точнее многоаспектного — разъяснения «сквозной» авторской мысли. Это, например, троекратная повторяемость снов Алеши (да и трехчастность самого их содержания) в повести «Петушихинский пролом». В «Барсуках» тоже нельзя не заметить своеобразной трехчастности, которая подчеркивается даже названием глав: «Первая ночь у костра», «Вторая ночь у костра» и «Третья ночь у костра». Аналогично этому определяются и сопутствующие им смежные главы: «Первое событие осенней ночи», «Второе событие осенней ночи», «Третье событие осенней ночи». В каждой из первых выделяемых нами глав содержится притча, а в каждой из трех ночующих находят развитие мысли, положенные в основу притч.
В романе «Вор» можно выделить троекратность встреч Векшина Пчховым, в описание которых «вмонтированы» притчи или прослеживается дальнейшее развитие заложенных в них смысловых линий. Наблюдается особая трехчастность и в развитии образа белого слона в куриловской сказке-притче из «Дороги на Океан»: сначала это просто слон, выступающий в цирке; затем он попадает в «черномазое королевство», где является богом и где его торжественно выводят на народное празднество. А в результате от него, жестоко растерзанного за неповиновение, остается лишь «оболочка», в которую вставляют механизм. Подделка эта автоматически послушна, внешне — даже более привлекательна, однако ее, что составляло самую сущность прежнего живого существа, его обаяние, выхолощено, уничтожено навсегда.
Жанровая форма притчи, все иные особенности содержания и формы «маленьких сказаний» дают Леониду Леонову возможность больших философских обобщений. В леоновских притчах с особой силой чувствуется свойственное творческому методу писателя «наслаивание» смысловых параллелей, «удвоение и утроение функциональной роли образа, мотива, детали». В стремлении достичь большой обобщающей силы изображения Леонов пользуется «синтезирующей образностью».
В романе «Барсуки» притчи, рассказанные ночами у лесного костра крестьянами-мятежниками, представляют собою образное воплощение их реакции на происходящее в стране, способствуют заостренному выделению основных моментов в спорах мужиков о смысле человеческой жизни и о возможных ее перспективах. Однако этим сущность каждой из притч, как и всех их в совокупности, далеко не исчерпывается.
Любая из притч в «Барсуках» имеет символическое предварение, и в первой из них — «Про руку в окне» — в качестве такого предваряющего начала дается краткий рассказ о том, как обживались в лесу мятежники и как они, строя землянки, «врывались» в барсучьи норы. Леонов пишет: «Два барсука попались в них. Первый ускользнул прямо между ног у Федора Чигунова. Второго зашиб заступом Егор Брыкин и, присев на корточки, долго глядел в глаза подыхавшему зверю... Не было в барсучьих глазах ничего, кроме непонимания...». Молча продолжали работу мужики, молча сидели потом у костра, «глядя в огонь», «вяло» слушали слова Жибанды «о планах на будущее». О чем же думали они? Разгоревшийся в ту ночь спор у костра проясняет главную направленность их раздумий: спор шел о смысле человеческой жизни. Правда ли, что человек «родится, чтоб помереть», что он всю жизнь «помирает, отбавляет от себя цвет день за днем» и непременно сам должен «темного света» захотеть, как утверждает Прохор Стафеев? Нет, «совсем наоборот», — заявляет Юда и в подтверждение своих слов рассказывает притчу, в основе которой необыкновенная история из его собственной жизни.
... Нет, не сам пожелал «темного света» тот гимназистик, что торопился за хлебом для умирающих с голоду матери или сестры. На морозе, на лютом ветру висел он снаружи вагона, ухватившись рукою за край окошка. Бесчеловечной жестокостью погублен был парнишка, жадным своекорыстием некоторых людей, их духовной глухотою в отношении друг к другу. И только звуки музыки, пусть даже на какое-то мгновенье, но пробудили в душах подобных людей что-то светлое, словно бы самих их «наизнанку вывернуло». Впервые пробудилось сочувствие к пареньку за окном, да поздно... Человек родился не для того, чтобы умереть, а чтобы жить, добиваться счастья. И очень необходимы во взаимоотношениях между людьми чуткость, забота, душевный отклик.
А что дает человеку окружающий мир, и в частности, — что несет мужику город? Размышления об этом, как бы развивающие основную мысль первой новеллы-притчи, становятся сквозными для двух последующих.
Притче «Про немочку Дуню» непосредственно предшествует разговор мужиков о городе. Герой-рассказчик, которым является на этот раз Мишка Жибанда, поведал историю, что произошла в городе в дооктябрьскую пору, когда у его отца богатое «заведенье» было и когда сам он старался жить беззаботно и бездумно. В новелле-притче вырисовывается образ обаятельной молодой женщины, человека высоких духовных качеств и трагической судьбы. Мишка Жибанда, хотя и сам увлекся Дуней, и лицеисту отомстил за страдания, причиненные ей, никогда не проявлял истинного сочувствия к ее судьбе: «Она потом-то жить со мной стала... — Жибанда помолчал и с зевком перевел глаза на Настю. — Удрал я от нее, концы с концов. Весь у ней огонек пропал, пить стала».
И мужики думают: вот, мол, как в городе-то. Так, мол, и надо тому лицеисту-барину, что «довел себя до мужицкого кнута!». Но что же в итоге — один бездушный город виноват в судьбе несчастной Дуни? Ну а сами мужики проявили сочувствие к обездоленному человеку? Нет, никто из слушавших! Побеспокоились лишь о коне, которого «спортил» Мишка в день «расплаты» с лицеистом.
В третьей новелле-притче — «Про неистового Калафата» — раздумья о смысле человеческой жизни и о городе как носителе прогресса прослеживаются в единстве, в силу чего каждая из упомянутых смысловых линий обретает еще большую глубину. Притче о «деяниях» Калафата в романе непосредственно предшествует «разговор о буянстве города против разных величественных вещей, бога в том числе», и в частности — спор о том, кто кого «одолит»: «закон природы» или наука. В чем же состоит основной смысл третьей «барсуковской» притчи?
Та смысловая неоднозначность, что свойственна всем леоновским притчам, с особой силой проявилась в «Барсуках» именно в легенде о неистовом Калафате. Вероятно потому и толковалась она исследователями по-разному. Критики 20-х годов еще не стремились к «расшифровке» леоновских притч в «Барсуках», чаще всего ограничиваясь определением их внешнекомпозиционной функции. Например, в статье П. Медведева это выражено следующим образом: «Выпадают, наконец, и три вставных рассказа в III части, сами по себе превосходные, но тормозящие и без того медленное развитие действия. Или, может быть, это сознательный „прием"? Тогда он плохо рассчитан».
Одна из ранних попыток проникнуть в суть леоновской легенды о Калафате принадлежит И. Лежневу, который в рецензии на роман «Барсуки» так характеризовал позицию автора в решении «трудной и скользкой темы» — темы взаимоотношения города и деревни. «Он понял, глубину и важность проблемы — быть может, и в самом деле больше годовой, чем сердцем, — он понял, как нужен деревне „неистовый Калафат“, город, сколько величия в его дерзаниях, и как несостоятельно противопоставление природы науке и технике; характерен в последнем отношении разговор, происходящий между барсуками…».
В работах советских и ряда зарубежных леоноведов последних десятилетий наблюдается довольно активное стремление постичь глубинную сущность притчи о неистовом Калафате и определить ее идейно-композиционную функцию в романе «Барсуки». В работах этих исследователей справедливо осуждались и осуждаются попытки некоторых буржуазных литературоведов, подобных Марку Слониму,. рассматривать легенду о Калафате в «Барсуках» как «выражение авторской точки зрения на коммунизм». В их собственных трактовках есть некоторые различия, но каждая из них выявляет какой-то из смысловых планов легенды про неистового Калафата. Конечно, здесь не имеются в виду работы, в которых ощущается стремление вообще уйти от вопроса о сущности леоновских притч. Например, в монографии З. Богуславской значение вставных новелл в «Барсуках» сводится лишь к тому, что они заполняют «ночные раздумья барсуков» и «становятся выразительной характеристикой трех персонажей романа...».
Первым, кто всерьез задумался над леоновскими новеллами-притчами в «Барсуках», явился В.А. Ковалев. Он попытался, в частности, соотнести идейную сущность притчи о Калафате с идейно-тематической направленностью повествования в романе: «Последний рассказ „Про неистового Калафата", являясь переделкой староверческой притчи, в иносказательной форме выражает вековое недоверие крестьянина к городу, к науке».
В последующие годы вопрос о притче про неистового Калафата активно дебатировался. Одни увидели в ней «выражение „барсуковской"' идеологии» и «отход писателя от этой „староверской" мудрости». Другие — раздумья самого автора о том, «как сочетать естественную красоту стихий и рациональное преобразование мира». Третьи считают, что в этой притче автор беспокоится прежде всего о путях социального прогресса: «Плохи, противоестественны, нежизненны оказались пути и средства достижения целей. Неоплатно высокой, непомерной ценой платил Калафат за дорогой его сердцу порядок». Четвертые оспаривают и такую точку зрения: «Так что же все-таки ложно у Калафата — идея, цель или средства ее достижения? Честно говоря, спор этот абсолютно схоластический. Проблема несовпадения у Калафата цели и средств искусственно придумана, никак не опирается на саму притчу... Автор «Барсуков» не испытывал сомнений в необходимости и благодетельности прогресса, а всякие размышления на тему — природа науку одолеет — характеризовал как староверские и барсуковские, то есть реакционные взгляды».
Делались попытки рассмотрения притчи о Калафате в плане леоновской концепции человека и мира. Так, Н. Грознова справедливо отмечала: «Именно эти мужики и приносят революции повесть „Про неистового Калафата" как тревожное предостережение о возможной мировой катастрофе, если пренебречь мудрыми законами земли. В „Барсуках“ Леонову предстояло своего современника, охваченного нелегкими заботами земной революции, вывести на встречу со вселенной. Это открывало герою всю меру его ответственности за судьбу мира...». Или — как сказано в работах Г. Белой — Леонов ставит здесь вопрос, который «отражает философские искания советской литературы, рожденной революцией: как соотносятся строительство „процесса природы" и законы самой природы (понятой широко, как природа жизни, природа исторической судьбы народа)?».
Приведенные здесь высказывания многих ведущих леоноведов по интересующему нас вопросу свидетельствуют о том, что исследователи касались целого ряда смысловых планов леоновской притчи о неистовом Калафате. И все эти разнородные суждения в своей совокупности прокладывали путь к пониманию основной сущности притчи. Становится ясно, что притча эта заключает в себе некую обобщающую мысль и потому в трактовке своей не может низводиться до уровня конкретной проблематики отдельного произведения. Идейный смысл притчи о неистовом Калафате должен раскрываться в более широком, общечеловеческом плане. Главное в ней — пусть еще и изначальная, но уже столь убедительно выраженная — леоновская трактовка концепции человеческого познания.
Концепция человеческого познания в романе «Барсуки» «вбирает» в себя очень многое. Прежде всего — проблему мужицкого отношения к городу, особенно в годы решительного социального переустройства (опасение, чтобы мужика не забыли, чтобы учитывалась сама специфика его жизни, его исконные мечты, интересы, стремления). Имеется в виду и мысль о прогрессе, о самой его сущности и путях развития (о его неизбежности, значительности и — с другой стороны — о том опасном, пагубном, что связано с его поступательным движением). Здесь и мысль об отношении к природе: о важности использования природных богатств для народного хозяйства, но вместе с тем — о необходимости бережного их сохранения и приумножения. Тесно связано все сказанное ранее и: с проблемой культурного наследия (достойным ли окажется сам наследник величайших «накоплений» человечества?). Все эти проблемы просматриваются через притчу о Калафате, но именно в определенном аспекте — в плане выделения мысли о сущности и путях человеческого познания.
Человеческий разум не может не стремиться открывать новое, изобретать. Но разве сам прогресс — абсолютное благо? Не несет ли он с собою и того, от чего у того же Калафата был «полнейший ералаш в природе», того, что способно погубить и самую радость жизни?
Калафатов путь познания и преобразования мира осуждается еще и за стремление к избранничеству. Калафат действовал так, «чтобы никто из простонародья, скажем, не мог за ним идти».
Вопрос о путях человеческого познания особенно заостряется в диалоге Калафата и «лесного старичка». Мысль, содержащаяся в словах старичка «Так ведь туда и другие дороги есть!», найдет затем прямой «отзвук» в притче об Адаме и Еве в романе «Вор», как и в ряде других произведений Леонида Леонова последующих лет. Отсюда же берет начало и леоновская мысль о том, что разум познает только то, что уже ведает душа. Позже она будет сформулирована в романе «Скутаревский», в высказывании самого писателя в одном из интервью последних лет.
Притча о неистовом Калафате явилась образным и символически заостренным, «логарифмированным» воплощением сложного сплетения проблем, исследуемых автором в интересующем его аспекте — в плане концепции человеческого познания. С позиций такого понимания сущности леоновской притчи «Про неистового Калафата» становится особенно ощутимой и та внутренняя связь, что существует между его легендами-притчами, становится особенно заметно, чем каждая из них подготавливала легенду о Калафате, что конкретно «вплеталось» от нее в дальнейшее исследование Леоновым проблемы человеческого познания и какие линии-лучи потянутся дальше, к «маленьким сказаниям» последующих лет.
В большом споре об «извечной человеческой правде» участвует в произведениях Леонида Леонова огромное множество персонажей, при этом важно, в чьи именно уста вложены упомянутые сказания. Поразительно то, сколь различны характеры, выделяемые Леоновым на «стрежне» этого большого «спора», и как своеобычны те конкретные художественные формы, которые приобретают в его произведениях легенды-притчи.
В «Унтиловске» подобная притча принадлежит «мелкому человечку» Павлу Червакову. Его сказку-притчу о путешествии «ученого дуралея» в десятитысячный век, в котором тот якобы «земли-то и не нашел, и солнца не нашел... ни щепочки, ни малой песчинки!.. Голый, потухший, самоголейший пшик... великая дырка», предваряют рассуждения о ненужности, и больше того — о вредности технического прогресса. Настойчиво утверждая примат извечной тишины, Черваков возмущенно заявляет: «... тысячи оголтелых Бусловых громоздят там башню, чтоб страшнее рушилась и побивала кирпичами. А мы и в лачужках проживем! Надоели вавилонские сооружения!.. А лет через триста — как завизжит эта тишина, запрокинутая, пронзенная каким-нибудь там электрическим лучом. Хе-хе! по лакированным проспектам, под электрической луной гуляют нарядные, краснощекие, смирные потомки! Смирные, переросшие самих себя... Ой, и скучно же будет в ту желанную пору, Раисочка, ску-уш-но...». Конечно, черваковское неприятие ускоренного прогресса бесспорно. Однако не ощущается ли в рассуждениях «унтиловского человечка» и тот полезный скептицизм, что должен заставлять людей с гораздо большим чувством ответственности за судьбы человечества думать о различных последствиях научно-технического прогресса?
Мысли о прогрессе, и шире — о культуре (в самом объемном значении этого слова), выделяемые автором в «Унтиловске», конечно же, не только в монологах Павла Червакова, находят отклик в раздумьях многих других леоновских героев, и в частности — в рассуждениях Виссариона Буланина («Соть»), Этот герой предстает в романе как воплощение циничной разнузданности уходящего буржуазного мира. Безнравственность Буланина позволяла ему всего лишь «под озорную руку» становиться то студентом политехникума, то монахом в скиту, а под конец — шантажистом и предателем на советской стройке, там, где пробивалась новая, «октябрьская поросль». Притча, рассказанная Буланиным Сузанне в момент их спора о роли научного прогресса и культуры, — это, на первый взгляд, словно бы крик души человека, который в годы первой империалистической войны потрясен был «великим апофеозом науки»: за несколько мгновений — две тысячи трупов солдат, уничтоженных легчайшим газом. Со злой иронией говорит Буланин о том, что имя изобретателя этого газа «достойно быть вырезанным на медных досках в университетах», а грудь изобретателя могла быть «по справедливости украшена не одним, а тремя, может быть миллионами крестов... я говорю, разумеется, о братских могилах».
Но притча, рассказанная Виссарионом, — ключ к пониманию не только естественного и во многом справедливого беспокойства героя за судьбы цивилизации. Здесь намечены писателем и пути к пониманию всех последующих — уже циничных! — рассуждений Виссариона о гибельности для человечества достижений технического прогресса, гениальных научных открытий и всего культурного наследия в целом. Виссарион Буланин доходит в своих определениях и прогнозах до полного отрицания научного прогресса и культуры: «Я говорил: надо выжечь отравленное это наследство, потому что мертвецы... все эти Гомеры да Шекспиры правят нами сильнее любых тиранов. Надо уничтожить мозговой элефантиазис, эти благородные клеточки, где угнездились микробы вырожденья. Восставайте до конца! Человечеству ничего не остается, кроме как забыть свое прошлое и начать сначала». А для этого — «земле нужен большой огонь. И верьте, ураган этот наступит, Аттила придет в нем». В романе «Соть» не только устами Сузанны, но всем ходом повествования осуждается эта нигилистическая идея.
Если «унтиловский человечек» Павел Черваков, как и пророчествующий Буланин, совершенно отрицают прогресс, то старый слесарь Емельян Пухов («Вор»), по благупганскому прозванью — Пчхов, человек серьезный, рассудительный, ведет спор с сочинителем Фирсовым в основном о путях человеческого прогресса. В рассказанной им притче Адама и Еву, изгнанных за «промашку с яблочком» из райского сада, некий «соблазнитель» взялся провести в райскую обитель «другой дорогою»: «И повел... — Пчхов задумчиво огладил заросшие седой щетиной щеки. — Вот, с той поры и ведет он нас. Спервоначалу пешечком тащился, а как притомляться стали, паровоз придумал, на железные колеса нас пересадил. Нонче же на еропланах катит, в ушах свистит, дыханье захлестывает. Впереди Адам поддает со своею старухою, а за ими мы все, неисчислимое потомство, копоть копотью... ветер кожу с нас лоскутьями рвет, а уж ничем теперь нельзя нашу жажду насытить. Долга она оказалася, окольная-то дорожка, а все невидимы покамест заветные-то врата! — Он кончил вздохом сочувствия, и можно было по «го сказке угадать, на что ушла у них с Фирсовым зимняя длинная ночь».
Есть в пчховской притче и иной аспект той же проблемы, особенно сближающий ее с притчами, упоминавшимися ранее: мысль человеческая не может не стремиться к познанию, к научным открытиям, но в связи с этим возникает вопрос: а все ли достижения будут использоваться во благо человека? И еще — можно ли достичь когда-нибудь абсолютного познания и существуют ли сами абсолютные истины?
С притчей слесаря Пчхова об Адаме и Еве — то есть с его раздумьями о путях человеческого прогресса — соотнесена в романе «Вор» и вторая пчховская притча, отделенная от первой целым рядом глав. По ходу повествования она адресуется непосредственно Векшину, да, казалось бы, и является прямым откликом на векшинские мучительные раздумья о жизни и саму его духовную «хворость». На самом же деле, этим далеко не исчерпываются смысл и значение второй притчи старого «примусника».
Векшин приходит к Пчхову, который у себя на Благуше «мудрецом слывет», с самыми неразрешимыми для него вопросами («...кто же я на самом деле, тварь или не тварь?..»; «...в каком направлении нам, Векшиным, двигаться, чего добиваться?»; «...чего в руки ни возьму, во всем сомневаться начинаю, и тогда уж роздыху мне нет»), Митька Векшин приходит за помощью, за советом, и старик отвечает ему «притчей из собственной жизни»: «И я вот так же вскоре посля солдатчины твоей же хворостью маленько приболел... ну и надоумили меня под чужую мудрую руку бултыхнуться, за высокую каменную ограду. К уединеннику Агафадору под начал и пристроился я келейничком, возложив на него свое попечение: авось и на мою сиротскую долю маленько обрящет, поелику глуп есмь».
Крепко верил тогда сам Пчхов, что получит духовное исцеление от этого старца. Да только ли один «нерадивый раб Емелька» ожидал желанного благодеяния из других рук? Многие ждали подобного чудодейственного дара. Не на это ли указывает в притче семантика имени «уединенника» (Агафадор — дарящий хорошее, доброе)?.. Немало пришлось пережить Емельяну, пока понял, что напрасно на все свои мучительные сомненья «в гульбе да в забвении ответа искал». Но понял и другое: «из чужого ковшика не напьешься, а умный с книгами лишь советуется». И еще сделал вывод: «хромит чужая воля», надо «в себе самом поглубже колодец рыть».
Можно ли вторую притчу старого слесаря брать в ряду других «маленьких сказаний», если о беседе Векшина с Пчховым в концовке главы сказано, что «всего этого разговора, в отчаянии придуманного Фирсовым во оправдание своего героя, в действительности не было»? Да, можно и нужно. «Такого разговора в действительности не было, но он мог быть, — пишет В. Ковалев. — Эта встреча правдоподобна. В сочиненном Фирсовым эпизоде заключено больше правды, чем в эмпирическом факте». «Важность этого разговора, — отмечает К. Курова, — не снижается леоновским замечанием о том, что такового на самом деле не было, напротив, внимание на беседе Митьки с примусником концентрируется с удвоенной силой».
В первой редакции романа «Вор» «злоключения» Векшина в Москве завершались, словно бы итоговым спором, его последним разговором с Санькой Бабкиным, в ходе которого тот признался, что давно замыслил убить его, Митьку, да вот «промазал»: «Все ты у меня взял, хозяин душу вынул... и не ангел смертный, а вынул!.. ровно огурец вычистил, собою начинил, обокрал... ты истинный вор, хозяин!» Леонов отмечает, что ничего общего не оставалось у них впереди и что плохо будет обоим, если снова «сведет судьба».
Позже, во второй редакции романа, Леонид Леонов добавил еще новую встречу Векшина с Пчховым, выделив ее в отдельную главу именно ею предваряя исчезновение Векшина. Для Митьки разговор старым «примусником» начинается с того же, что прозвучало в обвинениях бывшего дружка. Пчхов говорит Дмитрию: «Все крадет Митя?» — «Нет, по большей части скитаюсь теперь». — «Себя бойся обокрасть, Митя, ибо это не карается. Больно соблазн-то легкий...»
В этом новом эпизоде второй редакции романа «сведены» воедино линии двух притч, которые — с разрывом в полгода — слышал когда-то Митька Векшин от старого Пчхова. И слова самого Пчхова здесь человечески завершают глубоко раскрытую в новом варианте романа мысль о том, что векшины обворовывают прежде всего себя.
Раньше Векшин довольно скептически относился к словам Пчхова о том, что человек должен прежде всего в себе самом вскрыть причины «душевной хворости» и найти силы для борьбы с таким недугом, проявляя при этом немалую настойчивость и веру. В заключительной главе нового варианта автор, раскрывая состояние Векшина, вновь отправившегося к Пчхову за «исцеляющей мудростью», сообщает: «Полностью подтверждалось теперь, что только в себе самом надлежит человеку искать лекарство от всякой душевной хворости».
Векшин первой редакции романа «твердил упорно», что «ему вперед и вверх надо, вперед и вверх». И слова эти, произносившиеся в связи с пчховской легендой-притчей о человеческом прогрессе, будто б и заключали в себе мысль о неодолимости стремлений человеческих. Однако прозвучали они тогда с оттенком индивидуалистического понимания сущности и цели этого пути: идти «напролом» и прежде всего «только для себя»!
В обновленной заключительной главе романа Векшин произносит будто бы те же слова, но придает им теперь иной смысловой оттенок: «Попробую вперед и вверх, Пчхов... лишь бы зубы от усилья не выкрошились!». Векшин говорит «попробую», и его слова о движении «вперед и вверх» даются здесь в таком смысловом контексте, когда самим Векшиным выделяется мысль о необходимости поисков истинного пути: «Плохо кораблю без парусов, Пчхов... и еще хуже, когда снизу пробоинка. Вот уж мне до дна ближе, чем до солнышка. Но, верь слову, еще вернусь к тебе однажды! — Он стал одеваться и дел это основательно, как при сборах в особо дальнюю дорогу...»
Среди множества легенд и притч видное место занимает притча о белом слоне в романе «Дорога на Океан». Куриловское повествован о белом слоне адресовано ребенку, маленькому Зямке, а потому и именуется в самом романе сказкой, но по всем видовым признакам это притча. И притча именно такого назначения и глубинного смысла, такого художественного своеобразия, какие приобрела она в литературе нынешнего века.
Белый слон Али с темным пятном во лбу был по-своему прекрасен, но избавить народ от нищеты, как утверждалось в выдуманной попами легенде, он, понятно, не мог. В угоду «красивой неправде» слона убили.
Притча о белом слоне — как один из итоговых моментов рома «Дорога на Океан» — венчает собою цепь сложных размышлений Курилова. Она должна рассматриваться прежде всего в плане раскрытия Леоновым в «Дороге на Океан» проблемы стихии и разума. Именно этой проблемой определены в произведении те основные вопросы, на скрещении которых в общей «мыслительной системе» романа и возникла куриловская притча. Такие вопросы, как интуиция и разум в процессе познания, как мысль о духовном обмане (о «красивой неправде», помогающей держать людей в невежестве и повиновении), как преодоление человеком трагической беспомощности перед стихийными силами природы и, наконец, мысль о том, чтобы человек смог «бога в себе увидеть» как истинный хозяин Земли — все это различные аспекты исследования проблемы стихии и разума, взятой в романе в ее глубинной сущности.
При решении вопроса о научно-техническом прогрессе Курилов, страстный его поборник и активный деятель, проявляет также и некоторое беспокойство (человек отдаляется от природы, загрязняется атмосфера, возникает угроза все более ужасных войн и т. д.). Куриловское беспокойство такого порядка налагает свой отпечаток на его сказку, определяя собою один из ее смысловых планов.
Эволюция образа прекрасного белого слона — это еще и эволюция мечты самого Курилова. При этом «ненаписанная» биография Курилова прослеживается не только в плане неосуществленных мечтаний героя о поездке в дальние земли или несостоявшегося личного счастья, но и в плане его раздумий о будущем, за которое он боролся и которого не увидит. В иероглифическом образе белого слона смыкаются и обобщенно сливаются в романе многие смысловые линии, в том числе — линии характера и всей судьбы Курилова.
Притчи, органично вписавшиеся в структуру романа «Русский лес», создавались Леоновым то на основе крестьянского сказа, то с учетом древнегреческой или русской народной мифологии, а то и на основе библейской легенды. Легенды-притчи есть почти в каждой главе «Русского леса», а в некоторых (особенно — в X, XII и XVII) и по две — по три. Автор романа нигде не стремится излагать содержание сказания или мифа: расчет на то, что читатель знает его или — при необходимости — постарается уточнить свое представление о нем.
Каждое подобное сказание, и прежде всего — образы, воссоздаваемые в них, справедливо воспринимаются Леонидом Леоновым как своеобразный эквивалент жизненных явлений, как концентрированное выражение народной мудрости, как веками складывавшийся опыт глубокого осмысления и образного воплощения явлений действительности.
Народные сказания, содержащие в себе вековую мудрость, способствуют выделению в романе «Русский лес» важных жизненных проблем. Так, «крестьянский сказ» о «русском лешем», который якобы «несет в лесу, комендантские обязанности», использует Иван Матвеич Вихров во вступительной лекции для будущих лесоустроителей (глава VII).
В разгар Великой Отечественной войны, по пути в родные места Иван Вихров слышит два народных предания, дополняющих друг друга словно бы две части одной народной легенды. Одно из этих преданий — о злодее, который в самую трудную годину варварски обирал народ. А когда отомстилось ему, искал он «замиренья с богом да народом», но «не приняла земля его покаянья». Второе же народное сказание о том, что у добрых людей, способных поделиться с другими последним куском, «как ни тратят они свое добро, а в мешках у них не убавляется». Иван Матвеич с волненьем и с благоговением вслушивался в слова этого «забытого русского сказанья, неизменно воскресающего в годы бедствий». Да и не только Вихров: каждый из слушавших высоко оценил эти сказанья «за крохотную долю заключенной там народной правды».
Любой мифологический образ помогает автору заострить на чем-то внимание, что-то выделить ярче, ощутимее. Если образ Афродиты Милосской важен в «Русском лесе» для выяснения вопроса о «всечеловеческой красоте», о роли искусства, об отношении к наследию прошлого (глава IX), то образ Персея, победившего «адское страшилище» — Горгону, используется для определения сущности советского человека в его борьбе с фашизмом. Этот миф о подвиге Персея приводит Иван Матвеич Вихров в первом своем разговоре с дочерью перед самым ее уходом на фронт именно потому, что ему необходимо было выяснить, что же имеется у нее самой, на вооружении ее души «против зла с тысячелетним возрастом» (глава XI).
Людям двадцатого века, которые мужественно вступили в схватку с коричневой «чумой», приходилось нередко совершать подвиги потруднее, чем героям древних легенд или библейских мифов. В этом отношении интересна параллель между подвигами юной разведчицы Кати из «Русского леса» и воспетой в легендах Юдифи. Читателю становится ясно, что Юдифи, сумевшей пробраться во вражеский лагерь, убить командующего армией захватчиков Олоферна и тем самым спасти родной город, было трудно, но неизмеримо легче, чем действовать среди врагов юной подпольщице (глава XIV).
В романе «Русский лес» Леонид Леонов обращается к древнегреческому мифу о Прометее, причем использует его в самых различных ассоциациях. Коллизия этого мифа соотнесена с историей взаимоотношений двух центральных персонажей «Русского леса» с целью глубокого нравственно-психологического исследования истоков и причин их давней распри, как и сущности самих характеров в отдельности. В свое время жандармский подполковник Чандвецкий внушительно говорил студенту Александру Грацианскому: «Наверно, не сумев выбиться в Прометеи, вы приспособитесь на роль коршуна к одному из них... и вам понравится с годами это жгучее, близкое к творчеству, наслажденье терзать ему печень, глушить его голос, чернить его ежеминутно, чтобы хоть цветом лица своего с ним сравняться».
Через много лет, беседуя с историком Морщихиным и опасливо носясь на своего непрошенного гостя, занимавшегося изучением ряда сложных проблем политической борьбы предоктябрьской поры, Грацианский, смертельно боявшийся того, что некоторые, мягко говоря, неприглядные факты его биографии получат огласку, старательно «плел вокруг гостя свою паутину», напряженно обдумывая «варианты контратаки». Вот тут-то Александр Яковлевич, непонятно для гостя, но вкладывая в это вполне определенный смысл, заговорил о том, что «подвиг Прометея прямо пропорционален размеру его коршуна...». Спустя тридцать лет после того, как Чандвецкий предрек ему роль коршуна при истинно великом творце, Грацианский пытается по-своему истолковать соотношение образов-понятий в сюжете знаменитого древнего мифа.
Ту же легенду о Прометее использует и «один из вертодоксов» Грацианского, вездесущий Чик, для подтверждения собственного измышления о будто бы ошибочном отношении Вихрова к проблеме культуры. А сам Вихров вспоминает этот миф в разговоре с Чередиловым, и это помогает ему оттенить мысль о том, что в людях типа Чередилова, себялюбца и карьериста, ничего не может быть от тех, кто совершает подвиги во имя человечества. И наконец, в характеристике самого Вихрова автором выделяется мысль о «прометействе». «Прометейство», «прометеев огонь» — как жар человеческой души, как большая одаренность и сила духа, как одержимость и неустанное стремление к достижению высокой цели в своей деятельности.
Одна из непреложных истин для Леонида Леонова состоит в том, что литература всегда должна стремиться к высшей емкости образа. Емкое познание жизни идет в точных науках через математические и другие уравнения.
Л-ра: Русская литература. – 1981. – № 2. – С. 45-57.
Произведения
Критика