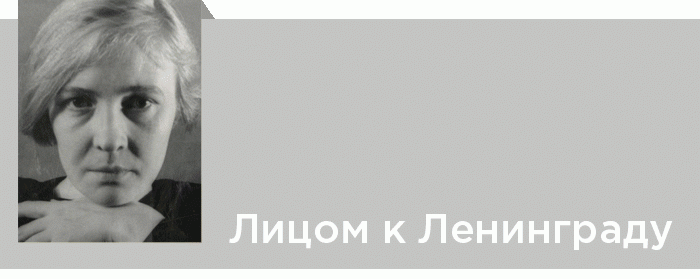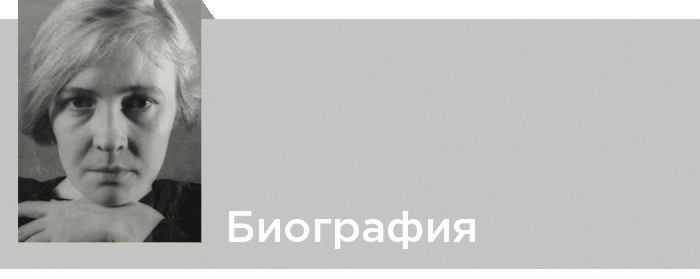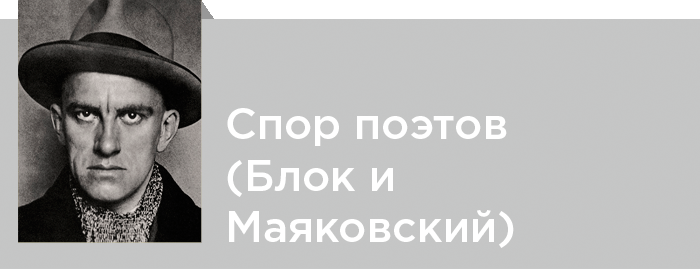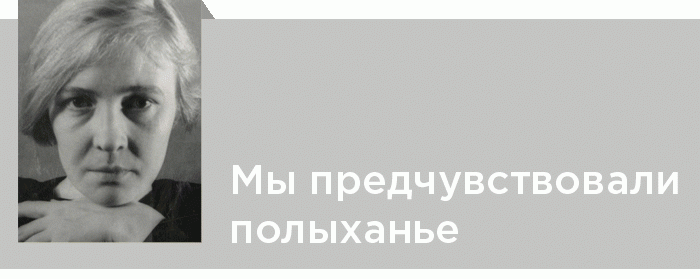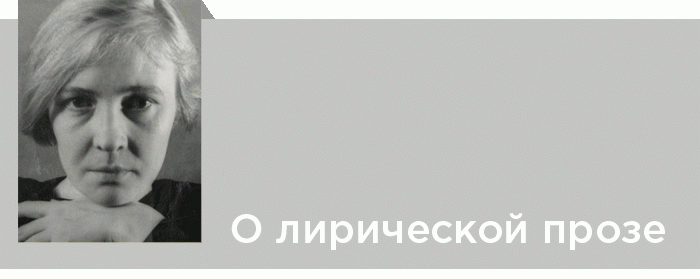Память сердца (Стихи и проза Ольги Берггольц)
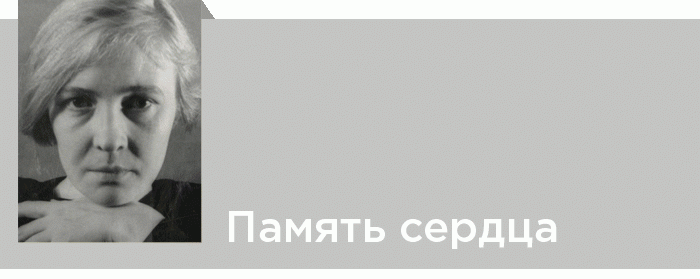
Е. Пронина
Несколько месяцев назад на прилавках книжных магазинов появилась небольшая красная книжечка со строгим силуэтом Петропавловской крепости, как бы перечеркнутым противотанковым «ежом». Ольга Берггольц. Говорит Ленинград... — написано на обложке. Книга эта необычна. Первоначально она писалась для радио, «на эфир» и вовсе не предназначалась для печати. Это — доверительный разговор ленинградки одновременно с тысячами ленинградцев и в то же время разговор один на один с каждым, голодным, замерзающим, лежащим под ворохом одеял и одежды в квартире, где зачастую почти все уже умерли и шнур радиопроводки — единственная нить, связывающая человека с жизнью. Из черного круга на стене текли слова:
О ночное воющее небо; дрожь земли, обвал невдалеке, бедный ленинградский ломтик хлеба — он почти не весит на руке...
Для того, чтоб жить в кольце блокады, ежедневно смертный слышать свист, — сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви...
К таким стихам нельзя подходить с обычной меркой. Впервые произнесенные в студеном декабре 1941 года, они и сейчас еще хранят самое дыхание того трудного и высокого времени. «Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы», — писала впоследствии Ольга Берггольц.
«Не надо пытаться перекричать войну.
Чтобы живой человеческий голос не потерялся в хаосе звуков войны, надо разговаривать с воюющими людьми нормальным человеческим голосом. Но голос этот будет услышан, если говорящий и пишущий стоит близко, у сердца воюющего человека. Достаточно даже беглого знакомства с тем лучшим, что создано советскими поэтами во время войны, чтобы заметить упорное стремление их к максимальной искренности и правдивости поэтического образа, а в стиле и тональности стиха — стремление к выходу от громогласной выспренности тона к уравновешенной классической простоте и ясности поэтической строки. Именно этим своим качеством обязана советская поэзия в дни Великой Отечественной войны своей невиданней популярностью у читателя».
Так характеризовал поэзию военных лет А. Сурков. И рядом с именами поэтов старшего поколения Н. Тихонова, М. Светлова, поэтов, чье творчество особенно громко зазвучало в дни войны — К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова — мы по праву назовем еще одно имя поэта, открытого читателем в эти годы — Ольги Берггольц. В блокадную пору как-то даже неожиданно громко на всю страну зазвучал ее голос.
Блокадные стихи О. Берггольц просты и суровы. В тех нечеловеческих условиях можно было говорить лишь о самом главном. Характер открытого прямого разговора определяет и композицию, и интонацию ее стихов. О. Берггольц, как правило, начинает с единичного и очень личного факта, она словно бы погружена в то оцепенение, которое так знакомо всем, пережившим блокаду, она прислушивается к ходу собственных мыслей — и вот эти мысли уже выплескиваются наружу, неизбежно, неотвратимо, она не может, она должна поделиться ими!
Был день как день.
Ко мне пришла подруга, не плача, рассказала, что вчера единственного схоронила друга, и мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова —
Я тоже — ленинградская вдова.
Известно, что в стихе интонация как выразительное средство играет особую роль и представляет собой один из основных признаков стихотворной речи. И вот, когда вслушиваешься в ровное, внешне даже спокойное повествование первых строк «Февральского дневника» с его мерным, утверждающим ритмом (ямб — без пропуска ударений), который звучит как бы в такт ударам метронома ленинградского радио
Был дёнь как дёнь.
Ко мне пришла подруга... —
начинаешь не просто понимать, сердцем чувствовать трагическую обыденность происходящего. Да именно таким был в Ленинграде каждый день, и каждый ленинградец терял близких. Полная, абсолютная слитность автора, героя и слушателя-читателя, к которому обращается поэт, придает особую силу блокадным стихам О. Берггольц. Все, о чем она говорит, даже самое сокровенное, личное в той или иной мере переживается всеми окружающими. Поэтому так естествен переход от единичного факта к широкой картине жизни осажденного города, к прямому разговору об историческом смысле происходящего, о величии Подвига Ленинграда.
Как мы в ту ночь молчали, как молчали...
Но я должна, мне надо говорить с тобой, сестра по гневу и печали: прозрачны мысли, и душа горит...
Спокойную, внешне бесстрастную повествовательную интонацию первых строк сменяет взволнованный, прерывистый ритм рассказа-исповеди, когда душа как в озарении, вся открывается собеседнику.
О. Берггольц и в этой страстной исповеди очень сдержана в раскрытии своих чувств. Прямое обращение к читателю, который — она знает! — переживает то же самое, позволяет ей лишь назвать свое состояние.
Как мы в ту ночь молчали, как молчали…
Настойчивые словесные и синтаксические повторы не только организуют ритм и интонацию стиха, они наполняют его, при внешней сдержанности, даже скупости, необычайно сильным, захватывающим нас зарядом чувств. И рядом и вместе с исповедью, неотделимо от нее, звучит и проповедь:
Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало, Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала: объединяет, греет и ведет.
О том, чтоб не прощала, не щадила, чтоб мстила, мстила, мстила как могу, ко мне взывает братская могила на Охтенском, на правом берегу.
Мы уже говорили, что подавляющее большинство стихов военного времени О. Берггольц писала для радио. В этих радиопередачах рождался особый жанр, который условно можно назвать лирической беседой, где проза легко и непосредственно переходит в стихи, повествование — в поток лирических раздумий. И то, что при чтении (особенно сейчас, спустя почти четверть века) воспринимается как растянутость, неэкономность в поэтических средствах, определялось тогда самой формой доверительной беседы. Авторской мысли как бы тесны рамки стихотворения. Отступая от избранной темы и вновь возвращаясь к ней, резко переходят от единичного факта к патетическим обобщениям и вновь возвращаясь к единичному факту, О. Берггольц часто строит свой разговор как цепь эпизодов, внешне вроде бы и не связанных между собой, а на самом деле внутренне спаянных единой идеей и единым чувством.
«Вся моя лирика ... — в особенности ленинградская, блокадная лирика, — говорила впоследствии О. Берггольц, — держится на принципе предельного самораскрытия и самовыражения столько же, сколько на верности фактам блокадного бытия».
Критики неоднократно писали о сдержанности, даже скупости поэтессы в описаниях, скудности бытовых деталей в ее военной лирике. На то были особые причины.
«Дорогие товарищи! Послезавтра мы будем встречать Новый год. Год тысяча девятьсот сорок второй. Еще никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, какая она. Каждый ленинградец знает об этом сам, каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, ее небывалое дыхание...» — так начала О. Берггольц свое выступление по радио 29 декабря 1941 года.
И кроме того…
«Однажды передача в эфир, — вспоминает О. Берггольц, — открылась стихами:
Мы говорим из Ленинграда: здесь утро, солнце и Нева.
Полна осеннею прохладой в садах колышется листва.
Но, кроме листвы, утра и солнца, в эти самые минуты в Ленинграде был жестокий обстрел, и во многих местах города еще дымились пожары, возникшие ночью во время бомбежки ...»
Приведя очень сочувственно это высказывание писательницы, критик А. Павловский в книге «Стих и сердце» пишет: «Чувство человеческого достоинства и гордости не позволяло поэту громко рассказывать о ранах и страданиях своих мужественных сограждан».
Думается, однако, что дело здесь не только (а может быть, и не столько) в чувстве человеческого достоинства и гордости. Чем труднее, суровее становилось в городе, тем откровеннее, прямее говорило Ленинградское радио с горожанами. И в декабрьских 1941 года выступлениях О. Берггольц уже звучит скрытая полемика со стихами сентябрьских радиопередач. На смену спокойно-торжественным ямбам с плавным правильным чередованием мужских и женских рифм приходит прерывистый, как перехваченное дыхание, дольник с энергичными мужскими окончаниями, весь прошитый жесткой аллитерацией звука «р»:
Ленинград в сентябре. Ленинград в сентябре...
Златосумрачный, царственный листопад, скрежет первых бомбежек, рыданье сирен, темно-ржавые контуры баррикад.
В стихах О. Берггольц не так уж много деталей, примет военного быта. Но ее поэтическое видение необычайно обострено. Она, говоря языком кинематографистов, как бы укрупняет план, максимально приближая к читателю одну деталь, но эта вроде бы частная деталь вызывает у читателя цепь ассоциаций, приобретает обобщенный, а подчас и символический характер:
«Наши стены шепчут, бормочут, кричат: да прямо на стенах пишется то, что должны знать граждане, в чем нужно их предупредить, чему нужно научить...
Одна кирпичная стена на Международном огромными буквам кричит почти гекзаметром:
«Не оставляйте детей возле горящих коптилок!»
Сколько бедствий сразу встает за этими строчками, начертанными прямо на стенах огромного, цивилизованного, прекрасного современного города.
А частные объявления на деревянных укрытиях?
Довольно долго на щите, закрывающем витрину одного когда-то богатого магазина на площади Льва Толстого, висело такое объявление:
«Всем гражданам! Отвожу ихних покойников на саночках до кладбища и другие бытовые перевозки...»
«За ненадобностью продается легкий гроб...»
Целая драматическая необычная повесть кроется за этим бытовым объявлением».
Приведенный отрывок из радиопередачи «Ленинград — фронт» характерен для всего блокадного творчества О. Берггольц. Ей не надо было описывать приметы ленинградского быта, они слишком резки, кричащи, даже если они и примелькались — к ним все равно не привыкнешь. И именно поэтому детали блокадного быта приобретают в ее стихах приметы бытия. Зола из печек-времянок не просто зола, это «след Великого Огня, которым согревались ленинградцы».
В осадных, черных, медленных ночах, под плач сирен и орудийный грохот в их самодельных временных печах дотла сгорела целая эпоха.
Патетичность этих строк, обобщенность, даже символичность образов отнюдь не отвлеченны. Эпическое осмысление как бы прорастает сквозь лирический поток, вызванный очень частной и такой характерной для блокадного быта сценой (ленинградка, несущая домой доску от разбитого здания). Поэтесса смогла взглянуть на события сегодняшнего дня как бы из будущего, оценить их значение для грядущей победы.
О грядущей победе, о торжестве над фашистами писали в годы войны все поэты. Армия, народ твердо верили, знали, что, несмотря на все невзгоды, победа придет, поражение фашизма неотвратимо.
Это не просто вера — знание — помогло пережить самые тяжкие испытания военных лет. Торжествующие, победные строфы, которыми заканчиваются поэмы «Двадцать восемь» М. Светлова и «Зоя» М. Алигер, органичны для этих произведений, они воспринимаются как естественное разрешение трагедии. О. Берггольц идет по другому пути. Она не просто завершает разговор о настоящем размышлениями о грядущем — будущее входит в самую ткань повествования, становится его лейтмотивом.
Двойною жизнью мы сейчас живем: в кольце и стуже, в голоде, в печали, мы дышим завтрашним, счастливым щедрым днем — мы сами этот день завоевали.
Взгляд на настоящее сквозь призму будущего закономерно влечет за собой обращение к прошлому, к истокам народного подвига. В стихах О. Берггольц возникают широкие исторические ассоциации, она вспоминает о седой старине, о Ярославне и Игоревом походе. В русском характере видит она сплав «мужицкого терпенья Аввакума и царственной неистовости Петра». Обо всем этом она говорит горячо, страстно, но все же... подобные строки звучат как несколько нарочитая декларация. Лирик «по самой строчечной сути» О. Берггольц и в истории прежде всего обращается к личному, пережитому. «Истоки жизни», а следовательно, и истоки ее, рядовой ленинградки, подвига — это родная рабочая Невская застава, помнящая Обуховскую оборону и девятое января 1905 года, посылавшая своих сыновей на штурм Зимнего и фронты гражданской войны. И как бы сквозь лед и огонь блокадной зимы проступает в стихах О. Берггольц Петроград 1917 года, штурмовые ночи первых пятилеток, и ее комсомольская юность, и первая влюбленность, и семья.
Слияние, говоря словами А.М. Горького, трех действительностей — прошлого, настоящего и будущего — определяет важнейшую тему стихов поэтессы — тему памяти.
И даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной, робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на жёлтый снег пустынных площадей — скажет поэтесса в первые дни мира, в 1945 году.
Трагедия Ленинграда и ленинградцев! О. Берггольц не раз упрекали в поэтизации мук и страданий, в особой «жертвенности», которой якобы пронизана ее блокадная лирика. Нет ничего печальнее этого недоразумения. Да, в стихах О. Берггольц иного скорби и много смертей — ведь тысячи ленинградцев погибли за 900 дней блокады. Но это не жертвы, где бы, при каких обстоятельствах, ни погиб ленинградец, он — боец, не оставивший свой пост до конца.
Ценою трудных, порой тяжких испытаний, ценою жизни покупается победа — таков смысл, пафос «Ленинградской поэмы», реквиема «Памяти защитников», многих блокадных, стихов О. Берггольц. Рассказывая о гибели «безусого гвардейца» Владимира Нонина,: давшего при взятии Вороней горки, места, откуда фашисты корректировали артиллерийский огонь по Ленинграду, поэтесса не только оплакивает героя, но прежде всего говорит о величии его подвига:
Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся.
Он звал и храпел и карабкался в гору,
он первым взлетел на нее, обернулся и ахнул,
увидев открывшийся город!
И, может быть, самый счастливый на свете,
всей жизнью в тот миг торжествуя победу, —
он смерти мгновенной своей не заметил,
ни страха, ни боли ее не изведав…
Он падал лицом к Ленинграду, он падал,
а город стремительно мчался навстречу...
...Впервые за долгие годы снаряды
на улицы к нам не ложились в тот вечер.
Однако значительно чаще О. Берггольц пишет о другом — о незаметном величии будничной борьбы, о победе жизни над смертью в невидимом бою. Эта победу также часто покупается ценою гибели, но все равно отказ от медленного умирания, стремление сопротивляться до конца, бороться, действовать, жить в самых немыслимых условиях наперекор всему, — это уже победа.
Поистине трагичен рассказ о ленинградце, что в студеном декабре, ожесточась, пошел наперерез ледяному потоку,
он сбит волной,
свалился на ходу, и вмерз в поток,
и так лежать остался
здесь,
на Литейном,
видный всем, —
во льду.
Трагичен и рассказ о женщине, которая, как одержимая, молит о куске хлеба не для себя — на гробик дочке.
И я сказала: не отдам
И бедный ломоть крепче сжала.
И сил хватило — привести
ее к себе, шепнув угрюмо:
— На, съешь кусочек, съешь... прости:
Мне для живых не жаль, не думай.
Так мотив страдания, мотив смерти обязательно перекрывается в стихах О. Берггольц мотивом преодоления страдания, победы жизни над смертью.
Уходит в прошлое страшная зима 1941—1942 годов, и тот же мотив смерти и похорон приобретает, казалось бы, совершенно необычное звучание:
...Возили реже мертвых. Но гробы не появлялись: сил недоставало на этот древний горестный обряд.
О нем забыл блокадный Ленинград.
И первый гроб, обитый кумачом, проехавший на катафалке красной, обрадовал людей: нам стало ясно, что к жизни возвращаемся и мы из недр нечеловеческой зимы.
Гроб как символ возрождающейся жизни! Ленинградец в «прозрачной ледяной могиле» как символ непокорности блокадным бедствиям! Надо обладать большим поэтическим мужеством, чтобы создать такие образы. И не только мужеством. Они создавались, по свидетельству самой поэтессы, в период высокого поэтического озарения, сопутствовавшего ей во всех тяжких испытаниях военной поры.
«Жизнь моя, — говорила она, — была предельно целеустремленна и всеми нитями своими, вплоть до тончайших и интимнейших, неразрывно соединена с жизнью народа, — его борьбой, победоносной трагедией осажденного Ленинграда». Одной из самых вдохновенных и счастливых ночей в своей жизни назовет она ночь на 10 января 1942 года, когда «радио перестало работать почти во всех районах и тяжелое, полное безмолвие воцарилось в Ленинграде», а в радиокомитете, наперекор всему, составлялся план будущей книги «Говорит Ленинград» и туда был включен пункт — «Передача о прорыве блокады».
О да, мы счастье страшное открыли достойно не воспетое пока, — когда последней коркою делились, последнею щепоткой табака; когда вели полночные беседы у бедного и дымного огня, как будем жить,
когда придет победа, всю нашу жизнь по-новому ценя.
Мысль о вдохновении и счастье возникает в самых трудных и жестких ее стихах — о ночи в бомбоубежище, где горят «нагие лампочки» и все дрожит от близких взрывов, о дачном полустанке, где «шумел когда-то детский лагерь», а теперь — фронт. Но с особой силой эта мысль звучит в лучшем, пожалуй, произведении О. Берггольц военных лет — поэме «Твой путь».
«Твой путь» — очень напряженная и очень личная, интимная поэтическая исповедь, где малейшая неточность обернулась бы нетерпимой фальшью. Здесь нет и быть не может ни недомолвок, ни полутонов. Противоборство жизни и смерти сурово и беспощадно. И хотя героиня поэмы не видит врага в лицо, не сражается на поле боя, конфликт от этого не становится менее напряженным и драматичным. Приходится бороться за самые простые, обыденные человеческие желания, ибо исполнение любого из них может обернуться полным упадком сил и — смертью.
Так вот что значит — смерть: не сметь желать самой, совсем не сметь.
И в этой страшной борьбе, на краю гибели в душе героини вспыхивает самое дерзкое желание — жажда жизни и любви. Нет, это не кощунство и не предательство по отношению к любимому, погибшему «январским ледовитым днем».
Что может враг? Разрушать и убить.
И только-то.
А я могу любить, а мне не счесть души моей богатства, а я затем хочу и буду жить.
Вспоминая о себе, молодой, безоблачной, что когда-то на Мамиссонском перевале представляла себе всю жизнь как сплошной праздник, поэтесса восклицает:
...О девочка с вершины Мамиссона, что знала ты о счастии?
Оно неласково, сурово и бессонно и с гибелью порой сопряжено.
Пред ним ничто — веселье.
Радость — прах.
Пред ним бессилен враг,
и тлен,
и страх,
оно несет на крыльях лебединых к таким неугасающим вершинам, к столь одиноким, нежным и нагим, что боги позавидовали б им.
К «неугасающим вершинам», откуда так ясно видно все прошлое и открываются беспредельные дали будущего, О. Берггольц еще не раз вернется в своем творчестве. Разговор о вершинах станет главным в ее главной книге — «Дневных звездах». Но хотя сама поэтесса назовет свое блокадное творчество наиболее настойчивыми подступами к главной книге, первая часть «Дневных звезд» отделена от войны рубежом в пятнадцать лет.
Когда-то, еще в далеком детстве, О. Берггольц услышала о дневных звездах, которые отражаются в воде глубоких-глубоких колодцев. Тщетно заглядывала девочка в старый замшелый сруб — тогда она дневных звезд так и не увидела. И вот пришла пора творческой зрелости и поэт обращается к своим читателям:
«Я раскрыла перед вами душу со всем ее сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути, — значит вы увидели дневные звезды, значит они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и непрестанно...»
Есть глубокий смысл в том, что книга О. Берггольц создавалась в конце 50-х годов. Она — знамение и следствие важных процессов, происходящих в современной советской литературе. Не случайно, говоря о «Дневных звездах», критики неизменно называют появившиеся одновременно с ней «Каплю росы» В. Солоухина, «За далью — даль» Твардовского, «Середину века» В. Луговского, «Признание в любви» М. Луконина, «Поэму о море» А. Довженко. А рядом, как отражение того же процесса, мы можем назвать широкий поток мемуаров и биографических романов и прежде всего — «Повесть о жизни» К. Паустовского. Эти произведения родственны не только по жанровым (лирико-эпическим) признакам. Для них характерно тяготение к философскому осмыслению действительности, стремление создать, говоря словами Луговского, «автобиографию века», которая была пережита в душе рядового участника великих событий столетия».
И хотя в названных произведениях речь идет главным образом о прошлом (пусть об очень недавнем, но все же прошлом), они открыто, даже полемично современны. Их пафос определен напряженным интересом к моральным проблемам, желанием без упрощений, возможно конкретнее передать в искусстве мироощущение сегодняшнего человека. И именно современное сегодняшнее видение помогает писателям осмыслить и организовать описываемое. Лирический герой в этих книгах постоянно ощущает свою кровную связь с родиной, с историей. «Память сердца» автора сохраняет не случайные, частные подробности, а то главное, что определяет в конце концов самый ход времени.
Вспомним внутреннюю полемику с Уэллсом, возникающую на первых страницах «Дневных звезд». О знаменитом фантасте, смотревшем на забитые голодающими станции, как на сцену из непонятной ему трагедии, О. Берггольц, конечно же, узнала значительно позже, но полемика с ним не могла быть такой бескомпромиссной, если бы она не основывалась на резких и ясных детских впечатлениях. «Память сердца» и определяет (несмотря на внешнюю хаотичность повествования) внутреннее единство произведения, делает в сущности очень короткую книгу необычайно емкой по содержанию. Всего лишь о нескольких днях своей жизни рассказывает О. Берггольц. Но в эти несколько дней пережито, а главное прочувствовано и осмыслено столько, что перед нами предстает как бы высветленная «памятью сердца» вся ее жизнь.
Трудно, да и вряд ли необходимо определять жанр «Дневных звезд». Это, как пишет сам автор, — «открытая книга», свободное раздумье поэта «о времени и о себе». Именно поэта, хотя «Дневные звезды» написаны прозой и лишь изредка в повествование включаются стихи «из тех, что пишутся на полях Главной книги». А впрочем, на полях ли? Уже в военных радиопередачах О. Берггольц отчетливо проявляется тенденция слить воедино прозу и стихи. Послушаем ее рассказ о вручении гвардейского знамени полку, держащему оборону на окраине Ленинграда:
«Полк принимал знамя в бою.
Гвардейцы стояли на маленькой полянке среди бедных, еще почти не одетых травою бугров, под холодным северным ветром, а за ними, в синеватой дымке виднелись нежные контуры Ленинграда.
Каким отсюда тихим и спокойным казался он! Покой и тишина.
Что в городе? — спросил меня полковник.
И я ему ответила:
Война!»
Свободный переход от прозы к стихам и от стихов к прозе, а еще чаще — такая организация прозы, и внутренняя (насыщенность лиризмом), и внешняя (ритмическая), что проза уже воспринимается как стихи — основной принцип повествования в «Дневных звездах». О. Берггольц пишет о поездке в «город детства», маленький теплоходик выходит на просторы Большой Волги — «несказанный покой царил вокруг, и милая, добрая, не давящая, не поражающая дикой красотой, а ласкающая своим простором русская природа взахлеб, настежь, щедро раскрывалась перед глазами и сердцем... «Приюти ты в далях необъятных! Как и жить и плакать без тебя?» Я твердила эти строки Блока как собственную молитву. О, правда, правда, даже плакать без тебя нельзя, даже горевать. Ничего нельзя. А если ты есть, то все будет, все вернется, даже то, что кажется сейчас невозвратимым. И даже любовь вернется... Строки стихов — чужих и своих — вскипали и уходили, и они были о разном, о многом...»
Короткие, но плавные периоды, ритмические и словесные повторы как тихий мерный прибой все набегающие и набегающие мысли, пока они не заполнят тебя всего целиком. Так же рассказывает — нет не рассказывает, размышляет О. Берггольц о колокольне в Калязине, вставшей из воды как чудесное видение невидимого града Китежа, корноухом опальном колоколе, глашатае народного гнева и народного горя, валдайской дуге из угличского музея.
Обращение к далекому, казалось бы, безвозвратно ушедшему прошлому, стремление услышать отзвук его в своем сегодняшнем состоянии — характерная черта всего творчества О. Берггольц. С особой силой проявилась она в «Дневных звездах», которые все сотканы из «сплава времени».
Прошлое — детство и автора и страны совмещаются с настоящим и будущим. И образы десятилетней девочки в Угличе в голодном 1920 году, четырнадцатилетней — в Петрограде, в день смерти В. И. Ленина, ликующе счастливой женщины в «день вершин» в сентябре 1941 года, оцепеневшей е страшном горе четыре месяца спустя и, наконец, со спокойной зрелой мудростью возвращающейся «к истокам», в город детства, в переломном для страны 1953 году — эти образы тоже совмещаются, как бы проецируются на экране памяти.
Мы уже говорили о мотиве «вершин», с которых видно и прошлое и будущее, впервые появившемся еще в блокадных стихах. Можно сказать, что все три отрывка, составляющие первую книгу «Дневных звезд» — это повествование о вершинах.
Один из главных, ведущих мотивов книги О. Берггольц — мотив противоборства света и мрака. Погруженные во мрак сидят прижавшиеся друг к другу в бывшей монастырской келье две девочки, где-то рядом угрожающе ревут церковные колокола, а в окне льется снежный, лунный, грустный свет глубокой зимы. Девочкам вспоминается большая светлая керосиновая лампа, висевшая там, в несбыточно мирном и сытом времени в далеком Петрограде...
А весной по дороге в Петроград в душном переполненном вагоне, освещенном чуть пробивающимся сквозь густой утренний туман горячим весенним солнцем, люди говорят о Волховстрое, об электрическом свете, который непременно — и очень скоро — зальет всю Россию. И вот уже маленькая электрическая лампочка в шестнадцать свечек горит под потолком петроградского дома, и светит она все же ярче керосиновой. А затем — резкий скачок во времени — и мы слушаем рассказ «рыцаря света» Г.М. Кржижановского.
Ощущение всей жизни сразу, плотности времени, которое как-то вдруг концентрируется, сжимается в один лучевой пучок, и человек живет сразу прошлым, настоящим и будущим, определяет композицию «Дневных звезд». Три центра, три «узла» первой книги, о которых шла речь выше, не просто сжимают, организуют время вокруг какого-то центрального события каждого из отрывков, они в свою очередь теснейшим образом связаны между собой, спаялись в одно органическое целое. Тема ожидания счастья как предчувствия очень значительной, полной жизни, возникающая в первом — назовем его условно — «куске» повествования («Сон»), органически развивается в рассказе о поездке в город детства. Отсюда перебрасывается живой мостик к другому счастливому сну детства — о грибной поляне. И опять в конце второго «узла» книги, уже в новом качестве рядом с мотивом возвращения героини к людям, к жизни возникает мотив предчувствия самого большого счастья. Новелла «Та самая полянка» не только возвращает нас к «памяти сердца». В ней раскрывается лишь пунктиром намеченный в первом «узле» образ отца — старого русского доктора, образ, который рядом с образом лирического героя-рассказчика станет центральным в третьем «узле» книги — рассказе о двух походах за Невскую заставу. И в этом третьем «узле» тема предчувствия полноты жизни, проходящая через всю первую часть «Дневных звезд», получает разрешение и завершение.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была...
утверждает поэтесса в одном из стихотворений сентября 1941 года. «Так шла я из-за Невской заставы в начале октября сорок первого года безмерно бесстрашная и радостная, опьяненная сознанием своего бессмертия, всего, что меня окружает и окружало раньше, и даже того, что было еще до моей памяти» — перекликается она с военным стихотворением в «Дневных звездах». Но и это состояние, как выяснилось в дальнейшем, тоже лишь подступ — правда, самый важный — к главной вершине, кульминации первой книги «Дневных звезд».
Кульминация эта возвращает нас к начальным страницам книги и к истокам жизни автора, она и связана с той детской игрой «Чур, это мое!», которая и затем, и в юности, и в зрелом возрасте так много будет значить в самоопределении поэта: ведь из детской наивной игры родилось и развилось «нечто большее — почти грозное, открытое; чувство своей живой сопричастности, кровной жизненной связи со всем, что меня окружает...»
Л-ра: Литература в школе. – 1966. – № 3. – С. 10-21.
Произведения
Критика