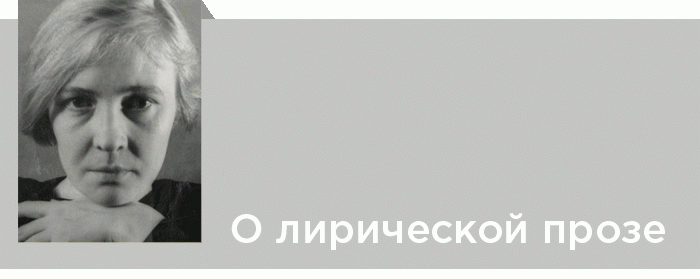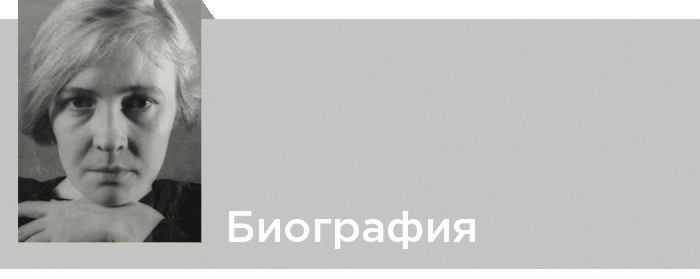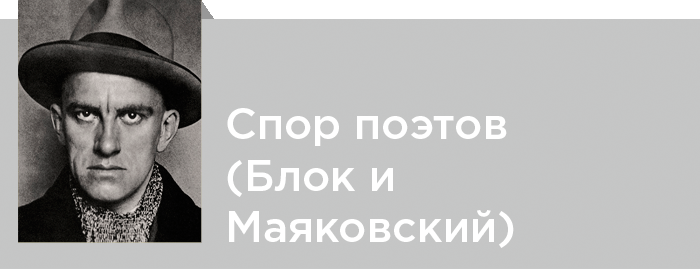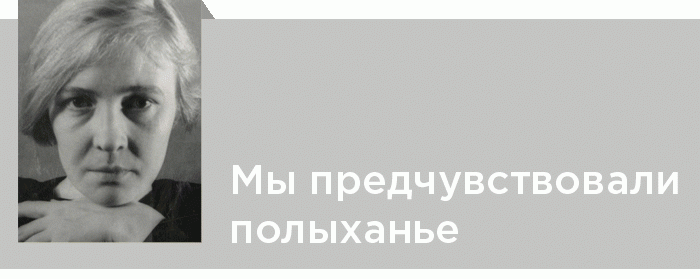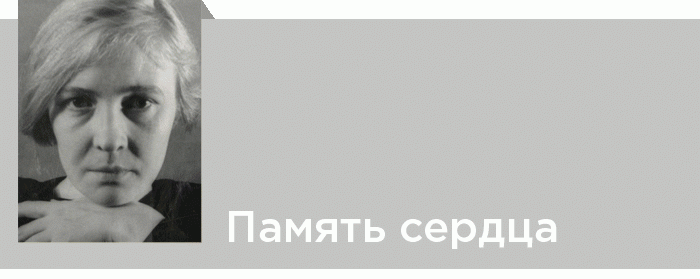Лицом к Ленинграду (К 75-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц)
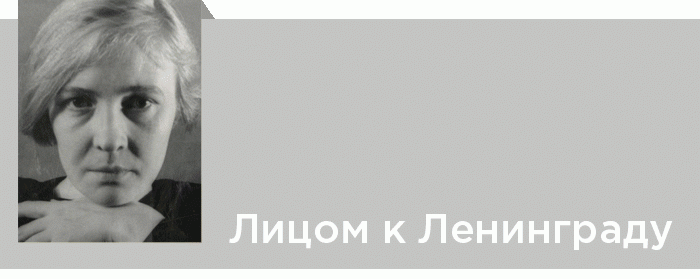
А. Арьев
Сейчас уже не бывает такой поэтической славы, какая была у Ольги Берггольц. Популярность бывает и большая. Но слава — нет.
С осени 1941 года и до конца войны раздавался голос Берггольц из Ленинграда — на всю страну, опровергая веками освященную мудрость: когда гремит оружие, музы безмолвствуют.
Дело было не только в том, что Берггольц постоянно читала свои стихи по радио из осажденного города. Читали их и другие лучшие наши поэты. И их голоса, тоже превозмогая гул орудий, вселяли мужество и надежду в сердца людей. Русской поэтической традиции, начиная с Державина и Жуковского, с его «Певца во стане русских воинов», свойственно в грозные дни преодолевать всяческие эстетические, «сепаратные» барьеры и границы. В годы Великой Отечественной войны они, можно сказать, были сметены.
И все-таки слава Берггольц была особой, высшей. В самый трагический момент блокады — зимой 1941 — 1942 года — в ее поэзии прозвучало и зазвенело окончательное душевное преодоление смерти правдой жизни:
Двойною жизнью мы сейчас живем: в кольце, во мраке, в голоде, в печали мы дышим завтрашним, свободным, щедрым днем, мы этот день уже завоевали.
Берггольц нашла прямой лирический путь «от сердца к сердцу» во время, когда многие сердца переставали биться. Она создала обратную, оживляющую и сердце поэта, и сердце читателя связь, потому что испила чашу страдания со всеми и до дна. Никто из живых не мог бы сказать в те дни, когда Берггольц создавала приведенные строки «Февральского дневника», что ее доля меньше или легче доли другого ленинградца. Не было человека, который не признал бы ее права говорить в ту страшную минуту о своем сокровенном опыте, через себя, через свои страдания изживать общую беду. Это право и эту правду лирического сердечного диалога с ленинградцами, и от их имени — со страной, Берггольц оценила в себе как пророческую:
Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь, и смерть, и лед, я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страданья...
Свидетели первой блокадной зимы рассказывают, что в той мертвой паузе февраля 1942 года, когда в городе не было ни воды, ни еды, ни света, когда перестали выходить газеты и уже несколько дней молчало радио, они услышали, как из репродуктора «сквозь шуршание и треск, собираясь с силами и вновь обессиливая, пробивался к людям чей-то слабый женский голос». Это был едва узнаваемый, но все же знакомый голос Берггольц, голос, произносивший стихи. Она читала их своему городу почти шепотом. Шепот этот услышала вся страна. Она уже знала этот голос, месяц назад, в канун нового, 1942 года читавший:
Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!
О, как ставенки стонут на темной заре,
как угрюмо твое ледяное жилье,
как врагами изранено тело твое...
Мама, Родина светлая, из-за кольца
Да, мы вновь не отводим от смерти лица,
принимаем голодный и медленный бой.
«Ежечасно гордимся тобой».
Как не понять, что письма, полученные Ольгой Берггольц после поэтических выступлений тех дней по ленинградскому радио, она воспринимала потом как высшую награду всей своей жизни.
«Поэзия в те дни в Ленинграде приняла на себя благородное бремя почти всего искусства, — писала Берггольц. — Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы».
Из многих стихов замечательных поэтов лирические строчки Берггольц, вбиравшие в себя все горе и все мужество ленинградцев, были самыми насущными, самыми согревающими души и сердца людей. Они удавались ей, потому что она верила в их необходимость, знала о ней. Через все ее творчество проходит образ поэзии, воспринятый от Лермонтова, как образ колокола, звучащего «на башне вечевой во дни торжеств и бед народных». В «Дневных звездах» образ этот материализуется, приобретает зримые очертания угличского колокола, отправленного в ссылку вместе с угличанами после смерти царевича Дмитрия, и колокольчиков валдайской дуги, звеневших некогда на русских просторах...
Эти колокольчики, эти колокола поэзии, ее музыка, способность ее воспринимать пробуждают в человеке человеческое, высвечивают в нем лучшие черты. «Бессмертным свидетельством величия духа ленинградцев, — говорит Берггольц, — останется эта деталь первой блокадной зимы — способность в таком кошмаре, среди таких физических и нравственных терзаний отзываться на поэзию, на искусство».
Основное свойство лирики Берггольц раскрывается в ее проповеднически-исповедальном характере. Подобный сплав очевидных крайностей, к тому же, как принято считать, антипоэтических, дается только большим художникам, крупным личностям. В этом отношении Берггольц прямо наследует Маяковскому, хотя как стихотворец она на него похожа очень мало.
Убеждение, что поэзия обозначает самые высшие человеческие ценности, что в ней запечатлены идеалы, к которым стремится весь народ, все человечество, в стихах Берггольц прорастает из интимного размышления, по своей форме похожего на дневниковую запись.
В лирический дневник Берггольц заносила только то, что ей диктовала совесть. Он начисто лишен тех «ничтожных откровенностей», о которых она однажды с презрением обмолвилась. Художник, полагала она, «...рассказывая о своем сердце, даже о тайных его движениях, обязательно расскажет о сердце народа».
Ольга Берггольц знала цену себе и своей поэзии. Можно сказать, что она высоко относилась к себе прежде всего потому, что высоко относилась к поэзии, к русской поэзии, о принадлежности к которой сказала со свойственной ей откровенностью: «Лермонтов бессмертен и вечен, и наша русская поэзия вечна и бессмертна. Но Лермонтов и вся наша поэзия — давно уже неотъемлемая часть моей души, всей меня, значит, и я... Мне страшно — от счастья — было додумать об этом!»
Характерно для Берггольц, что додумывала она уже не «об этом». Мысль ее в блокадные дни перерастала собственное «я». Берггольц ощущала, что через ее музу к бессмертию стремилось все близкое ее душе, все, что через нее проходило, — и люди, и город, и мальчишки на крыше, что «свистят и улюлюкают проносящимся „мессерам"...»
Как у Лермонтова звезда говорит с звездою, так у Берггольц сердце говорит с сердцем. Размышление наедине с собой оказывается у нее поэтическим размышлением для кого-то другого, близкого и далекого, знакомого и незнакомого, друга и единомышленника...
Подобно Ахматовой, которую Берггольц почитала больше всех современных ей поэтов, она верила в нетленную сохранность русской речи, в долговечность «царственного слова».
Вера Ольги Берггольц была обоснована убежденностью в могуществе поэзии, в ее силе, не имеющей, в отличие от иных созданий беспокойного человеческого разума, локальных границ.
«Среди множества ремесел и искусств, воздействующих на человеческую душу, — писала она, — нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. Она все может. Я утверждаю: она сильнее атомной бомбы — разрушающее и творящее слово, пропитанное кровью любящего сердца, светом ищущего духа, окрыленное великой нашей идеей. Нет подчинения более добровольного и более неодолимого, чем подчинение поэзии. Нет любви более вознаграждаемой, чем любовь к поэзии: любящий поэзию — дважды поэт. Нет доверия более простого и более обогащающего, чем доверие к поэзии».
Доверие, открытость Берггольц, ее, по выражению Павла Антокольского, «прямота, равная правоте», поставили и над ее поэзией, и над ее прозой знак взыскательной простоты.
Собственно говоря, в стихах Берггольц, так же, как и в ее очеркового характера повестях, уже с самого их начала не было заметно ни метафорической буйности изображения, ни утонченной недоговоренности, ни изысканных ассоциаций ходов. Путь, по которому шли многие крупные поэты XX века, и в том числе восхищавший ее Пастернак, путь от сложного к простому, для Берггольц актуальным не был. Она проста с первых вещей, потому что с самых ранних литературных шагов подчинила свое дарование идее долга, всегда более ясной и однозначной, чем безотчетные порывы самоценного юношеского воображения.
Однако принятая художником этическая доминанта может вести творчество не только к простоте, но и к элементарности, что в молодые годы у Берггольц замечалось. Простота в искусстве весома только тогда, когда насыщена жизненным опытом, пронизана высокой авторской духовностью. Все это не дается сразу, даже если на человека снисходит откровение, если он мгновенно прозревает новую жизнь, как это произошло с Берггольц в четырнадцатилетнем возрасте.
Добродетельная размеренность и основательность жизненного уклада для Ольги Берггольц всегда слишком отдавали «бытом», то есть — «прошлым». Это то, что должно было уйти навсегда. Пренебрежение «материальностью» жизни очень характерно для юного поколения материалистов, к которому принадлежала Берггольц. С обезоруживающим безразличием говорит один из героев ранней ее повести «Журналисты»: «Вот тут у меня в банках какая-то флора...» Речь идет о еде, когда ее не хватало повсюду...
В приведенной фразе выражено целое мировоззрение, согласное с авторским. Лев Левин вспоминает о жизни Берггольц в тридцатые годы: «Здесь накрывали стол газетами, пили чай из граненых стаканов, а сидели на старых венских стульях или табуретках. Причем все это делалось не от бедности, а... принципиально, пожалуй, даже демонстративно. Девочка в красной косынке была уже дважды матерью, но твердо решила на всю жизнь остаться комсомолкой из-за Невской заставы... Никаких признаков мещанского уюта! Никаких диванов, кресел, скатертей, обеденных и чайных сервизов!»
Трудно найти другого автора поколения Берггольц, причем автора генетически связанного со старой культурой, с интеллигенцией, который бы так прямо, так неукоснительно подчинил свое творчество идее будущего, идее долга перед ним. Хотя в этом отношении Берггольц, конечно, совсем не «первая ласточка». Ее родство с деятелями культуры старшего поколения, такими, как Маяковский или Лариса Рейснер, представляется очевидным.
Как точно заметил Д. Хренков, Берггольц мечтала стать «Ларисой Рейснер реконструктивного периода».
Сравнение это взято из самой Берггольц, из повести «Журналисты», написанной ею в двадцатидвухлетнем возрасте. Лариса Рейснер в этом произведении — идеал главного персонажа Тони Козловой, уехавшей из Ленинграда в казахские степи помогать в глуши строительству социализма. Несомненно, что в образе Тони проглядывают авторские черты. Даже в чисто биографическом плане судьба Берггольц совпадает с судьбой ее героини.
Берггольц с первых литературных шагов проповедовала мечту. Самой по себе жизни, реальности ей всегда было мало. Даже тогда, когда эта реальность оборачивалась к ней своими острыми углами, Берггольц не опускала голову, не завораживала себя темнотой. «Человек, словно созданный для трагедии, — написал о ней С. Наровчатов, — она обретала силы там, где другие их теряли».
Берггольц видела жизнь как бы погруженной в будущее, в сбывшуюся уже мечту. Это мироощущение давало силы воспринять личную жизненную драму как преходящую. На долю Берггольц выпало испытаний, которых с лихвой достало бы не на одну женскую судьбу. Она, как мало кто другой, имела право сказать о своем пути: «Тягчайшей зрелости дорога».
Величие и достоинство Берггольц, величие ее «жестокого расцвета», как сказала она сама, заключается в том, что она обретала уверенность и силу духа не в дни удач, не тогда, когда ей улыбалась судьба, но в дни бедствий. В начале войны и в дни блокады, когда общая народная трагедия явственно обозначилась как более значительная, более глубокая, чем любая собственная, личная, тогда-то Берггольц и нашла в себе неисчерпанные и неисчерпаемые силы, всю себя отдав делу победы. В 1943 году она писала из осажденного города: «Тема Ленинграда — это тема победы жизни, когда не было условий для нее...».
«Лучшие стихи Ольги Берггольц, — считал Наровчатов, — вызваны к жизни трагедией». В одном из значительнейших из них, созданном в первые дни войны, прямое благородство ее души запечатлелось с особенной ясностью и силой:
Мы предчувствовали полыханье этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала...
Предвосхищение истинной жизни, которым всегда дорожила в себе Берггольц, как правдой бытия, она сохранила до конца. Об этом говорят последние строчки наиболее зрелой и свободной из ее книг — книги «Дневные звезды»: «Я раскрыла перед вами душу, как створки сердца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути, — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно...»
Берггольц обладала каким-то навсегда молодым типом миропонимания, противоположным размеренному, философски умудренному мышлению. Постижение тайны мира меньше всего означало для нее открытия в нем уже бывшего, потенциально знакомого, существовавшего вечно. Ее бескомпромиссная память отвоевывает у прошлого то, что нужно сегодняшнему дню для его утверждения в будущем.
Эти качества ее души самой Берггольц были ведомы. Более того, в них таилось ее художественное и человеческое кредо: «Предвосхищение жизни, то есть способность жить тем, что только будет, что только может наступить, но уже жить этим, — какой щедрый и жестокий дар бытия!». Этим даром она обладала всецело, писала, что даже «сверх меры наделена способностью жить будущим».
При внутренней напряженной патетичности зрелое творчество Берггольц носит «эскизный», непреднамеренный и непрогнозируемый характер. Таким путем она обретала единственно для нее возможную, необходимую каждому писателю естественность дыхания.
Чтобы придать написанному реалистическую достоверность, Берггольц пришлось разрушить канонические границы литературных жанров. Точнее говоря, ей пришлось создать свой собственный жанр, единый и для стиха и для прозы.
В «эскизности» работы — секрет художественной манеры Берггольц. Она сама нащупывала это определение, хотя завершенных эстетических концепций творчества и не выработала. По свидетельству сестры Берггольц Марии Федоровны, однажды на выставке Валентина Серова она заметила: «По-моему, современное искусство должно быть... эскизно, что ли? Чтоб виден был путь...».
Загадочный эффект простоты Берггольц связан как раз с этой «непроработанностыо» ее художественного рисунка. Всяческая разжеванность ее манере и претит, и вредит.
Простота и достоверность эскиза ведут Берггольц к созданию жанра «открытого дневника». Его законы действенны не только для «Дневных звезд», не только для ее прозы, но и для поэзии. Многие ее лирические стихи начинаются как бы мгновенно — с возгласа удивления, восторга, страсти... Выписанность им чужда. «О, если б ясную как пламя...», «О, если бы дожить — дожить с тобою...» — характернейшие ее зачины.
Свойственная Берггольц проповедническая нота, ее пафос рационально не подготовлены, они обрушиваются на читателя как ливень. Только таким способом поэт избегает гибельной для лирики дидактичности — опасности, подстерегавшей Берггольц раньше других.
«Нескованная мысль, прямое слово» — вот идеал, к которому стремится искусство Берггольц. Оно непринужденно зарождается и расцветает в дневниковой форме. Подсказали ее блокадные дни, когда сам город, его стены глядели на Берггольц «открытым каменным дневником». Тогда же возник и ее знаменитый «Февральский дневник», по своим истокам и природе отчетливо, органически ленинградский: ни в какое другое время у нас не велось столько обусловленных самой историей записей личного характера.
Жанр «открытого дневника» как специфически берггольцевскую форму в литературе восприняли после появления «Дневных звезд» — «Главной книги», понравившейся многим поклонникам ее музы не меньше ее стихов. Те же, что в этой книге, художественные принципы видны и в ее лучшем позднем стихотворном сборнике «Узел». В нем спаяны в единое художественно-смысловое целое разрозненные поэтические страницы отдаленных и близких к нашему времени дней.
«О, какое большое время уложилось в жизнь каждого из нас, какое большое!» — говорит Берггольц. Искусство автора «Дневных звезд» — это всегда раскрытая книга, буквально открытая — всем радостным и грозным впечатлениям дня, всем памятным мгновениям бытия. Это книга, готовая отразить в себе даже невидимый свет дневной звезды.
Не совсем точно говорить о «Дневных звездах», что это «исповедь дочери века», хотя исповедальные черты искусству Берггольц несомненно свойственны. Произведение скорее вызывает читателя на диалог, чем делает его исповедником, отпускающим писателю его вольные и невольные грехи. Диалог этот ведется не с самой Берггольц, но с ее художественной совестью, диктующей автору те или иные сцены. Открытость дневника накладывает на Берггольц ответственность как на писателя. Она все-таки знает, что ее раздумья и воспоминания будут прочитаны.
Берггольц хотела, чтобы ее тексты воспринимались как «вечно живой кусок истории», понятный каждому из ее сограждан, но в первую очередь — ленинградцам. Потому что «...ни в одном городе так тесно не связаны личная судьба человека с судьбой города, как в Ленинграде».
Ощущение жизни внутри истории, ощущение значительности этой истории было свойственно Берггольц с первых литературных шагов. «Мы активно, страстно, как-то очень лично жили тогда всей политической жизнью страны», — вспоминает она о своей молодости. И действительно, чего у ее поколения не было, так это индифферентности, прагматизма и, в конечном счете, — равнодушия, самого печального из недугов, могущих поразить юношество. Берггольц ведомы были в жизни трагические часы и дни, но она не знала в ней разочарований.
Иным сверстникам Берггольц казалось, что мир уже «в основном объяснен» и методы его перестройки указаны до мелочей. Им оставалось только расти, как царевичу в бочке. Бочкой была старая культура, выкатившаяся на берег нового мира из океана оставшейся позади истории, из ее тьмы.
В «Дневных звездах» историческую границу, резко проведенную юной Берггольц между «отжившим прошлым» и на глазах творимым будущим, она отодвигает к более ранней поре детства. В начале двадцатых годов она с матерью и сестрой жила в древнем Угличе, и через причастность к этому сохранявшему все свое старинное обаяние городку жизнь писательницы мягко, как во сне, вплывает, вписывается в контекст общей русской истории.
Историческое время как кровь пульсирует в зрелом искусстве Берггольц, раз за разом прогоняемая через сердце, отданное ленинградской блокадно-военной теме. Это время материализуется в пайке хлеба, в последней папиросе-гвоздике, в плакатах, изрешеченных осколками снарядов, в ступеньках, вырубленных во льду крутого спуска к Неве отцом Ольги Федоровны...
В одной из ранних вещей Берггольц написала о героине, которой «всегда хотелось сойти на каждой чужой станции». Эту жажду познания нового мира, выраженную в нетерпеливой тяге к странствиям, можно найти у Берггольц всюду — и в прозе, и в стихах. Но, наверное, самым трудным и самым значительным путешествием был ее поход к отцу после смерти мужа, Николая Молчанова, в феврале 1942 года. Около пятнадцати километров — от радиокомитета за Невскую заставу — она шла весь день, и описание этого пути едва ли не самое сильное, что Берггольц создала в прозе. Этот путь можно точно расчислить по календарю, расписать по часам и минутам, и в то же время — это путь сквозь вечность, путь вне пространства и времени: «Я шла мимо умерших трамваев и троллейбусов в каком-то другом столетии, в другой жизни. Жила ли я на сто лет раньше сегодняшнего дня или на сто лет позже — я не знала. Мне было все равно». Хотелось бы привести это место «Дневных звезд» — больше двух десятков страниц — полностью, что затруднительно. Выборочно его цитировать невозможно.
В блокаду Берггольц увидела «бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи», увидела истинную жизнь души и духа, противостоящую жизни, понятой как «сумма удобств». На этой глубине рождается и растет у Берггольц мысль о победе, мысль о счастье. Поэтически она подвела итог этой теме в более позднее время:
О, пусть эти слезы и это удушье,
пусть хлещут упреки, как ветки в ненастье.
Страшней — всепрощенье. Страшней — равнодушье.
Любовь не прощает. И все это — счастье.
«Суровость» Берггольц, как заметил А. Яшин, неотделима у нее от «сердечности». Счастье в обычном житейском виде, счастье, неотличимое от удовольствия, ее занимает гораздо меньше, чем «ожидание счастья», как она призналась в «Дневных звездах». Берггольц принадлежит к тем редким поэтическим натурам, которые не просто мечтают о будущем, но живут им.
Если мы знаем ее истоки, мы ее все-таки поймем, во всяком случае, не истолкуем ее ложно. Постичь глубину Берггольц — это значит прикоснуться к ее ленинградской теме, слиться с ней:
Так скорбь и счастие живут во мне,
Единым корнем в муке Ленинграда.
Единой кроною — в грядущем дне.
Окончательная «неслыханная простота» пришла к Берггольц тогда, когда в ней рухнула не только грань между искусством и жизнью, но была преодолена граница между жизнью и смертью. Пожалуй, нет сейчас человека, который не знал бы этих ее простейших слов, выбитых на Пискаревском кладбище Ленинграда: «Никто не забыт и ничто не забыто».
В поэме, относимой Берггольц к числу лучших своих творений — «Памяти защитников» — и написанной, как она сама поясняет, в конце войны «по просьбе ленинградской девушки Нины Нониной о брате ее, двадцатилетием гвардейце Владимире Нонине, павшем смертью храбрых в январе 1944 года под Ленинградом, в боях по ликвидации блокады», есть строки:
Он падал лицом к Ленинграду.
Он падал,
а город стремительно мчался навстречу...
...Впервые за долгие годы снаряды на улицы к нам не ложились в тот вечер.
И звезды мерцали, как в детстве, отрадно над городом темным, уставшим от бедствий...
«Как тихо сегодня у нас в Ленинграде», — сказала сестра и уснула, как в детстве.
Таким же, как образ ее героя, светлым и трагическим, всегда обращенным «лицом к Ленинграду» видится нам теперь образ Ольги Берггольц.
Л-ра: Звезда. – 1985. – № 5. – С. 184-189.
Произведения
Критика