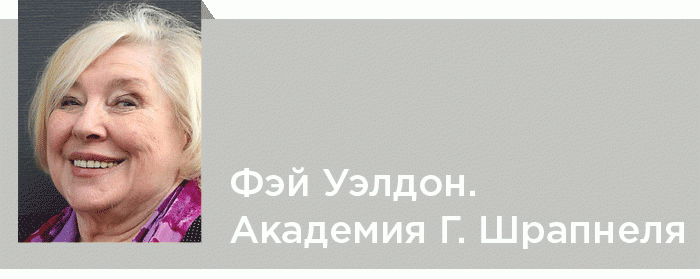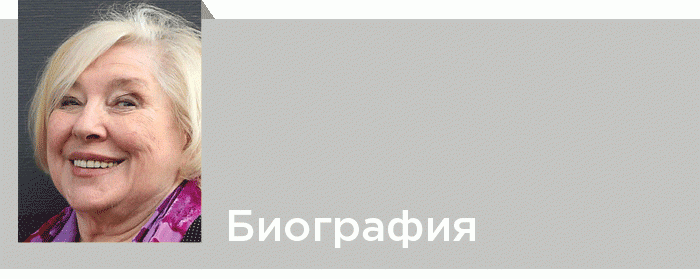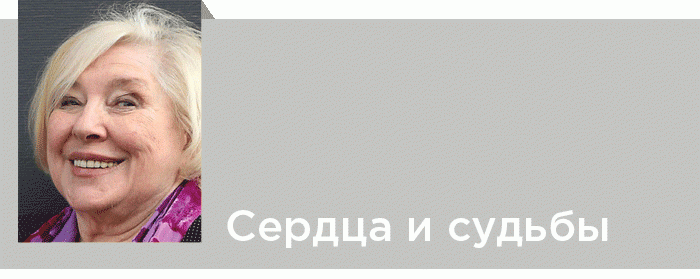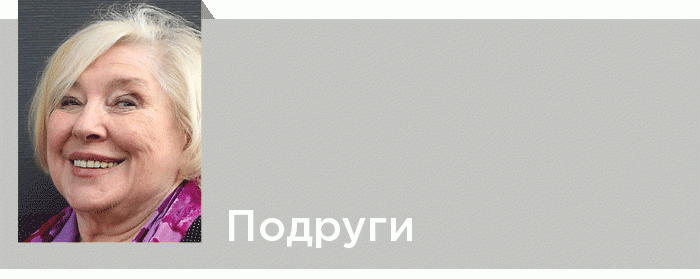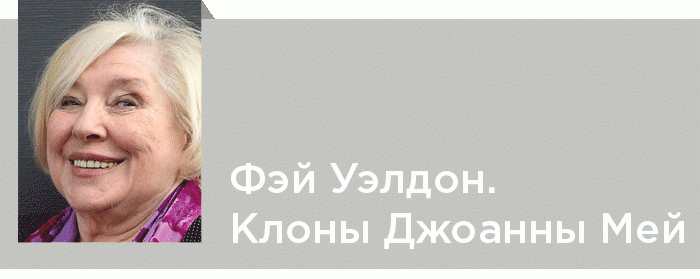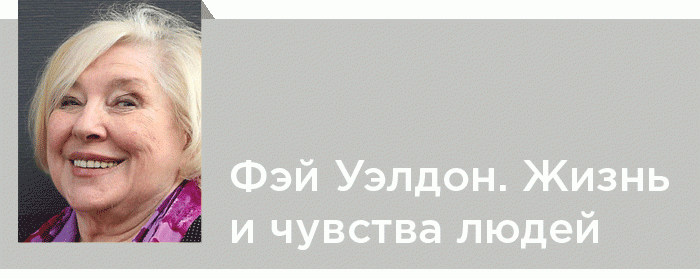Фэй Уэлдон. Жизненная сила

(Отрывок)
Посвящается Нелл Лейшон, без которой этот роман не был бы написан в том виде, в каком он существует сейчас.
Если поначалу ничего не происходит, то потом случается все сразу
МЭРИОН
В тот день ко мне зашел Лесли Бек. Под мышкой он нес картину, написанную маслом. Его руки всегда казались слишком короткими, и теперь ему пришлось вытянуть правую, чтобы обхватить картину, да еще придерживать ее левой, так что сегодня он выглядел почти квадратным, как регбист, только слишком уж долговязый, вроде тех баскетболистов, что получают очки, дотянувшись через чужие головы и швыряя мяч точно в корзину. Тем самым они вызывают шквал радостных воплей, хотя лично я не вижу никакой заслуги в том, что ты попросту выше всех ростом. А может, Лесли Бек всего-навсего похудел, да и я усохла? Во всяком случае, наши относительные размеры тем или иным образом изменились — в мою пользу.
На мой взгляд, Лесли Бек никогда не был достаточно высок для своих жен: сначала Джослин, затем Аниты. Отношения в браке складываются проще, если мужчина заметно выше женщины: создающийся при этом баланс сил, обычно в пользу мужчины, выглядит гораздо естественнее. И потом, в таких случаях мужское чувство превосходства вызывает меньше раздражения. Я не замужем, поэтому в моем положении удобно подмечать такие детали, не испытывая ни тревоги, ни страха. Если перейти на язык цифр, когда-то рост Лесли Бека составлял пять футов десять дюймов, а теперь — около пяти футов и восьми дюймов. Два дюйма — существенная разница.
Я вспомнила, что Лесли Беку скоро стукнет шестьдесят. Его истинная натура давала о себе знать, как это бывает с годами, и я обнаружила, что она мне не по душе. Хотя рыжие волосы Лесли Бека по-прежнему были пышными и вьющимися, мне вдруг пришло в голову, что они похожи на дорогой парик; его походка оставалась пружинистой, но мне показалось, что он начнет шаркать, едва завернув за угол, и, хотя картину он нес без усилий, вероятно, ему понадобилось помедлить и отдышаться перед дверью, чтобы произвести впечатление этакого бодрячка. По сути дела, я осознала, что утратила всякий интерес к Лесли Беку — без какой-либо причины. Каждому человеку рано или поздно исполняется шестьдесят. Конечно, если повезет.
— Привет, крошка Мэрион, — произнес он.
— А, Лесли, привет! — отозвалась я. — Что это у тебя?
— Картина Аниты, — объяснил он. — Я подумал, что она могла бы заинтересовать тебя.
И Лесли Бек положил картину, написанную на настоящем, дорогом, натянутом на подрамник холсте размером пять на пять футов, на большой стол, предназначенный специально для таких случаев, и развернул ее. Листы многослойного полистирола упали на пол и застыли, как лед, растрескавшийся под воздействием сверхъестественных сил. Похоже, этой картиной Лесли Бек дорожил.
— Как дела у Аниты? — спросила я.
Он помедлил, глядя на меня. Его глаза по-прежнему были голубыми, хотя успели выцвести и стать водянистыми. Теперь же они наполнились слезами.
— Я держусь молодцом, — сообщил он, — но она умерла.
Я оглядела свою галерею, «Галерею Мэрион Лоуз» неподалеку от Бонд-стрит, мою гордость, достижение, мою жизнь, источник моих доходов (насколько это возможно в период экономического спада), мою твердыню и опору (насколько это возможно во времена, когда волны насилия и тревоги подступают вплотную к дверям), и порадовалась тому, что доверяю не человеческим существам, а неодушевленным предметам. Но солнце выбрало именно этот момент, чтобы вынырнуть из-за тучи и заглянуть прямо в толстое зеркальное стекло окна, и развешанные на стенах картины шотландского художника, некоего Уильяма Макинтайра, которым полагалось бы заиграть в лучах солнца собственным внутренним светом, соперничающим с солнечным, не оправдав доверия, вдруг потускнели и поскучнели, так что сразу стало ясно: их никто и не подумает купить, и рассчитывать на это нелепо. Я видела повисшие в воздухе пылинки и чувствовала вонь выхлопных газов, проникшую в галерею с улицы вслед за Лесли Беком. Появившись в самую неподходящую минуту, солнце ударило мне прямо в глаза, и я ощутила легкое головокружение — думаю, оно было вызвано не скорбью по Аните, а некими мощными эмоциями сродни этой скорби. Возможно, просто неприязнью к Лесли Беку.
— А я думал, ты уже знаешь, — добавил он. Как будто все обязаны знать детали его жизни! Его, Лесли Бека.
— Я не слышала. Прими соболезнования.
— Ты могла бы повесить ее во время проведения следующей выставки, — заметил Лесли. — Ну, что скажешь?
На этот раз я разглядывала картину не для того, чтобы выявить ее плюсы, минусы или что-нибудь помимо сюжета. На картине был изображен интерьер спальни Лесли и Аниты Бек, который я хорошо запомнила с тех пор, как Анита куда-то уезжала. Куда именно? Скорее всего навестить детей или заболевших родителей. Один эпизод весьма беспорядочной семейной жизни, какая бывает у других людей, но какой у меня никогда не было и, пожалуй, уже не будет. У меня есть кошки, и это вполне меня устраивает.
— Невыносимая трагедия, — произнес Лесли. — И надо же было этому случиться, когда талант Аниты наконец-то раскрылся!
— О да, — отозвалась я.
— Я бы оценил ее в шесть-семь тысяч, — сообщил он.
К нам приближалась Афра, избавив меня от необходимости восклицать: «Ты шутишь?» Афра прихрамывала.
— А, привет! — благосклонно поздоровался Лесли Бек тем тоном, каким мужчины обычно приветствуют Афру.
Афре двадцать четыре года, у нее копна пышных темно-каштановых курчавых волос, энергичными завитками падающих на лоб и беспорядочной массой — на узкие и сутуловатые плечи. Ее нос слишком велик, рот — маловат, юбки чересчур короткие, запасы энергии неиссякаемы, но на такие мелочи никто не обращает внимания и меньше всех — сама Афра. Сегодня она вырядилась в обтягивающие брюки в черно-белую полоску — продольную, а не поперечную. Хотя время от времени я умоляла ее одеваться поскромнее, чтобы не соперничать с картинами на стенах, она не соглашалась. Афра наклонилась, чтобы потереть сильно ушибленный палец ноги, легко сложилась пополам в талии, и Лесли Бек заметил это. В другом возрасте, в другое время и в другом месте он бы присвистнул.
— Неплохая картина, — сказала Афра. Она окончила вечерние курсы при школе изящных искусств и считала своим долгом высказывать мнение обо всем, хоть я и просила ее помалкивать. Но сказать по правде, независимо от моих пожеланий картины, которые нравились Афре, покупали первыми.
— Ее написала моя жена, — объяснил Лесли Бек. — Это наша спальня. Начать рисовать ей предложил я. Ей нужно было чем-нибудь заняться. Вы же понимаете, что это значит для женщины. Не подбодри я ее, она бы ни за что не отважилась.
— Несомненно, ей нравится ваша спальня, — заметила Афра и, прихрамывая и пританцовывая, пошла прочь — как я надеялась, разбирать почту.
А потом из хранилища вышла Барбара, и Лесли Бек произнес «А, привет!» тоном повесы средних лет, но уж никак не престарелого вдовца. Видимо, из двух моих помощниц более молодая Афра была менее доступной, чем Барбара, и Лесли Бек сразу вычислил это. Барбара имела диплом специалиста в области изящных искусств, мужа-библиотекаря и маленького ребенка, а также беспомощный, растерянный взгляд, свойственный молодым матерям, которые недавно приобрели этот статус. Она была не слишком красива, не так уж молода и, казалось, ждала, что кто-нибудь объяснит ей, как устроен мир, и тем самым осчастливит ее.
— Привет, — вежливо и чинно отозвалась Барбара и прошла мимо.
— А ты умеешь выбирать подчиненных, — заметил Лесли Бек, и я снова перевела взгляд на картину. Те же сливочные шторы, то же белое покрывало из хлопка на кровати — впрочем, дорогие, добротные вещи изнашиваются не скоро. Обои в полоску. Помнится, прежде они были в цветочек: по крайней мере хоть что-то изменилось. Я никогда не забуду удовольствие, которое Лесли Бек доставил мне прямо на белом покрывале, поскольку нам не хватило времени разобрать постель, помню, как я позавидовала мягкости подушек Аниты Бек, но воспоминания были расплывчатыми, словно чья-то чужая душа вселилась в тело женщины, с радостью и готовностью раздвигавшей ноги на чужой постели, пока Лесли Бек доставлял и получал ни с чем не сравнимое удовольствие, доставлять и получать которое он считал своим законным правом.
В общем, картина была не в моем вкусе, как и ее создательница — женщина, которая вытеснила Джослин и сама стала предметом жалоб Лесли Бека — на ее заурядную внешность, беспомощность, медлительность, вечную хандру — словом, на все те качества, которых, как надеялась, я сама лишена. По краям изображение было размытым, а посредине — отчетливым, как на фотографии. Я уже представляла, как на открытии выставки кто-нибудь скажет: «Вы только посмотрите! Этот гребень как настоящий: так и тянет взять его и причесаться!» Но мне бы не хотелось видеть такое на стенах моей галереи, даже на групповой выставке в самом темном углу: у меня тоже есть гордость, я не гонюсь за легким заработком. Такие картины пользуются спросом у покупателей средней руки, хорошо идут по средним ценам, но в этой безопасной игре нет ни удовольствия, ни риска, ни вызова. Играя в нее, можно или умереть от скуки, или назначить Барбару менеджером, отправиться домой и ждать, когда источник доходов иссякнет. Что же касается гребня, старомодного, отделанного серебром, Анита Бек просто не представляла себе, что с ним связано, а жаль. Для этого и существуют художники. В свое время я брала этот гребень и проводила им по волосам. Они спутались, пока мы с Лесли Беком поспешно утоляли телесную жажду, а я моталась по мягким квадратным перьевым подушкам Аниты Бек. Мне был необходим гребень. И мне, и всем остальным; и мы пользовались им, а потом, конечно, снимали с зубьев волосы, не столько заботясь об Аните, второй жене Лесли, сколько желая избавить от неприятностей самого Лесли.
— Она не совсем в моем вкусе, Лесли, — призналась я. — И не вполне соответствует стилю галереи.
— Очень жаль, — отозвался он. — Но ты много помогала Аните в прошлом, а она была привязана к тебе, вот я и решил предоставить шанс тебе первой.
— Ты думаешь о Джослин, а не об Аните, — возразила я, и мне показалось, он не сразу вспомнил, кто такая Джослин.
— Пожалуй, — продолжал он, — тебе было бы интересно узнать, что за последние два года у Аниты собралась целая коллекция картин. Ты непременно должна как-нибудь заехать и посмотреть их. У нее был рак печени. После того как ей поставили диагноз, она прожила всего три месяца. Это у них наследственное. Ее мать тоже умерла от рака. Кошмар. Анита писала преимущественно интерьеры, но у нее есть и несколько пейзажей. Мало-помалу я развивал ее дар. Убеждал выходить из дома.
— Бедная Анита, — сказала я.
— Она была наделена поразительной восприимчивостью, — не унимался Лесли Бек, — редкой чувствительностью, особым талантом. Но, предоставленная самой себе, она мгновенно теряла уверенность. Мне приятно думать, что я помогал ей. Разумеется, я не стану продавать все картины сразу. Рынок произведений искусства я знаю как свои пять пальцев. Знаешь, Аниту похоронили рядом с ее матерью, в фамильном склепе.
— Прекрасно, — отозвалась я. — Теперь они вместе, как и полагается родным.
Я вовсе не считаю себя чересчур восприимчивой и чувствительной, но это меня не беспокоит. Будь я даже глупой как пробка, Лесли Бек не заметил бы этого. Не припомню, чтобы Анита была из семьи, имеющий склеп, — совсем напротив, но, думаю, в наши дни можно купить что угодно, даже генеалогическое древо. Впрочем, под словом «склеп» Лесли мог подразумевать одну и ту же полку в колумбарии.
— И все-таки я оставлю тебе картину Аниты, — решил он, — а ты подумай как следует. Это не самая лучшая ее работа, но, само собой, я к ней привязан. Как и ко всем другим. — И он повернулся спиной к картине, прошелся по тускло поблескивающему пластику, ворохом лежавшему на полу, и направился к выходу. Открыв дверь, он впустил в помещение очередную порцию выхлопных газов, но, разумеется, в этом его вины не было.
Остановившись на пороге, Лесли обернулся ко мне. На нем были отличный серый костюм и яркий молодежный галстук. На щеках играл розовый румянец. Мне он казался плотоядным существом, к тому же пьющим. А я вегетарианка.
— Не знаю, что я буду делать, — пробормотал он. — Без нее. Как мне теперь жить? — Он говорил довольно громко, так что его слышали и Афра в хранилище, и Барбара в глубине галереи, хлопотавшая вокруг одной особенно маленькой картины Макинтайра, которую потенциальный покупатель попросил измерить в раме и без нее, нетто и брутто. — Дорогая крошка Мэрион, — задумчиво продолжал Лесли, — знаешь, я часто думаю о тебе.
Если бы не эта фраза, я решила бы, что он страдает ретроспективной амнезией и не может отвечать за свои слова и поступки, а также за оскорбление памяти жены, и простила бы его. Если бы он напрочь забыл меня, это было бы вполне понятно, хотя и неприятно. Но его памятливость и расчетливость в стремлении продать мне картину бедной Аниты, попытки представить счастливым брак измученной женщины, влюбленность в собственную скорбь — и при этом настолько поверхностная влюбленность, что она не помешала ему заигрывать с моими подчиненными, — все это было непростительно.
— В конце концов, ты преуспеваешь, — продолжал он. — «Галерея Мэрион Лоуз»! Кто бы мог подумать! Во что превратилось наше крошечное предприятие! А может, у тебя есть спонсор? Какой-нибудь симпатичный богатый банкир?
— Нет ни спонсора, ни банкира, — ответила я. — Я всего добилась своим трудом. И пожалуйста, закрой дверь: с улицы несет выхлопными газами. А у меня астма.
— Да-да, — с улыбкой кивнул он, и его улыбка почти подействовала. — Помню. Но об этом мы всегда помалкивали, верно? — Улыбнувшись, он показал зубы и сразу стал молодым, озорным и почему-то властным, словно только его представления о мире были правильными и цивилизованными. — А ты думала, мы не знаем?
— Ничего я не думала.
— Кое о чем, — продолжал он, — лучше молчать. Но я уверен, ты выставишь картину Аниты. В память о прошлом.
Его зубы были по-прежнему ровными, острыми и белыми. Прежде они наводили меня на мысли о каком-то маленьком, милом, ласковом зверьке или же, когда его деспотизм нарастал, об опасном, гладком лисе, рыскающем вокруг меня. Иногда, даже во время занятий любовью, это видение сменялось другим: лис врывается в Курятник и душит одну жертву за другой, повсюду кровь и перья. А потом я утратила импульсивность, умение терять голову, что и прежде мне плохо удавалось, и пришлось имитировать оргазм. Убедить Лесли было легко. Добившись своего, он менялся и представал в образе петуха, пережившего драку и вскочившего на навозную кучу с торжествующим криком: «Ах, какой я умный и хитрый, как я счастлив!» В этом и состоит искусство доверия в сексе: надо лишь открывать перед лисом дверь курятника и каждую ночь ложиться в постель с петухом.
— Заупокойная служба по Аните в пятницу, — сообщил Лесли Бек. — Ее многие любили. В церкви Святого Мартина-на-полях. В три часа. Было бы очень мило, если бы и ты пришла. Конечно, мне будет нелегко. Наверное, я не выдержу. Но жизненная сила… Думаю, ее мне не занимать. Я чувствую это, — заключил он, развел руки и посмотрел на них, и я последовала его примеру. Его длинные крупные пальцы выгнулись, гибкие и подвижные даже в верхнем суставе. От воспоминаний у меня перехватило дух. Лесли поймал мой взгляд. Он улыбнулся. Наконец он закрыл дверь и ушел.
Афра уже начала сворачивать и убирать листы пленки, в которые была завернута картина. Мысленно я поблагодарила ее. И конечно, Барбару, которая, несмотря на медлительность и туповатость, умела вставить слово к месту и вовремя, притом будто невзначай — по-моему, так и было, — и это получалось у нее неплохо. Она так не любила возражать, так стремилась во всем увидеть лучшие стороны, что едва сдерживала энтузиазм, даже когда речь шла о худших наших картинах — особенно о самых худших, — будто слова неодобрения могли каким-то образом потревожить художника в его мастерской: для Барбары искусство было святыней. Тем не менее порой мне хотелось хорошенько встряхнуть ее, заставить понять: если картина называется предметом искусства, это еще не означает, что она хорошая. И если полотна покупают, это не значит, что они плохие.
«Вот гад!». — сказала Афра о Лесли Беке. Этому человеку, этому гаду, Анита посвятила свою жизнь. Если рядом с тобой мужчина, никто не скажет тебе, что он гад; этого избегают, думая: что ж, это ее выбор, возможно, и наши ничем не лучше, в чем вообще можно быть уверенным в нашем учтивом мире? Другими словами, всем нам известно, что мужчина, которого одна женщина считает гадом, способен для другой оказаться истинной любовью, так зачастую и бывает. Мне не хотелось верить, что Лесли Бек — гад по объективным меркам, не хотелось ради Джослин и Аниты, Розали, Сьюзен, Норы или меня самой.
Барбара поставила картину на стул и всмотрелась в нее. Афра подошла поближе.
— Она не должна производить такое впечатление, — сказала Барбара, — но все-таки производит. Зачем здесь этот гребень? Похоже, он попал сюда из совсем другой картины. Деталь Рокуэлла посредине, в окружении магии Моне.
— Чепухи Моне, — поправила Афра, которой нравилось дразнить Барбару. — Жаль, что она умерла. Этот фрагмент в середине мне по-настоящему нравится.
— На гребне, случайно, нет волос? — спросила я. Я не собиралась присматриваться. На нем, насколько мне известно, могли оказаться волосы одного из четырех типов: рыжеватые и мягкие — волосы Аниты, длинные и темные — мои, пружинистые каштановые — Розали, короткие и светлые — Норы. И другие… Но какие и сколько? Любимой постелью Лесли Бека была постель его жены. Идиотка Анита ни о чем не подозревала.
— Нет, — удивленно отозвалась Барбара. — Волос я не вижу.
У меня повысился голос. Так всегда бывает, когда я взвинчена. Это и удивило Барбару. В галерее нередко появляются гады и подлецы. Они много болтают и неохотно расстаются с деньгами. Ничего из ряда вон выходящего.
— Поставьте картину в хранилище, — велела я, — пока я не решу, как быть. — Потому что требовалось что-то предпринять.
Афра подхватила холст и понесла прочь, а ее черно-белые ноги вдруг стали для меня желанным возвратом в мир авангардного искусства. Мой стол опять опустел, но все изменилось, и не могло не измениться: случившееся можно было забыть, но не уничтожить. Впервые за двадцать три года я ощутила угрызения совести.
НОРА
Довольно откровений Мэрион. Я назначила себя ее биографом, пусть временно, взбудораженная возвращением Лесли Бека в наш круг. Отчет об этом событии я услышала от Розали, которой Мэрион рассказала о нем по телефону, едва сдерживая волнение: подробности были профильтрованы сначала разумом Мэрион, затем — Розали, и, думаю, я и Нора, излагая их на бумаге, не могли не допустить искажений и преувеличений. Хотя мне хочется верить в обратное.
Мэрион Лоуз, старая дева, владелица галереи, продающая картины, — скорее подруга Розали, чем моя. В последнее время мы с Мэрион перестали поддерживать связь, впрочем, я не покупаю картины. А Розали иногда покупает, и, по-моему, она спятила. Ей следовало бы беречь каждый пенс.
Старой девой я назвала Мэрион умышленно: подозреваю, ход событий был предопределен. «Я старая дева, — воскликнет однажды Мэрион, — и горжусь этим!» Не избегайте этого слова, подразумевает она: лучше постарайтесь сделать такое состояние желанным, а само слово — приемлемым. Что ж, молодец. Ей нравится превращать свою жизнь в кровопролитное сражение. А мне — нет.
— Мэрион старалась держаться как ни в чем не бывало, — сказала Розали, — но на самом деле была взволнована. Она даже чуть не расплакалась. Никогда не видела, как Мэрион плачет, а ты?
— При людях — нет, — подтвердила я, но мне всегда казалось, что Мэрион льет слезы в одиночестве или в обществе своих двух персидских котов, Мане и Моне, — ухоженных, нервозных, большеглазых и смелых, как она сама.
Когда уходят гости, в квартире становится тихо, когда широкая постель всегда пуста, достаточно ли картин на стенах — дани ее вкусу, суждениям, оригинальности, не говоря уж о доходах, — книг на полках, мерцания телевизора и предвкушения завтрашнего рабочего дня, чтобы прогнать чувство тоски и одиночества? С каким ощущением живет Мэрион Лоуз — «жизнь прожита зря» или «жизнь удалась»?
— Я понимаю, что ты имеешь в виду, Нора, — заявила Розали. — Ты считаешь, что любая женщина, у которой нет мужа и детей, достойна жалости. Это чепуха.
У Розали есть — или был — муж-альпинист. Однажды на выходные Уоллес Хейтер отправился в Швейцарию — по крайней мере так сказал он сам — и просто не вернулся домой. Труп не нашли; видели, как он сходил с поезда в Церматте, как он регистрировался в гостинице, но вечером там его так и не дождались. Шел февраль, разгар сезона, поэтому его номер сразу сдали кому-то другому — несущественная, но запоминающаяся деталь. Суд отказался объявить мужа Розали погибшим, пока не пройдет два года. Тем временем благодаря чуду — а может, предусмотрительности мужа — страховой полис обеспечивал Розали и ее двум детям-подросткам относительный комфорт. Ситуацию, которая многих повергла бы в панику, Розали переносит с хладнокровием, тревожащим меня, Мэрион и Сьюзен, ее подруг. Сьюзен по-прежнему дружит с Розали, хотя со мной она в ссоре.
«Если он мертв, он не страдает, — говорит Розали. — А если жив, он счастлив с какой-нибудь женщиной».
Она позволила себе располнеть, она смотрит телевизор и жует рыбные и картофельные чипсы, носит цветастые рубашки и юбки на резинке, ее лифчики чуть не лопаются, но ей все равно, она сплетничает с подругами.
Мы, подруги, напоминаем ей, что когда-нибудь страховая компания поставит вопрос о целесообразности продолжения выплат и источник доходов ее иссякнет; но она отказывается даже думать о туманном будущем, не то что готовиться к нему. Мы с Мэрион и Сьюзен видели ее в первые, полные слез и волнений недели после исчезновения мужа, пичкали ее транквилизаторами, а потом отучали от них. Теперь Розали даже без диазепама целыми днями бездельничает. Ее праздность поражает нас. Если в наших домах в углах скапливается пыль, то лишь потому, что мы заняты и у нас есть дела поважнее. А Розали просто ни до чего нет дела. Ее чулки собираются в гармошку на щиколотках. Если они слишком широки в бедрах, то и велики в ступнях. В супермаркете вы бы ее и не заметили.
— Лично я, — сказала Розали, — думаю так: Мэрион встревожило то, что Лесли Бек флиртовал с ее подчиненными, а не с ней самой.
Думать об этом мне не хотелось. Я предпочитала считать, что Мэрион Лоуз расстроило известие о смерти Аниты. Мне от этой новости стало не по себе.
— Ну что ж, тебе хватает времени на такие мысли, — отозвалась я. — Везучая. — Я взглянула на часы и помчалась в офис, где тружусь неполный рабочий день.
Я выполняю большую часть канцелярской работы в агентстве недвижимости под названием «Аккорд риэлтерс». Благодаря первому слову оно попало в самое начало справочника «Желтые страницы». Офис «Аккорд риэлтерс» находится в торговой аркаде неподалеку от Ричмондского вокзала, конечной станции наземной линии, которая быстро, но без особого комфорта доставит вас в самый центр Лондона.
Ричмонд — приятное местечко. Через него протекает Темза. Он расположен достаточно далеко от деловой части города, чтобы обладать особым шармом, но достаточно близко, чтобы не утратить столичной оживленности. Загляните в любое из окон в сумерках, через несколько минут после того, как включили свет, но шторы еще не задернули и ставни не закрыли, и вы увидите сосновые стенные панели, сине-белый фарфор, книжные шкафы, пишущие машинки, картины на стенах, и если вас охватит зависть, то недаром. «Посмотрите на нас, — взывают все эти вещи, — мы принадлежим английской интеллигенции, людям со вкусом, способным ценить интеллектуальные наслаждения. Да, они не обременены богатством, но когда-нибудь, в один прекрасный день, получат его — если только в мире есть справедливость».
Ричмонд — весьма процветающее место. Нищие в нем редки, ночлежки для бездомных — многочисленны, а девочек можно отпускать в школу одних. В публичной библиотеке полно посетителей; есть магазин, где продают исключительно пальмы; члены Общества охраны памятников старины проявляют высокую активность. Такие анклавы рассеяны по всему миру, туда удаляются люди, подобные Розали и Уоллесу, Эду и мне, Сьюзен и Винни, чтобы вырастить детей.
Мой стол с компьютером стоит слева от двери. Когда секретарша уходит, а она часто отпрашивается к врачу или дантисту, жизнь в «Аккорд риэлтерс» замирает — и это настолько заметно, читатель, что мне остается лишь гадать, скоро ли придется искать другую работу. Зато тишина позволяет мне по часу в день заниматься рукописью, которая вряд ли будет опубликована. Моя писанина изобилует диффамациями, а Лесли Бек любит прибегать к помощи закона, да и стоит ли причинять боль и беспокойство своим друзьям ради нескольких лишних долларов? По крайней мере так принято говорить здесь, в Ричмонде: нам нравится вставать на высокие нравственные позиции — к своему явному неудобству. Следовательно, вымысел здесь — сам читатель, поскольку сюжет автобиографической рукописи — чистая правда. Но должна признаться, сама мысль о несуществующем читателе подстегивает меня, приковывает к странице в надежде и страхе, что в конце концов найдется тот, кто прочтет ее, вместе со мной пройдет по пути этого повествования. Но забудь об этом, читатель, на самом деле мне нужна только твоя компания. Мне одиноко здесь, в «Аккорд риэлтерс». Аркаду окутывает печаль, которую не прогнать даже множеству ярких неоновых вывесок. Похоже, никому не нужны прозрачные трусики, выставленные в витрине магазина нижнего белья, и бельгийский шоколад из кондитерской; никого не интересует фривольность, никто не желает тратить деньги. Уверена, причиной тому — СПИД.
Иногда мне удается разговориться с клиентами, покупающими недвижимость, — не так часто, как прежде, но я объясняю это тем, что и клиентов стало меньше. У меня «тонкая кость», я всегда была чересчур костлявой, у меня светлые короткие волосы. Эд говорит, что мне можно дать и тридцать лет, и пятьдесят, но, возможно, он просто льстит мне. Эд вдумчив и добр, работает в издательстве, худощав, с блестящими глазами, носит очки. Часто он бродит вокруг дома с книгой в руке. Я разговорчива, он молчалив. Ему нравится включать джаз на полную мощность. Держится он вежливо, но как-то скованно. Иногда он выглядит моложе своего сына Колина — внешне они очень похожи. Впрочем, Эд почти не пьет — в отличие от Колина, который иногда является к завтраку с похмелья.
А жизненная сила, упомянутая Лесли Беком — согласно Розали, согласно Мэрион Лоуз (которая уловила ее в дрожащих руках Лесли Бека) — и принимаемая всерьез мной, Норой, действительно существует, клянусь вам, она пронизывает всю нашу жизнь, приносит достаточно энергии, чтобы создавать из одних и тех же существ реальные и вымышленные персонажи, объединяет настоящего и выдуманного читателя. В ее сиянии роман, который вы читаете, и жизнь, которую вы ведете, неразличимы. Жизненная сила Лесли Бека — энергия не столько сексуального желания, сколько сексуальной неудовлетворенности, это стремление найти в мире кого-нибудь получше и тем самым отыскать нечто лучшее в себе. Энергии взаимодействуют, порождая утонченные и воодушевляющие разногласия, или же движутся бок о бок, как колесницы в «Бен Гуре», сталкиваясь колесами, соприкасаясь с дьявольским упорством, высекая искры счастья и несчастья, вызывая в нашем воспаленном разуме невероятные видения побед и поражений, но, когда доходит до дела, они заставляют забыть обо всем, кроме нелепых случайностей и желания выжить. Ибо куда несутся эти колесницы, если не круг за кругом по накатанной колее? Чем же может завершиться эта скачка? Кто определит победителей и побежденных? Насколько трудно примирить сущность ночи, обитателя слизистой оболочки, порождение алчного удовольствия, с упорядоченной и добродушной сущностью дня? Первая сущность иррациональна, неуправляема, всеобща, постыдна; вторая, достойная жалости, но могущественная, напоминает миру о нравственности.
Мэрион Лоуз слишком напугана своей первой сущностью, проявлением жизненной силы, потому и обрекла себя на полужизнь в обществе котов. Так считаю я, хотя Розали иного мнения. Розали утверждает, будто жизнь Мэрион насыщеннее, чем у кого-либо другого, поскольку она считает целью само существование, а не рассматривает жизнь как некий кран, из которого вытекают годы, месяцы и дни. Розали говорит, что только бездетные люди, полноправно распоряжающиеся собственными душами, способны познать и ад, и рай.
А Мэрион, до тех пор пока не прибежала к Розали в слезах, жалуясь на то, что Лесли Бек вернулся в нашу жизнь и что Анита мертва, не думала и не рассуждала ни о чем подобном. Меня всегда раздражало то, как в жизни некоторых людей один небогатый событиями день сменяет другой. Не понимаю, как можно открывать одну банку кошачьего корма за другой, выставлять за дверь мешок за мешком использованного наполнителя для кошачьего туалета, когда у других рождаются и взрослеют дети. Жизнь несчастных одиночек утекает, а они продолжают болтать и вести себя как ни в чем не бывало, но на самом деле они парализованы и не могут не замечать этого. От такого паралича умирают, вот в чем беда, и только слезы в глазах людей, безмолвно расстающихся с жизнью, свидетельствуют о том, что они все осознали. Отпущенное время потрачено впустую. Жизненная сила исчерпана и не принесла ничего, кроме разочарования, как метеор, пролетевший так далеко от Земли, что никакого зрелища не получилось. «Под лежачий камень вода не течет», — твердила я Мэрион Лоуз, а она отвечала: «Хватит, Нора, мне не нужны события. Я вполне довольна своей жизнью. Ты говоришь о себе».
По крайней мере Анита однажды очнулась от дремоты и взялась за какое-то дело, начала рисовать, но так поздно, что ее прервала смерть.
Мэрион, Розали, Сьюзен, и Нора, то есть я… В общей сложности у нас восемь детей, подростков разных возрастов. Я перечислю их, но впредь постараюсь упоминать о них пореже; достаточно сказать, что эти дети — источник непрестанной тревоги и редкого удовлетворения, что жизнь годами вращалась вокруг них — даже жизнь Мэрион, которая играет роль тетушки и утверждает, что этого ей более чем достаточно и что мы свято, но ошибочно верим, будто наши тревоги за детей оберегают их, как некий талисман. Если всю ночь пролежать без сна, в приступе отчаяния ожидая возвращения беспутной дочери или сына-наркомана, они останутся невредимы. Иногда это не срабатывает. Если же отчаянию присуща двойственность, если оно смешано с полуосознанным (в лучшем случае) желанием никогда не видеть их и больше не думать о них, тем хуже. А если при виде чужого ребенка вас мгновенно наполняет подлинная радость — как говорится, торжество надежды над опытом, — тем лучше.
Детей Розали зовут Кэтрин и Алан, детей Сьюзен — Барни, Аманда и Дэвид, моих — Ричард, Бенджамин и Колин. Мэрион бездетна. Пропавшего мужа Розали зовут Уоллес, отец Кэтрин и Аманды — Лесли Бек. Уоллес так и не узнал про Кэтрин, Винни даже не задумывался, почему рыжеватые волосы Аманды вьются и ей приходится носить скобки на зубах. И у Винни, и у Сьюзен широкие челюсти и крепкие, крупные, ровные зубы, но у Аманды зубы растут в лисьих, вытянутых, челюстях, унаследованных от Лесли Бека. Бедный ребенок постоянно мучается с ними, а ортодонт прилагает нечеловеческие усилия в борьбе с неудачным генетическим наследием.
Но то, что вам известно о друзьях, разглашать строго запрещено! В Штатах люди часто переезжают, заводят новых друзей, учатся искусству начинать все заново; возможно, они и вправду мудры. А здесь, в Ричмонде, Англия, мы склонны прирастать к одному месту и изводиться от страха.
Итак, позвольте увести вас от добропорядочной безопасности Ричмонда и небытия «Аккорд риэлтерс» к драмам и волнениям 1974 года, в высокий городской дом Лесли Бека, дом номер двенадцать по Ротуэлл-Гарденс, Лондон. Его недавно перекрасили в белый цвет, а до этого он целых восемь лет был покрыт неожиданной для шестидесятых розовой краской. Прежде желтые водосточные трубы и желоба ныне благоразумно выкрашены в черный цвет. Как и все наши соотечественники, Лесли Бек стал осторожнее: трезвость суждений прежде всего проявляется в цветовой гамме. Ирландская республиканская армия устраивает взрывы в автобусах и поездах; сидеть у окон в ресторанах стало небезопасно; мало того, цены на нефть резко подскочили после того, как входящие в ОПЕК страны Персидского залива объединились и образовали картель. Колорит — это смело, но заурядность безопаснее. Ходят слухи, будто уже напечатаны продуктовые карточки; всем кажется, что Запад близок к крушению, к взрыву и что Маркс все-таки был прав. Другими словами, на подъеме Советский Союз. Если бы мы только знали!
Наступило летнее утро, время пить кофе. Розали подкатила детскую коляску к парадному крыльцу дома Лесли и Джослин Бек. Пятнадцатимесячная Кэтрин, непризнанное дитя Лесли Бека, сидела в коляске, из которой уже выросла. Величественная магнолия в палисаднике стояла в цвету. Розали не сомневалась, что все обитатели дома счастливы: в 1974 году драмы и ужасы большого мира оказывали на семейную жизнь меньше влияния, чем теперь. В девяностых годах люди открывают дверь заплаканными, и если спросить, в чем дело, услышишь: «Я смотрел новости». А раньше было иначе. Наверное, в мире стало слишком много видеокамер.
Ротуэлл-Гарденс — ряд из двенадцати внушительных домов конца викторианской эпохи вдоль приятно затененной деревьями улицы, которая ответвляется от Ротуэлл-лейн и снова соединяется с ней, захватывая при этом узкую полоску земли. Стоимость домов постоянно растет — покупателям нравится обилие зелени. (Не забывайте, я пишу это в офисе агентства, торгующего недвижимостью, потому меня и занимают такие подробности.) В семидесятые годы Ротуэлл-лейн была средоточием магазинов — на ней выстроились маленькая бакалея, аптека, магазины скобяных товаров и канцелярских принадлежностей, антикварная лавка, мастерская по ремонту обуви и так далее. Теперь, конечно, все изменилось. Налоги разорили эти полезные заведения и их приветливых хозяев, появились магазины, торгующие сантехникой и нижним бельем. (Мэрион утверждает, что их не облагают налогом — иначе они давным-давно стали бы убыточными.) Теперь обитателям улиц, начинающихся с Ротуэлл — и Кресент-, приходится таскаться за всякой мелочью в Сенсбери и Кэмден-Таун, лавировать в потоке транспорта и задыхаться от выхлопных газов, обходить нищих и бродяг Кэмдена, испытывая угрызения совести.
Особняки Ротуэлл-Гарденс внушали преданность и любовь, но мало-помалу все мы переселились на новые места: Сьюзен и Винни первыми перебрались в Ричмонд, за ними последовали Розали с Уоллесом и мы с Эдом. Только Лесли Бек остался на прежнем месте, не в силах расстаться с недвижимостью — ради нее он женился и подличал, страдая вместе с ней от гроз, засоров водосточных труб, древоточцев и отчаяния. (Если рушится дом, то по какой-то необъяснимой причине терпит крах и его владелец. В «Аккорд риэлтерс» знают об этой примете, но редко упоминают вслух.) Двенадцатый дом по Ротуэлл-Гарденс теперь стоит миллион фунтов — конечно, если Лесли удастся найти покупателя. Много ли он выиграет, продав дом, — это уже другой вопрос. Насколько мне известно, дом можно заложить с учетом нынешней стоимости. В восьмидесятых, в период повышенного спроса на недвижимость, строительные компании и банки зачастую чрезмерно завышали цену домов, наводя их владельцев на мысль о том, что тот, кто ссужает деньги, поступает благоразумнее тех, кто берет ссуды, но в конце концов и те и другие раскаялись в содеянном.
Супруги Бек, самые состоятельные из нас, к тому же живущие в самом большом и удобном доме, имели полное право относиться к нам покровительственно. Само собой, нас это раздражало. Мы с Розали жили на Брамли-Террас, за утлом, — на тихой улочке, застроенной в двадцатых годах XIX века высокими, одинаковыми, как близнецы, домами. И все-таки однажды, проходя по улице, где мы жили раньше, я с радостью, а не с досадой убедилась, что эти дома остались невредимы. Теперь они стоят почти полмиллиона фунтов (если найдется покупатель) — на треть дешевле, чем особняки на Ротуэлл-Гарденс, однако это реальная цена, их содержание обходится дешевле, и жить в них проще — при условии, что вы привыкли бегать вверх-вниз по лестницам. В шестидесятых годах такие пары, как мы с Эдом — он работал младшим редактором в издательстве, а я — в редакции «Спутника покупателя», — легко могли позволить себе купить дом на Брамли-Террас, несмотря на то что я лишилась работы, потому что уделяла ей гораздо меньше внимания, чем детям.
Решив устроить экскурсию в прошлое, я взяла с собой Кэтрин, дочь Розали. Мне казалось, ей будет приятно увидеть место, где она провела первые годы жизни, улицы, на которых она играла. В семидесятые годы девочек еще отпускали играть на улицах. Кэтрин заявила, что все вокруг кажется ей незнакомым, а потом опустилась на колени.
— Ты молишься? — в тревоге спросила я, но она просто попыталась стать меньше ростом, проверить, узнает ли она улицу, если увидит ее под другим углом. И улица действительно стала узнаваемой — по крайней мере так утверждала Кэтрин.
— Ты помнишь, была ли ты счастлива? — допытывалась я. В конце концов, все мы хотим, чтобы наши дети с радостью вспоминали свое детство, и хотя многие из них постоянно жалуются, мы тут ни при чем, клянусь вам.
— Только когда я не слишком задумывалась, — ответила Кэтрин, и я принялась гадать, что еще могли сделать Розали и Уоллес, чтобы ей жилось лучше. — Я всегда чувствовала себя кукушонком в чужом гнезде, — объяснила она.
Так кто же мы такие, если не учитывать статистические данные? Согласно исследованиям совместимости тканей, каждый седьмой из нас ошибается, называя своим отцом чужого человека. Прибавьте к этому обычные разновидности темперамента, интеллекта, эстетических представлений, и вы перестанете удивляться тому, что многие из нас ощущают себя кукушатами, которым неуютно в гнезде, где они очутились.
Розали и Уоллес жили за углом, в доме номер семь по Брамли-Террас. На их стороне улицы при домах не было садиков — эти участки земли отошли к большим особнякам Ротуэлл-Гарденс в конце XIX века. На нижние ветки яблонь Брамли, прежде составлявших огромный сад, благодаря которому улица и получила название, теперь вешали качели для детей из особняков Ротуэлл-Гарденс. Детям богачей привольно живется всюду — об этом заботятся их родители. Уоллес взбирался на горы и подолгу не бывал дома. Розали растила детей и изредка реставрировала старинный фарфор. «Брамли» — сорт крупных зеленых кисловатых яблок, которые разбухают при приготовлении; из них получается отличная начинка для пирогов. Фактические сведения легко выуживать из памяти, а эмоции, под которыми я подразумеваю чувства и реакции, — гораздо труднее.
Наверное, все мы с самого начала были кукушатами в чужих гнездах — вот почему в конце концов очутились в старинном яблоневом саду, словно продолжая поиски, пытаясь разобраться в происходящем. Для всех нас Брамли-Террас была новым окружением, шагом в ту сторону, где, как нам казалось, находится наш настоящий дом. Вспомнив про Лесли Бека, можно сказать, что, обосновавшись на новом месте, мы сразу принялись производить новых кукушат — столько, сколько допускалось брачными узами и правилами приличия. В конце концов, кукушатам живется неплохо. Поначалу им неуютно в чужом гнезде, но потом они быстро и безжалостно принимаются поглощать все необходимое, пока не повзрослеют и не улетят. Они вырастают алчными и неблагодарными.
Розали родом из Шотландии, ее отец был булочником. В Англию она приехала на велосипеде, за спиной друга, с томиком Теннисона в сумке. Она бросила прежнего друга, поступила на курсы секретарей, частично избавилась от акцента уроженки Глазго, переспала с торговцем антиквариатом, изучила историю мебели, бросила антиквара, закрутила роман с продавцом книг, выучилась языку и взглядам богемной прослойки среднего класса, возле телестудии познакомилась с Уоллесом и вышла за него замуж. (Оказалось, что ее букинист женат.) Уоллес был рослым, привлекательным, неуживчивым и отчужденным. Но этот брак оказался не таким неудачным, каким мог быть. Розали восхищалась мужем, на некоторое время и ее увлекла мистика гор. Однажды она призналась мне, что способна наслаждаться сексом с кем угодно. Значит, ей крупно повезло.
По-моему, к сексу с Розали Уоллес относился как к горам, воспринимал его как то, что следует покорять энергично, но не слишком часто, взбираться на вершину, завершать подъем, под привычные аплодисменты устанавливать флаг, а потом наслаждаться длительным отдыхом. Он казался угловатым, как горные пики, его колени были костлявыми, адамово яблоко выпирало. Стоило ему понять, в чем суть затруднения, и он становился энергичным, практичным и предусмотрительным, но сам процесс разъяснения требовал чудовищных усилий. Порой молчаливые страдания кажутся наилучшим выходом, и, полагаю, вместе с ними приходит предрасположенность к секретам. Розали выглядела цветущей, ее пышные темные волосы наполовину скрывали бледное личико и росли так быстро, что казалось, ей требуется немало сил, чтобы укрощать их, и это впечатление не было обманчивым. В молодости благодаря длинной прямой спине и узким бедрам ей шли брюки, но Розали об этом так и не узнала, а если и узнала, то не стала беречь фигуру после того, как пропал Уоллес. Когда Розали открывает дверь, сразу становится ясно: она не намерена ни судить гостя, ни обижаться. Если ты ее друг, ты — неотъемлемая часть ее жизни, вот и все. Она щедра — в отличие от Уоллеса. Розали следит за тем, чтобы холодильник всегда был полон. Уоллес предпочитал видеть его пустым. Когда Розали наполняла бокалы вином до краев, Уоллес морщился.
Поскольку семейными доходами распоряжался Уоллес, Розали было нечего и мечтать угнаться за Беками, устраивая шикарные званые ужины, впрочем, к этому она и не стремилась. Супругам Бек нравилось подавать к обеду шампанское и начинать трапезу копченым лососем, за которым следовало что-нибудь вроде тушеного мяса «беф-веллингтон», скверно приготовленного Джослин, первой женой Лесли. Излюбленным десертом Лесли были бисквиты, пропитанные коньяком и облитые взбитыми сливками. Лесли производил впечатление богатого и щедрого человека, и ему нравилось, что о нем думают именно так. Мы со Сьюзен штудировали «Средиземноморскую кухню» Элизабет Дэвид, полагаясь скорее на умелую стряпню и упорную работу, нежели на изысканные ингредиенты. Розали же просто подавала тушеную говядину с клецками, а Уоллес восклицал: «Видите? Чтобы отлично питаться, незачем быть богатым». И только он один не замечал, как Джослин заталкивает ногами под кухонный стол Розали разбросанные детские игрушки, разыгрывая аристократку, случайно попавшую в низшее общество. Лесли же просто с аппетитом ел и веселился.
Джослин сервировала ужин на полированном столе красного дерева, уставленном фамильным серебром среди салфеток с надписью «Охота в Редхене». Редхен — название поместья ее дяди. Лесли неизменно обращал наше внимание на эти салфетки. Он сделал удачную партию и хотел, чтобы об этом знали все. Лесли выучился на землемера, компетентность и уверенность помогли ему занять видное положение в старой фирме, некогда называвшейся «Эджи и Роулендс», а ныне — «Эджи, Бек и Роулендс». Втиснуться между Эджи и Роулендсом и стать одним из директоров он ухитрился, вероятно, потому, что восьмидесятилетний Чес Роулендс, выпускник Итона, не видел необходимости работать, а Лесли Бек был молод, полон сил, предлагал клиентам шампанское вместо чая и имел в министерстве общественных работ друзей, которые, подобно ему, после школы поступили в Кембридж.
Отец Джослин был сельским врачом и кузеном графа; Джослин выезжала на охоту с гончими и имела представление о том, как держаться в высшем обществе и как должны вести себя другие люди. О своем прошлом Лесли рассказывал туманно — его отец был служащим в Ланкастере. Что это значило? Что он был машинистом поезда? Налоговым инспектором? Но как бы там ни было Джослин, не обладая ни красотой, ни состоянием, благодаря происхождению помогла Лесли Беку не только поселиться в доме номер двенадцать по Ротуэлл-Гарденс, но и развлекаться, чувствовать себя своим среди банкиров, биржевых маклеров, государственных чиновников — всех, кто мог оказать услугу деловому человеку. У Лесли и Джослин Бек родились две дочери, Хоуп и Серена — крепкие и коренастые, как Лесли, унаследовавшие крупный материнский нос и близко поставленные глаза. Рыжие вьющиеся и буйные волосы тоже не были отцовскими. Такое сочетание черт, доставшихся от родителей, выглядело не слишком удачно, но Розали и Нора, подруги Джослин, утверждали, что, повзрослев, девочки расцветут. Такое иногда случается.
Произведения
Критика