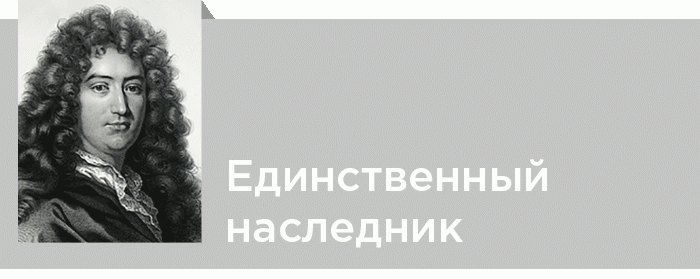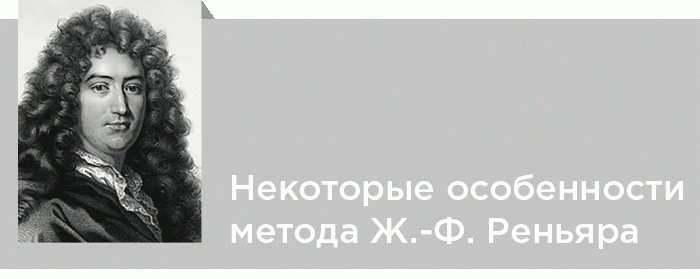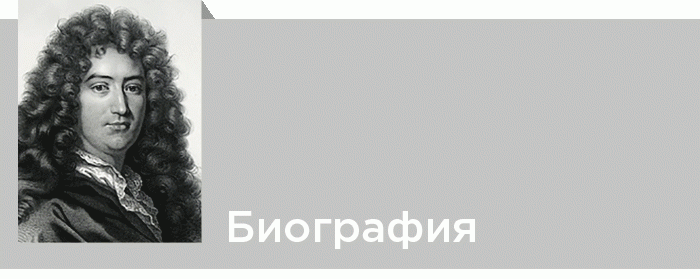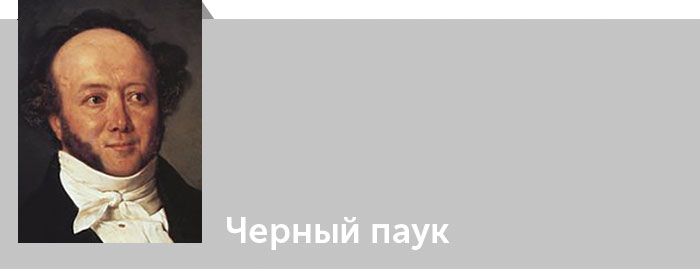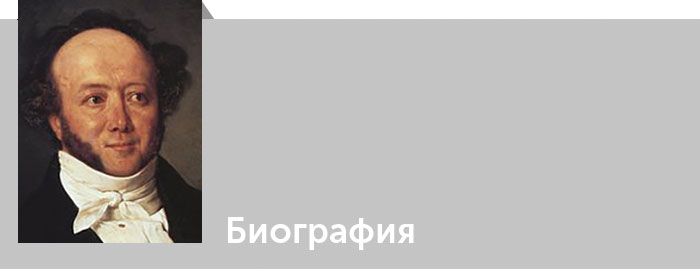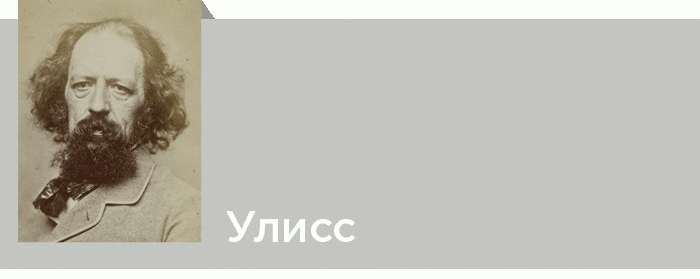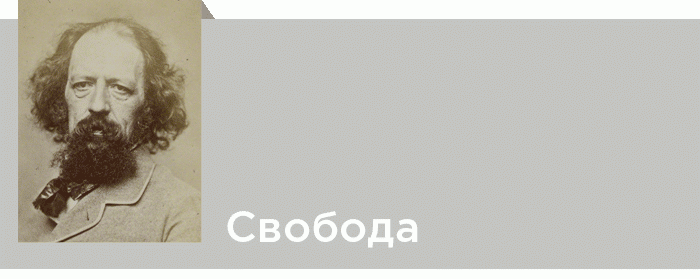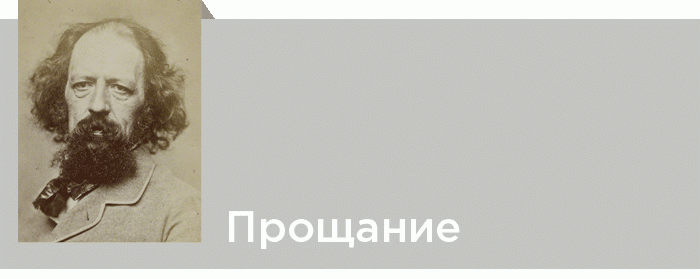История швейцарской литературы. Том 2. Глава 6. Иеремия Готхельф

Альберт Бициус, принявший имя Иеремия Готхельф (Jeremias Gotthelf, 1797 — 1854), — классик швейцарской литературы1. Его творчество занимает в XIX веке особое место и судили о нем по-разному. В каждом суждении была своя правда, но правда неполная. Это обстоятельство отметил еще Готфрид Келлер, в рецензиях на произведения Готхельфа и отзыве на его кончину. “Его называют, — писал Келлер, — то грубоватым нидерландским художником, то любящим подробности пейзажистом — все это в благосклонно ограничительном смысле. Но истина в том, что он был великим эпическим гением”2.
В послеромантическую эпоху, когда начиналось его творчество, в Готхельфе видели представителя набиравшего силу реализма. Он считался областником и консерватором, подробно изобразившим жизнь своего родного кантона Берн. Книги Готхельфа, пользовавшиеся тогда особым успехом не в Швейцарии, а в Германии, воспринимались в одном ряду с деревенскими рассказами Б. Ауэрбаха и К. Иммерманна. Он действительно писал о родном крае, главным образом об Эмментальской долине и населявших ее крестьянах и ремесленниках, сельских учителях, врачах, священниках. Но написанное им имело другую глубину и иной размах.
Как о “грандиозном, взрывавшем всякую литературность явлении” писал о Готхельфе Томас Манн3. Известная немецкая писательница Рикарда Хух полагала, что “в его произведениях веет воздухом Библии и Гомера”4. Исследователь творчества Готхельфа В. Мушг видел в его творчестве мифологическую основу, а в его героях — запечатленную в образах крестьян историю рода человеческого, подобную той, что создал Бальзак в своей “Человеческой комедии”5.
В последнее время преобладает строго исторический подход к творчеству Готхельфа, соотносимому с эпохой Реставрации и культурой бидермейера6.
У нас Готхельфом интересовался Толстой7. Но для широкого читателя он остался почти неизвестен. В советское время издавался лишь его знаменитый рассказ “Черный паук”. Русских работ о Готхельфе мало8. Между тем, это крупнейший писатель, без которого невозможно представить себе не только швейцарскую, но и мировую литературу.
***
Альберт Бициус родился 4 октября 1797 г. в городишке Муртен, где его отец был протестантским священником. Там он посещал начальную школу, потом гимназию в соседнем Берне. Прочел, как вспоминал потом, все популярные тогда романы, летом занимался сельскохозяйственными работами. С 1814 г. в бернской технологической Академии он изучал древние языки, а также математику, философию, теологию. В 1820 г. он стал викарием в приходе отца, помогал ему вести уроки в сельской школе. Несколько лет Готхельф провел в Германии, в традиционном для бернских молодых людей Геттингенском университете, где в это же время слушал лекции и Г. Гейне. Увлекался Шиллером и романтиками (преимущественно Шлейермахером). Но особенно важным для него оказался Гердер и его идеи о связях искусства с народными, национальными истоками.
Вернувшись через несколько лет к прежним занятиям, он вел, как это и обычно для сельских священников в Швейцарии, свое небольшое приусадебное хозяйство, продолжал работать и в школе. Идеи Песталоцци были смолоду усвоены Готхельфом9. В 1832 году он стал пастором в местечке Люцельфлю, расположенном в Эмментальской долине. Там он женился на внучке своего предшественника, которую, как считают биографы, никогда не любил. Довольно поздно, около сорока лет от роду, он начал писать и публиковать свои художественные произведения, которые полились неудержимым потоком. В 1854 году он умер.
Жизнь эта, небогатая событиями, была глубоко драматичной. Он был священником, как и многие другие швейцарские и немецкие писатели, как Иоганн Гебель, как Эдуард Мерике, был сыном священника и внуком священника. Священниками же или женами священников стали все его дети. Но смирения в нем не было. Писатели-священники в Швейцарии и Германии обычно отходили от общественной деятельности (таким был тихий викарий Мерике). Готхельф же бросился в это море. Особенно в молодые годы он хотел преобразовать и церковь. В “Новом Бернском календаре” за 1845 год он писал, что хотел бы поместить здесь проповеди, отражающие высокую правду, но “освобожденную от всего церковного, выраженную на языке жизни, который не терпят с кафедры”10. Отношения с церковным начальством были напряженными. Его порицали и переводили из прихода в приход (одним из таких переводов было и переселение Готхельфа в Лицельфлю из Берна, где он со своей службой “не справился”). И с прихожанами он не был близок: Готхельф навсегда остался для них почитаемым, однако далеким и малопонятным. Не пользовались успехом и его проповеди. Некоторое сближение наступило только тогда, когда с годами он открыл для себя в крестьянском существовании всю полноту жизни.
Он был неутомимым борцом и не знал удержу в любой полемике. С железным упрямством он защищал свои идеи и сокрушал противников. Но убеждения его менялись.
На его детство упала тень Великой Французской революции. Через год после его рождения войска Наполеона вошли в его родной городок Муртен — факт, отраженный им через несколько десятилетий в рассказе “Странная служанка Эльзи” (“Elsi, die seltsame Magn, 1843). Время отвечало бурной натуре Бициуса. Гражданская война за независимость в Америке, антинаполеоновские войны, реставрация монархии во Франции и июльская революция 1830 г. — все это горячо воспринималось на родине Готхельфа. В самой Швейцарии давно назрела необходимость коренных преобразований. 30-40-е годы стали временем обострения всех противоречий и борьбы за политическое, административное, экономическое переустройство страны11.
Готхельф принимал в этой борьбе самое горячее участие. Он приветствовал июльскую революцию 1830 г. во Франции. Швейцарский аналог меттерниховской реакции он видел в бернской аристократии, которую порицал. “Так больше продолжаться не может, — писал он в это время, — богатые приводят бедных ко все большему обнищанию”12. В нищете Готхельф видел не только социальное бедствие, но и социальную опасность: нищета калечила души людей, рождала озлобление, напряжение в обществе, грозившие катастрофой. Готхельф не только негодовал — он действовал. В 1835 г. он основал приют для воспитания детей бедняков — предмет его постоянных забот, описанный затем в его первой книге — “Нужда бедняков” (“Die Armennot”, 1840), выдающемся образце христианской публицистики этого времени. Рост нищеты Готхельф прозорливо считает приметой общеевропейского экономического развития. “Никогда еще, — пишет он, — не было так много бедных по отношению к богатым, никогда их позиция по отношению к богатым не была такой угрожающей”. Рост промышленности и сопровождающая ее пауперизация делают главной задачей церкви, говорится в книге, создание приютов для детей бедняков. Во весь рост встает в книге фигура Песталоцци, посвятившего себя детям13.
Радикальные политические взгляды Готхельфа отразились и в его первых романах. В “Крестьянском зерцале или истории жизни Иеремии Готхельфа” (“Der Bauernspiegel oder Lebensgeschichte des Jeremias Gotthelf”, 1837) рассказывается о судьбе мальчика из бедной крестьянской семьи, отданного, по распространенному тогда в Швейцарии обычаю, за мзду от общины на воспитание к зажиточному крестьянину. Суровое обращение оставляет отпечаток на всей его дальнейшей судьбе. Напротив, любое доброжелательство оказывает благодатное воздействие. Роман бичует безответственность принявшей подростка крестьянской семьи, безответственность власти. В солдатах ему живется немногим хуже. По возвращении герой произносит горькие речи за выпивкой в кабаке.
Мир увиден с точки зрения обиженных. Счастливый конец (герой получает небольшое наследство) — не гармонизация картины, а воздаяние автора хорошему человеку за перенесенные им страдания.
Второй свой роман — “Страдания и радости одного учителя” (“Leiden und Freuden eines Schulmeisters”, 1838-1839) Готхельф посвятил жалкому положению сельской школы в Швейцарии. Учителю не помогают не только власти — ему не сочувствуют и крестьяне. В книге отражен собственный опыт автора, пережившего те же смешные и жалкие положения, в которые попадает герой. Оба произведения написаны от первого лица. Имя героя первого романа стало псевдонимом автора.
Первые книги Готхельфа сильны резко критическим отражением жизни. Это социально-критические романы. Они разрушают идеализированный образ Швейцарии, созданный многими писателями предшествовавшего десятилетия.
Вскоре, однако, его взгляды изменились. Его политические статьи и дальше гремели страстными инвективами в адрес судейских чиновников и правительства, членов которого он называл ворами и негодяями. Но поворот совершился. Суть его состояла в том, что придерживавшийся раньше либеральных взглядов Готхельф перестал верить в благо социального прогресса.
В 40-е годы в швейцарском либерализме выделилось радикальное направление, оттолкнувшее многих прежних участников оппозиционного движения, перешедших теперь, как и Готхельф, на консервативные позиции. Радикализм принес с собой не только ряд смелых требований, касавшихся обновления страны. Он утвердил материалистическое мировоззрение, позитивизм в науке, свободомыслие вместо церковности. Характерным для радикалов жестом было приглашение в Цюрихский университет на пороге 40-х годов Давида Штрауса, автора известной книги “Жизнь Христа”, видевшего в своем герое лишь человека, а позднее требование закрытия монастырей в кантоне Ааргау. В свою очередь духовенство (особенно католическое) крайне враждебно относилось к демократическому движению. В католическом Люцерне консерваторы пригласили на должность преподавателей и проповедников членов реакционного иезуитского ордена, что вызвало поход возмущенного народного ополчения на Люцерн и кровопролитие. Главным, однако, был теперь не конфликт между католической и протестантской церковью, как во времена Реформации, а борьба между сторонниками демократического обновления и консерваторами. Демократ Келлер клеймил приглашение иезуитов. Готхельф видел в иезуитах меньшее зло, чем антирелигиозный материализм (статья “Иезуиты и их миссия в кантоне Люцерн”, “Die Jesuiten und ihre Mission im Kanton Luthern”, 1843).
В 1848 г. в Швейцарии после долгой борьбы была принята новая конституция. Готхельф, в отличие от Готфрида Келлера, не слишком ценил ее завоевания. Его несогласие в 40-50-е годы — пору его зрелого творчества — вызывали не только крайности радикалов. В переломный момент истории, когда укрепившиеся демократия и централизация открыли в Швейцарии просторы развитию капиталистических отношений, его мучили сомнения гораздо более глубокие — в нравственной устойчивости человека в новых социальных условиях. “Государство, которое желает быть всем, — писал он, — в итоге хочет все, а не дает ничего; приносит голод, но его не утоляет, порождает потребности, а, породив их, издевается над ними, вместо того, чтобы их удовлетворить, воспитывает людей так, что они научаются желать наибольшего, а не имеют хлеба насущного. Государство представляет собой перелившееся в личности, концентрированное себялюбие, во всех своих детях оно воспитывает именно его, и эти себялюбивые дети скоро поднимутся против породившей их безнадежности и пожрут друг друга”14.
***
С начала 40-х годов Готхельф выпускает в свет одно за другим свои лучшие, непохожие на прежние произведения — романы “Ули-батрак”, “Деньги и Дух”, “Анна Беби Йовигер”, “Бабушка Кети”, посвященные крестьянской жизни. Писательство дало выход не только его все более созревавшему художественному дару, но и его страстям, его общественному темпераменту, урезанному положением священника. “Если бы я мог скакать верхом каждые два дня, — писал он 10 декабря 1838 г. своему родственнику Карлу Битциусу, — я бы никогда не стал писать... Эта жизнь должна была или уничтожить меня или найти себе какой-нибудь выход. Она нашла его в сочинительстве”.
“Eintönig” — “однотонное” — сказал о его творчестве Келлер в последней своей большой статье о писателе15. Слово это не имело у Келлера отрицательного смысла. Творчество Готхельфа, действительно, было если не однотонным (как раз тон у него меняется), то однообразным — хотя бы по предмету изображения. Но при этом однообразии он умел создавать все новые варианты повторявшихся ситуаций и принадлежащих к одной и той же среде характеров. Произведения Готхельфа казались непритязательно простыми — Г. Келлер считал их даже местами сырыми, недостаточно проработанными. Но это произведения большого мастера. Его мастерство имело совершенно особый характер.
Роман “Ули-батрак” (“Uli der Knecht, 1841) появился на следующий год после книги “Нужда бедняков” и должен был стать некоторым ей противовесом — показать возможность другой, светлой жизни. Первоначально автор предполагал написать нечто вроде памфлета-проповеди, какие во множестве писал, например, против пьянства. Но замысел рос под его пером, превратившись в итоге в цельное, гармоничное, оторвавшееся от первоначальных задач произведение.
О чем рассказано в романе “Ули-батрак”, за которым через несколько лет последовал второй том “Ули-арендатор” (“Uli der Pächter”, 1849)? Как будто ни о чем, или, иначе сказать, о каждодневной жизни. Ули-батрак изо дня в день трудится у богатого крестьянина, дом которого — полная чаша.
Событий происходит немного. В деревенском кабачке Ули связывается с компанией, которая выманивает у него деньги. В другой раз он встречается с богатой девушкой, которая не прочь взять его в мужья, чуть не поддается соблазну, но все же остается на своем трудном пути. Как-то ночью он сидит вместе с хозяином во дворе под открытым небом, ожидая, пока отелится корова, и этот час полон глубокого смысла. Хозяин изо дня в день ненавязчиво учит Ули обычным вещам, которым как будто и учить-то не надо, такие они простые. Он объясняет, что если не вкладывать в работу душу, то выйдет одна тоска. Он говорит, что именно в работе видна цена человека. Потом — это кажется даже чрезмерным — он советует Ули не ходить по воскресеньям на танцы и, может быть, даже работать. (У малого нет ничего, кроме ярма работы, — возмущается по этому поводу Г. Келлер. — И что же подсовывает ему автор в качестве выхода? Опять работу!16)
Как свойственно беднякам во все времена, батрак Ули считает и пересчитывает деньги, учитывая мельчайшие расходы. Готхельф описывает все это с хорошим знанием дела. Ему досконально известно, сколько у работников бывает денег в кармане, сколько обычно тратят в воскресенье на танцах, сколько стоит новая рубашка или пара башмаков. Выхода не видно, своего хозяйства не заведешь, и Ули грубит, работает из рук вон плохо, он того и гляди скатится к бунту.
Может показаться, что тут обозначен социальный конфликт романа. Но суть произведения не в борьбе за справедливость. Ничего подобного у Готхельфа не происходит, задачи у него другие. Бедность, когда счет ведется каждой копейке, важная тема и в этой книге. Но суть произошедшего в творчестве Готхельфа изменения состоит в том, что он считает положение Ули нормальным.
Именно с романа о батраке Ули в творчестве Готхельфа начинается, полагают современные исследователи, отражение характерных черт наступившей в Европе после поражения Наполеона Реставрации. Эта эпоха породила свою идеологию и соответствовавшую ей эстетику, получившую, сначала в искусствознании, а потом в литературоведении название бидермейера. Движению и развитию (а в политике — революции и прогрессу) противопоставлялись покой и статика, рационализму и просвещению — умиротворявшая религиозность. Снова возможной казалась гармония, позволившая забыть о недавнем хаосе. Превозносилась семья, в которой видели естественную опору государства, как и дом — убежище от бурь и страстей. Усердный труд представлялся единственно достойным человека занятием. По всей Европе рос интерес к крестьянской теме в литературе. Часто (как в первых романах Готхельфа) крестьянская тема давала материал для социальной критики17. Но нельзя не согласиться с Фр. Зенгле, что критика, как в случае зрелого Готхельфа, могла иметь и совершенно иной характер: быть в своей сути критикой консервативной. Зенгле видит в Готхельфе не только представителя бидермейера как художественной эпохи, но и идеолога патриархальности и Реставрации (на религиозной основе)18.
Счастливые разрешения двух первых его романов были искусственными и не вытекали из материала. В романах о батраке, а потом арендаторе Ули автор счел возможным “просветлить” материал, не теряя при этом почвы под ногами. Отказавшись от разлагавшего, по его убеждению, социального утопизма, Готхельф создал свою утопию — крестьянскую патриархальную идиллию, противостоявшую сметавшему все социальные устои общественному брожению. Вместо рассказа от первого лица появился вдумчивый, понимающий своих героев рассказчик, вместо социальной критики — гомеровская объективность.
Романы об Ули, как и большинство романов Готхельфа, были в своем роде романами “воспитательными”. Речь в них, в сущности, шла о том, как и какими способами человек может совершенствоваться, стать выше и лучше, сохранить себя, осуществить свое предназначение на земле, как может осуществиться гармоничное человеческое общежитие. Путь к этому возможен для Готхельфа только на религиозной основе — в каждой деревне, в каждом доме, в каждом человеке.
Если для Готхельфа были важны идеи просветителей, то именно в их расчете на возможности воспитания, в педагогическом оптимизме. Великие образцы “воспитательного романа” появились ко времени Готхельфа в литературе Германии. В 1796 г. Гете опубликовал “Годы учения Вильгельма Мейстера”, в 1829 — “Годы странствий”. Вышли в свет “воспитательные романы” романтиков и среди них — “Генрих фон Офтердинген” Новалиса (1802). Немецкая литература с ее высочайшей духовностью поддерживала и укрепляла швейцарских писателей. Но подходить к творчеству Готхельфа с выработанными ею духовными и эстетическими критериями, — пишет К. Фер, подводя итоги исследованиям готхельфского творчества за многие годы, — было бы непродуктивно. Если юношеское увлечение романтизмом оставило следы в его произведениях, то Гете по сути чужд Готхельфу. Ему чужда была совершенная законченность его произведений, их самодостаточность. Он не стремился к совершенству формы, но разрушал ее на каждом шагу19.
По-иному понималось Готхельфом и духовное развитие человека. Он не доверял идее безграничного роста личности, к которому звали романтики. Его герой постоянно натыкается на вполне прозаические препятствия. Их преодоление и влечет за собой духовный рост, незаметный для самого человека.
Совершенно иными были отношения его героев с пространством. Непременным условием в европейских “романах воспитания” было неутомимое перемещение героев — странствие. Конечные цели пути оставались неопределенными. У Новалиса путь приобретал символическое значение, отождествляясь со стремлением души вдаль и выше.
Ничего подобного нет в “воспитательных романах” Готхельфа. Напротив, для них характерна намеренная статичность, прикрепленность действия к одному и тому же месту. Этот важнейший принцип его романов опирается на швейцарскую литературную традицию: перед их автором был роман Генриха Песталоцци “Лингард и Гертруда” (1787), открывший ряд швейцарских “воспитательных романов”. Героям Песталоцци, как и героям Готхельфа, некуда и незачем далеко ходить. Горизонт по сравнению с “Вильгельмом Мейстером” узок. Жена в романе Песталоцци “Лингард и Гертруда” возвращает на праведный путь мужа. И лишь в следующих частях эти уроки распространяются все дальше и шире, сказываясь сначала в жизни деревни, а в конечном итоге — государства. У Готхельфа в романах об Ули действие вообще не выходит за пределы обычной деревенской жизни. Главные персонажи — не отстраненные от общей жизни художники, как это бывало в немецких “романах воспитания” — это крестьяне, и перед ними простые и ясные задачи, поставленные самим их существованием.
Готхельф, разумеется, не был защитником эксплуатации. Но он защищал нравственное и общественное значение способности человека честно и с полной отдачей трудиться. Защищал он и строго иерархическое устройство любого хозяйственного организма — подчинение работников мастеру. Подобная строгость была свойственна не только кальвинистской этике. Священник Готхельф полагал, что труд воспитывает человека. В упорядоченном крестьянском хозяйстве он видел источник радости и удовлетворения.
Начиная издавна, с XV в., со знаменитого “Кольца” (1420) Генриха Виттенвейлера, в швейцарской литературе не иссякало почтение к крестьянскому труду, обиходу, “материи” крестьянской жизни. В подобной “материалистичности”, в любви к земному, не меньшей у него, чем любовь к небесному, церковные власти недаром обвиняли Готхельфа. Он любил жизнь, хотя и чувствовал ее глубокую драматичность. Связанному с Просвещением Готхельфу чужды, однако, просветительский материализм и рационализм, изгонявшие живую душу из природы. Природа, да и вся жизнь для Готхельфа — отпечаток высших соразмерности и порядка, постоянно людьми нарушаемых. В “видимом” он видел еще и “невидимое”, чудом считал само становление человека. “Все живее проявляется во всех исследованиях сознание того, — писал он 28 октября 1840 г. И. Буркхальтеру, — что через все видимое проходит тайное невидимое, завязывает удивительный союз между людьми, соотносит их необъяснимым образом не только с природой, но и с высшим миром, так что сквозь формы материи и проявления всех сил совершаются взаимные влияния и воздействия, которые нельзя воспринять чувственно, которые не может разъять ни анатомический нож, ни химический тигель».
Не слабой, а сильной стороной Готхельфа были светлые, идиллические страницы его произведений. Твердой рукой, не боясь обвинений в нарочитости, он выбирал из возможного разнообразия красок одни только светлые, чистые тона. Чего стоят его бьющие в одну точку определения в таком, например, описании женской красоты: “... Мейели с голубыми глазами и золотыми косами, с приветливым взглядом голубых глаз и светлым отсветом золотых волос”. В так описанной красоте будто светится само добро. Готхельф любил и умел рассказывать о судьбах, которые складываются “как надо”, когда человек не нарушает высший порядок и все удается людям.
В появившемся на свет между первым и вторым томом “Ули” тоже двухтомном его романе “Как Анна Беби Йовегер ведет хозяйство и как она обходится с докторами” (1843/84) с удивительной убедительностью описано, как неожиданно гармонично, несмотря на явные препятствия (бедность невесты, вошедшей в богатый крестьянский дом, тупость энергичной и властной свекрови), женщины сумели поладить друг с другом, и жизнь какое-то время течет счастливо, не нарушаемая прихотью ее участников.
О чем тут говорится — о малом или большом? — О чем говорится в романах об Ули, где бесхитростный сюжет кружит по ближним дорогам? — От замечательного хозяина Иоганнеса Ули переходит к другому — своенравному самодуру, и не этот хозяин, а Ули руководит делом. Роман написан с явным педагогическим намерением: как в романе “Лингард и Гертруда” Песталоцци, за одним примером — опытный учитель и неумелый ученик — следует обратный, и батрак учит беспомощного хозяина.
Но непосредственное удовольствие от чтения романа Готхельфа не столько в этих уроках, а еще и в том, как хорошо все удается герою, как налаживаются работы, тучнеет скот, как бедняк Ули завоевывает авторитет и уважение округи. Впечатление примерно то же, какое наделенный непосредственностью читатель получает от чтения “Робинзона Крузо”: помимо широкого исторического смысла, роман Дефо вот уже несколько веков увлекает взрослых и маленьких тем, как постепенно, тяжелым трудом Робинзон устраивает свое существование, как мастерит он себе лачугу, из какого-то несчастного семечка выращивает целое поле пшеницы, выдалбливает пирогу и тому подобное. “Первейшую привлекательность всех робинзонад”, а именно постепенное построение “земного мира”, находил у Готхельфа и Г. Келлер20. Совершенно очевидно, что Готхельф ждал от читателей подобного интереса и что такой интерес был для него крайне важен.
Соглашаясь с мыслями Песталоцци, писатель полагал, что человек состоится в том случае, если задатки его души будут выведены “наружу”, если дух человеческий, сохранив свою чистоту, материализуется во внешней жизни. Он был истинным последователем старого цюрихского реформатора Ульриха Цвингли, разделившего в своей проповеди “О божественной и человеческой справедливости” (1523) эти два ее рода, чтобы, воздав должное первой, высшей, по достоинству оценить и значение дел человеческих. Для Готхельфа, как и сказано у него однажды, одинаково важно, пишет ли человек книгу или же строит забор: во всякое дело должны быть вложены старательность, любовь и “дух”.
Один из лучших поздних рассказов Готхельфа — “Вязальщик метел из Рихисвила” (“Der Besenbinder von Rychiswyl”), опубликованный в 1852 г. ЭТО рассказ о маленьком человеке. Своей чистотой и нравственным достоинством герой напоминает бедного музыканта из одноименной новеллы классика австрийской литературы Фр. Грильпарцера (1848). В обоих произведениях говорится о ясности бедной души, о небогатой внешними впечатлениями жизни, о натуре, которая, о том не заботясь, сама себя воспитала. Рассказ Готхельфа написан о человеке на своем месте, о человеке, довольном бедной своей судьбой и не желающем ничего больше. Главное событие рассказа — торговец метлами Гансик получил наследство и разбогател. Из этого, однако, он единственный во всей округе не сделал никаких выводов, и жизнь его в целом не переменилась. Почти весь рассказ занят описанием того, как умело вязал Гансик свои веники и метлы, как развозил он их на тележке по близлежащим селам, как привыкли там к Гансику и он стал незаменим. В конце рассказа герой покупает крестьянский двор и становится крестьянином. Это не меняет, однако, его души. “Счастливыми хотели бы быть все люди. Большинство полагает, что став богатыми, они стали бы и счастливыми, что деньги и счастье относятся друг к другу, как ботва и клубень картошки, как растение и его корень. Как же грубо они ошибаются, как мало разбираются в натуре человека, хотя она у них ежедневно перед глазами!” — С этого начинается рассказ о вязальщике метел, а потом крестьянине Гансике, который был счастливым человеком21.
Именно в крестьянстве Готхельф видел ту социальную среду, которая больше всего была приспособлена “переводить внутреннее во внешнее”, и, вкладывая всю душу в свой труд, создавать нужные всем материальные ценности — прежде всего хлеб насущный. Именно патриархальное крестьянство изображалось в его романах как нравственная опора общества.
Какие громы и молнии мечет этот писатель в болтунов и бездельников, как ополчается он против пьянства, получившего опасное распространение в швейцарской деревне (этой теме он посвящал не только свои пасторские проповеди и публицистические выступления, но и художественные произведения). Не случайно он принял имя пророка Иеремии и, как этот пророк, бесстрашно крушил и обличал власть имущих и пошедший по ложному пути народ.
Но объекты критики этим для Готхельфа не исчерпываются. В том же ряду для него болтовня и бессилие либерализма, расслабляющее и развращающее, по его мнению, влияние демократии, вред коммунистических идей. В его двухтомном романе “Странствия ремесленника Якоба по Швейцарии” (“Jakobs, des Handwerksgesellen Wanderungen durch die Schweiz”, 1846-1849) герой попадает в Цюрихе к ремесленнику — социалисту, который, однако, не хочет есть за одним столом со своим учеником. В Женеве он становится участником беспорядков и в конце концов возвращается домой с грузом тяжелых воспоминаний. Это было время быстрого распространения в Швейцарии социалистических и коммунистических идей, время популярности Вейтлинга. “Странствия ремесленника Якоба по Швейцарии” — произведение антисоциалистическое и антикоммунистическое.
В 1850 году вышел роман Готхельфа “Производство сыра в Фефройде” (“Die Käserei in der Vehfreude”). Писался он в 1849 г. — непосредственно после конца долголетней борьбы между консерваторами и радикалами, приведшей к победе последних и принятию новой конституции. Эта борьба и эта победа и подвергались в романе Готхельфа едкому осмеянию. И тут Готхельф видел больше, чем только родную страну: в его романе показано взаимодействие “современного духа” с некоторыми свойствами человеческой натуры, с добром и злом в душе человека. Учреждение товарищества для сыроварения в деревне Фефройде ставится им в явную и очень смешную параллель к государственной демократии. Крестьяне из Фефройде напоминают недалеких шильдбюргеров из старой народной немецкой книги: они темны, не могут подняться над своими эгоистическими интересами, радуются неудачам ближнего и так далее. Все это препятствует делу сыроварения — ведет к бесконечным спорам внутри товарищества, столкновению враждующих “партий”, разного рода глупостями и бестолковщине. Скрытая от глаз власть в деревне принадлежит женщинам. Именно среди женщин, полагал Готхельф, всегда найдутся такие, что легко поддаются влиянию вредных идей, страдают неумеренностью желаний, отвергают старое, хотят всего нового. Эта тема нашла развитие еще в написанной десятилетием раньше новелле “Черный паук”. К подобным женщинам автор добавляет эпитет “чужие” и в другом месте “чужие дикие женщины”. Подобные лица у Готхельфа — носители нового чуждого духа, развращающего устои. Они противоположны его любимым героиням — женщинам-хранительницам очага, обладательницам глубокой, инстинктивной, извечной мудрости. Швейцарская деревня уходит у него корнями в доисторическую давность.
Нет доказательств, что Готхельфу были знакомы труды его современника, базельского профессора И. Я. Бахофена. В посвященной матриархату книге “Материнское право” (1861) тот обнаруживал в развитии человечества сохранившиеся следы древнейшей эпохи человеческого общежития. Ясно, однако, что оба видели в современности следы (пусть в остатках и пережитках) разных эпох, что и Готхельфу виделся образ Великой матери. Рядом с Бахофеном отчетливее значение Готхельфа, постигавшего творческой интуицией то, что другой реконструировал по данным археологии.
Но и свойства “новых женщин” не только наносные. Их источник в естестве человека. Вслед за Бюхнером, изобразившем в драме “Смерть Дантона” (1835) французскую революцию, Готхельф вывел в романе “Сыроварение в Фефройде” в качестве главного действующего лица народную массу. В массе, в людском множестве есть люди плохие и хорошие, умные и глупые, богатые и бедные — интересы всех перекрещиваются, все смешано, как в котле, где варится сыр. Опасным бродилом служат попавшие в это месиво искушения и идеи.
Если герои Готхельфа сбиваются с пути, это значит, что они дали увлечь себя либо алкоголю, либо растлевающему влиянию “духа времени”. В его замечательном романе “Бабушка Кети” “Kätti die Großmutter oder Der wahre Weg durch jede Not”, 1847) первому искушению поддается сын старой крестьянки, которая в результате, едва волоча ноги, кормит его и маленького внука. А второму — крестьянин Христен, отказавшийся простить Кети два талера за аренду клочка земли, потому что нужно “воспитывать народ”. Как замечает, жена Христена Лизи, “чем свободомысленнее он становился, тем меньше работал, чем больше любил отечество, тем меньше бывал дома, становился тем высокомернее, чем меньше на что-то годился, был тем более жестоким, чем чаще величал себя либералом, тем меньше в нем оставалось милосердия к бедным, чем настойчивее он объявлял себя борцом за права народа и за свободу, чем больше ругал господ, тем больше чувствовал себя господином...” В этом длинном ряду сцеплений легко увидеть подозрительность консерватора. Но нельзя отказать писателю и в прозорливости. Сама жизнь, особенно на столетие позже, доказала частую повторяемость подобных сцеплений. Правда, произрастали они, как показал исторический опыт, не только из “пустопорожнего либерализма”, любви к демократии и социальной справедливости, но чаще на почве национализма и почвенничества, реализуясь в простейшем способе самоутверждения — защите собственных “преимуществ” как представителей данного народа и этой нации.
Целый ряд произведений, создававшихся Готхельфом со второй половины 40-х годов, можно с полным правом назвать романами политическими. Если в “Сыроварении в Фефройде” полемика автора с новыми веяниями нашла блестящее художественное воплощение в сатире, обращенной не только против либерализма и зарождавшегося капиталистического предпринимательства, но и против скудоумия деревенской жизни, если сила “Бабушки Кети” в замечательном образе главной героини, то в романе “Дух времени и бернский дух” (“Zeitgeist und Berner Geist”, 1852) противопоставлены два главных героя, один из которых, крестьянин Гунгганс поддается влиянию новых идей и губит себя и свое хозяйство, второй же, крестьянин Анкенбенц, сохраняет верность старому и поэтому процветает. Только беды, наказания рукой Божьей, возвращают, наконец, первого на путь истинный и мирит обоих.
Под тонким покровом вымысла в книге “Дух времени и бернский дух” просвечивали недавние события швейцарской политической жизни (борьба вокруг приглашения в Цюрихский университет Давида Штрауса, а в Бернский Ойгона Целлера, приведшая к победе в Цюрихе консерваторов, а в Берне не поколебавшая правления радикалов). Книга настолько противоречила утверждавшимся демократическим идеалам и вере в прогресс, что ее, как пишет Ф. Зенгле, “отклонили как друзья, так и враги автора”22. Даже Г. Келлер в рецензии на роман (1852) дает ясно понять, на чьей стороне была общественность: “Когда закрываешь книгу, кажется, что видишь перед собой капуцинского проповедника, оттирающего после проповеди пот со лба и усаживающегося за бутылку со словами: “Ну вот, я и объяснил им все еще раз. Колбасы, госпожа хозяйка!”23.
Готхельф должен был чувствовать себя достаточно одиноким. Он защищал исчезавшую жизнь. Теперь эту книгу во всех ее деталях трудно понять без специальных комментариев. Но как и в других политических романах Готхельфа, речь тут шла по существу не только о тогдашней Швейцарии — речь шла о развивавшихся социальных отношениях, о радикализации и секуляризации всей жизни, об опасности легкого превращения оставшихся без корней людей в управляемую толпу. “Областник” Готхельф видел общемировой размах совершавшихся в его стране процессов. Он ясно видел опасность утопизма и неудержимой веры в прогресс, под знаком которых прошел XIX в. В этом отношении его творчество сопоставимо с размышлениями Достоевского.
Последний роман Готхельфа “История крестьянина-должника” (“Erleibnisse eines Schuldenbauers”, 1852) мрачен. Крестьянин Ганс Иогги и его жена лишены той душевной силы и мудрости, которые постепенно росли в Ули. Эта пара легко становится жертвой ростовщиков и судейских чиновников. С бидермейеровской мечтой о добром, трудолюбивом и поэтому благословенном крестьянине было покончено. Идиллия, рисовавшаяся Готхельфом вопреки ходу жизни, стала невозможна и в художественном творчестве. Благополучный конец романа наступает лишь по воле автора: грубый, но добропорядочный бернский крестьянин находит приют в качестве управляющего у доброго, но грубого бернского помещика.
Правда, надо сказать, что и демократ Готфрид Келлер позже не менее критически оценил перемены, совершившиеся в его соотечественниках после 1848 г. (авторское предисловие ко второй части сборника новелл “Люди из Зельдвилы”, 1874, роман “Мартин Залендер”, 1886).
Но понимание Готхельфом жизни шире и глубже его политических взглядов и общественных убеждений24.
***
“Темная ночь лежала над землей; еще темней было в том месте, откуда какой-то голос несколько раз приглушенно позвал: «Иоганнес!» Это была маленькая комната в большом крестьянском доме, почти целиком занятая большой кроватью...” Так начинается роман “Ули-батрак”. Крестьянский дом и вселенная, земля, над которой спустилась ночь, с самого начала поставлены в неразрывную связь. Еще более подчеркнута она в зачине романа “Бабушка Кети”. На первой странице там говорится чуть ли не о сотворении мира или во всяком случае о рождении Альп:
“Если бы кто-нибудь присутствовал при том, как земля рождала горы, когда из ее чрева появлялись огромные чада, и появившись нагими из пылающих недр, застывали в холодном воздухе, лежавшем над землей; ежели бы кто-нибудь присутствовал при том, как прилетали бывшие наготове ветры, как холодные чада оттаивали на горячем солнце, ледяные их одеяния становились водой, и воды текли с гор, прорывая лощины, прорезая ущелья, сотворяя долины, так что вся Швейцария стала огромным водопадом...” — Это грандиозное великолепие — важная часть мира у занятого крестьянскими делами Готхельфа.
От этого величия, от времен, отдаленных десятками миллионов лет, на следующей странице совершается прыжок к самому ближнему. У пологого холма в долине реки Эмме стоит маленький крестьянский домик. Он беден и стар, окна почти слепые, но на ухоженном огороде не видно ни одного сорняка. Тут живет неутомимая Кети, не уходившая отсюда за все свои долгие годы дальше соседних сел.
“Келлер воплотил столетие, Иеремия Готхельф — тысячелетие”, — заметил, сравнивая творчество двух швейцарских классиков, Вальтер Мушг25. Это действительно так. Упоминая, будто в современной документальной прозе, имена и факты текущей политической жизни (имя Наполеона всплывает вдруг в романе о бабушке Кети в мимолетном сравнении), Готхельф фиксирует современный момент в вечном течении времени. Действие его романов каким-то краем своим непременно задевает тысячелетнюю давность. В описанных им обычаях деревенской жизни чувствуется, как позже у К. Гамсуна в “Соках земли” (1917), дохристианское, языческое прошлое. Кроме этого важно и то, что на любом материале он размышляет о вечных вопросах и вечных, неисчезающих качествах человеческой природы.
Почему так значителен ночной разговор Ули с мастером Иоганнесом, незаметно определивший всю его дальнейшую судьбу? Не оттого же только, что в этот час решается вопрос, уходить или нет Ули на новое место. — Иоганнес напоминает молодому парню о некоторых общих истинах, например, о том, что человеку даны при рождении сила и время, и дело, в сущности, в том, как с толком их соединить. Судьба каждого соотносится с течением общей жизни. Разговор происходит на лавке у дома, под звездами, а в хлеве вот-вот случится то, чего напряженно ждут оба беседующих — рождение теленка.
Поступки человека сопряжены с событиями в природе. Работы, которые ежедневно совершает, подобно тысячам других крестьян, Ули, так же связаны одна с другой и одна из другой вытекают, как вытекают один из другого дни, складывающиеся в недели и месяцы. И налаженное крестьянское хозяйство живет как организм, где все составляет единое целое.
События в романах Готхельфа настолько естественны — рождение, смерть, работа, любовь, свадьба — что воспринимаются и как проявление вечных законов жизни. В мире Готхельфа важны не случайности, а закономерности, воплощенные, однако, с бесконечным разнообразием.
Точно так же и его герои. Конечно, не был бы так обаятелен его мастер Иоганнес, если бы автор не наделил его удивительной живостью. Но поступки и мысли Иоганнеса носят самый общий характер. Вот он поручает Ули продать на ярмарке корову, а если ему удастся выручить больше, чем оговорено, взять эти деньги себе. Совершается педагогический акт, акт доверия, а кроме того обращение к материальной заинтересованности. Ули старается изо всех сил и продает корову дороже. Тронутый доверием мастера, он отдает всю выручку хозяйке, которая и не думает возражать. Ули обижен до глубины души. Ему жаль денег, о которых он мог бы и не говорить, а кроме того, подорвана его расположенность к людям. Какое же облегчение испытывает читатель, когда Иоганнес приносит Ули принадлежащую ему по справедливости часть. Общее и простое описано как вечная мудрость жизни.
И бабушка Кети у Иеремии Готхельфа — это не только человек с индивидуальной судьбой, это еще “старуха вообще”, воплощение нравственных устоев деревенской жизни. Готхельф писал, что его ведет правда характеров, что эту силу он не мог подчинить себе (письмо к Тцетеру 30.10.1848 г.). Его герои очерчены последовательно и четко. Но в его постижении человека есть положенные самому себе пределы. Его интересовало типологическое и общее, а не прихотливые извилины души. “Он умеет, — писал Келлер, — показать разницу между двумя хитрыми, изворотливыми крестьянами и, разделенные тончайшими линиями, один склоняется к добру, а другой — к злу”26. В этой характеристике все верно: отмечена и тонкость наблюдений, и стремление вывести закономерность — один к добру, другой ко злу. “Психологизм, — писал по этому поводу Ф. Зенгле, — остается на службе дидактики”27. Очевидно, у реализма XIX века, не только у Готхельфа, но и у близкого ему во многих отношениях австрийского классика Адальберта Штифтера, были и иные возможности, помимо углубленного психологизма28.
Зачислявшийся порой в писатели-областники, Готхельф описывает крестьянскую жизнь также отнюдь не во всех, а только в важных ее проявлениях. Жизнь дана не как быт, а как утвержденный вековыми обычаями ход существования. Если крестьянские рассказы младшего современника Готхельфа Бертольда Ауэрбаха (“Шварцвальдские сельские истории” в 4-х томах, 1843-1854) наполнены подробностями крестьянской жизни, то Готхельфу описательные задачи чужды. Как всякий большой художник, он пишет не только о какой-то области жизни — крестьяне, деревня, — но о людях и мире.
Дар Готхельфа — дар эпика. Неостановимым потоком льется его повествование, узкое по сюжету, безбрежное по открытому читателям пространству и времени. За одним событием следует другое, к главной линии присоединяются боковые. И этому нет конца, как бесконечно и само течение жизни. Готхельфу часто хотелось продолжать написанные им книги, и во многих случаях он так и делал: за первым томом “Ули” последовал второй, хотя сюжет, казалось, был закруглен; за первым томом “Анны Беби Йовегер” был также написан следующий.
Конфликты в его произведениях различны. И все-таки о них можно сказать, что это не столько борьба между людьми или столкновения между социальными группами, сколько между добром и злом как вечно враждебными началами в душе человека. Главные герои Готхельфа — это, за редкими исключениями (бабушка Кети), смешанные характеры. Каждый может качнуться в ту или иную сторону. Второстепенные герои более однозначны, они представляют добро или зло. Спасительным центром жизни предстает у Готхельфа дом. Это прибежище, помогающее объединению людей, оседлости и связи настоящего с прошлым. Дом — материализация труда многих поколений.
С равным основанием Готхельфа можно назвать певцом бедности, ее достоинства (“Бабушка Кети”) и певцом богатства, богатого крестьянского дома, потому что последнее он понимал как результат честного, одухотворенного труда. Все тот же придирчивый к Готхельфу Келлер не преминул однажды заметить, что нигде в Священном писании не говорится, будто идеальный христианин — это зажиточный бернский крестьянин. У Готхельфа же в конце концов выходило именно так.
Вопрос о нравственности или безнравственности богатства глубоко занимал писателя. Он слишком хорошо знал жизнь и своих бернских крестьян, тысячу раз приходивших к нему за советом, чтобы не сознавать, какое значение имели для них деньги. В этом отношении он был материалистом, полагавшим, что в литературе деньги должны занимать соответствующее им в жизни место. Этим, однако, проблема не исчерпывалась; Готхельфу важно было оправдать накопительство. Роман “Деньги и дух” (“Geld und Geist”, 1844) был написан им, в частности, для того, чтобы показать связь извечно противоположного — нравственности и богатства. Эта глубоко религиозная книга освящала жизнь, в частности, и то ее проявление, которое будто и вовсе забывалось в русской литературе нашими деревенскими старухами (от героини тургеневского рассказа “Живые мощи” до старухи из “Матрениного двора” Солженицына), безвозмездно отработавшими свое и готовыми легко стронуться с места, пустившись в последний путь. В русской крестьянской прозе нравственность также связана с трудом, но есть в ней и другие корни. Труд сам по себе ничего не решает: он может быть трудом хапуги, но и трудом бессеребренника, работающего не для себя. Не для себя — тут скорее один из истоков этой нравственности и соответствующей ей привычке жить.
Жившему в другой стране Готхельфу был свят сам труд, а накопленное честным трудом богатство было радостно и благодатно. За века глубоко укоренилась старая кальвинистская идея, согласно которой удачный труд есть знак благословенности. Такое отношение к труду родило в реформированных странах особое содержание и направление нравственности — на постоянную, упорную работу29. Требовалось только не рвать нити, соединяющие достаток и светлую одухотворенность.
Главное событие, происходящее в романе “Деньги и дух”, не так уж значительно. Богатая крестьянская семья теряет крупную сумму денег. Прекрасный знаток крестьянской психологии, Готхельф описывает, как это происшествие рождает трещину в семейной жизни. Муж ставит жене в вину склонность к благотворительности, жену раздражает медлительность мужа в работе. Каждый ищет причину несчастий в другом. Светлая радость покидает дом. Совершается то, что происходит в сказке, которую бабушка Кети рассказывает своему внуку. Там, где живет радость и нет зла, людям помогают горные карлики. Они следят, чтобы не отвалилось колесо, не терялась ни одна нужная вещь и все шло своим налаженным чередом. Но дом, где свершается зло, покидает маленький горный народец, а вместе с ним уходит лад и покой.
Напряжение в романе “Деньги и дух” разрешается, когда хозяйка идет по полю в церковь. И тут вдруг, как не раз случается в разных книгах Готхельфа, человек ощущает себя частицей огромного мира, и мелкими кажутся ему собственные обиды. Все успокаивается, возвращается на свое место. Деньги в мирном крестьянском доме снова не источник раздора, а сама жизнь людей, жизнь полной чашей. В другом романе Готхельфа “Анна Бэби Йовегер” деньги однажды совсем теряют свой материальный смысл: влюбленный дарит монетку девушке как предмет самый незаметный, который не вызовет подозрения родственников, дарит как амулет — залог любви. Деньги и дух соединились самым наглядным, не требующим объяснений способом.
Идиллия в литературе часто ненадежна. Идиллическое творчество Соломона Гесснера оборвалось в последние годы далеко не идиллической “Деревянной ногой”. Идиллия возникала часто во времена смут и кризисов. После Великой Французской революции, потрясшей Европу, Гете написал “Германа и Доротею” (1797). Идиллия у Готхельфа представляет собой мир, внутри которого, если следовать принятым там законам, катастрофа и хаос невозможны. Но этот мир угрожаем со всех сторон, в том числе и со стороны самих ее обитателей в случае их отклонения от “порядка”. В конечном итоге трудно сказать, чего больше в его творчестве — света или мрака. В этих книгах будто сам дьявол малевал там и сям черной дымящейся головешкой по светлому течению жизни. Есть у Готхельфа произведения, в которых преобладает то или, напротив, другое. Но и любая его “идиллическая” книга открывает неожиданные пропасти в действительности и в душах как будто бы идеальных героев.
Вернемся еще раз к батраку Ули. Все удачно кончается в первом томе. Ули набирается мудрости, он стоит во главе хозяйства со множеством работников, где за отсутствием крепкой руки все шло до тех пор как попало. Герою удается преодолеть неприязнь, в том числе и со стороны взбалмошного мастера, которому горько, что кто-то справляется с его делами лучше него. Все заканчивается счастливой свадьбой, неожиданной для самого Ули. Мудрая хозяйка (этот дом зеркально-обратное отображение дома мастера Иоганнеса) попросту сажает молодых людей — Ули и полюбившую его девушку — в бричку и в пятницу вечером, обычный день деревенских помолвок и свадеб, мчит их будто бы навестить крестьянина Иоганнеса. По дороге она заворачивает чуть ли не в каждый трактир, где все принимают их за приехавшую свадьбу. Молодые люди смущаются. Хозяйка же все смеется, и под этот летящий в даль по дорогам жизнетворящий смех совершается самое счастливое событие в жизни Ули, который стал уже к тому времени арендатором.
О чем, казалось бы, еще писать? — Но Готхельф начинает второй том. Ему важно сказать, что жизнь — не ровная дорога и что крестьяне — не ангелы. В этой второй книге Ули чуть не сворачивает с верного пути. В нем и в прежние его годы жил азарт быстрого обогащения (против этого легко разгорающегося желания тоже предупреждал его мастер Иоганнес). Теперь Ули позволил себе пожелать быстрого успеха. И от спокойствия и порядка в его душе, так же, как и от счастья и от достатка, не остается и следа — во всяком случае на длительный срок, пока все опять не восстанавливается.
Герои Готхельфа не приходят к полной и окончательной духовной зрелости. Они то и дело срываются. Строго говоря, они вообще не переходят, как это обычно для героев немецких воспитательных романов, с одной ступени своего развития на другую, высшую. Для Готхельфа души людей — поле непрекратившихся столкновений добра со злом. Автор видит, что на глубине все неспокойно — в людях и в природе.
Вышедшая из границ природа, обернувшаяся не красотой, а хаосом, была изображена Готхельфом в первом же его произведении, написанном как отчет о наводнении в Эмментальской долине в 1837 году и все же в высшей степени заслужившем право называться художественным.
В швейцарской литературе XX в. последствия многодневного ливня в Альпах изображены в повести Макса Фриша “Человек появляется в эпоху голоцена”. И там эти последствия столь разрушительны, что жизнь замирает. У Иеремии Готхельфа в написанном в 1838 г. “отчете” о “Наводнении в Эмментальской долине” все грандиознее и страшнее. На ум приходит Мильтон и его гигантские космические картины. Мирная долина в мгновение ока превращается в апокалиптический ужас. Между тем, автор как будто строжайше верен действительным фактам.
Это был особенный год, — начинает Готхельф свое повествование, — жуткий, пугающий. Зима длилась так долго, что одинокой больной старухе нечем стало топить (характерное для Готхельфа неожиданное укрупнение). Еще и в апреле лежал снег, «травы не было видно, и деревья не подавали признаков жизни». — Все документально точно, но отчетливо звучит мотив грозного омертвения, смерти. В эту странную зиму скотина не могла встать на ноги с голодухи, и какой-то крестьянин пошел покупать сено за любую цену. Девятнадцатого мая, — фиксирует отчет, — шел снег. Наконец наступило благодатное лето. Но этим бедствия не кончились: дожди привели к наводнению.
В “отчете” Готхельфа несколько ясно различимых частей. Первая — та, где говорится о борьбе стихий, о схватках туч с горами, о скапливающихся массах облаков — черном небесном полчище, двинувшемся на страну, «как французы в 1798 году...». Следующая часть о том, что случилось на земле: «Деревья ломались, дома трещали, бледнея, умолкло дитя человеческое...».
Композиция “отчета”, выстроенная как композиция художественного произведения, следует принципу нарастающих и ослабевающих импульсов (так и в романах Готхельфа, то как будто бы все устраивается, то вдруг назревает новое препятствие). Ночью наступило затишье. А следующее утро стало роковым. Готхельф сообщает о нем как хронист, называя точную дату, и в то же время с торжественностью, свойственной всем его произведениям: “На следующее утро тринадцатого августа поднялось бледное солнце над милой землей...” — если бы не число, впору было бы подумать, что эта фраза из древней народной легенды. И, как и полагается в сказании, дальше разражается катастрофа.
Будто предвосхищая поэтику XX в., Готхельф видит происходящее разом, большими кусками, крупными массами. Он пишет, как в долине “стоит большая бледная безмолвная толпа”, стоит, как один человек. Он работает, как гравер по дереву — набрасывает картину резкими, общими контурами, деталей и красок ему почти не нужно. Образы сугубо обобщены. Вот “стоит перед домом, прижавшись к бледному мужу, дрожащая женщина, и оба смотрят вверх, на ужасную борьбу туч у вершин гор...”. А потом и этой оцепенелости приходит конец — все понеслось в страшном потоке, уносимое водой. И опять автор лишь мимоходом видит частности, компонуя их в цельную картину. В двух фразах он сжимает целую судьбу: “Бедного угольщика вода загнала в хижину, сломала ее и пожелала отмыть его до бела, бедного черного человека, чтобы он стал белым, как и положено мертвецу”. Но тот ухитрился усесться верхом на какой-то предмет, который погнало через домик, и понесся сломя голову наперегонки с тысячью елей, пока не почувствовал под ногами твердую землю. На следующее утро (это третья часть отчета) Эмментальская долина являла собой пустыню, где только кое-где уцелели дома и остатки посевов.
“Наводнение в Эмментальской долине” дает повод еще раз вернуться к существу готхельфского стиля. Перед нами эпическое полотно. Объективность повествования подчеркнута строгой документальностью. Но очевидно, что в этом тексте бушуют страсти.
Только два первых романа Готхельфа написаны от первого лица. В следующих автор, скрыт за кулисами происходящих событий. Но это отсутствие мнимое. В больших романах Готхельфа, таких, например, как романы об Ули, автор отступил в невысказанное словом, но в каждом эпизоде он, не выступая вперед, определяет тон и лад рассказа.
Этим, однако, дело не исчерпывается. Как бы нескончаемо ни было повествование Готхельфа, в нем всегда ощутима энергия убеждающей мысли, высокий пафос протестантской риторики. Выше говорилось о связях Готхельфа с педагогическими устремлениями Просвещения. Как просветители, он хотел и умел учить. Дидактизм, дидактика — художественный нерв его произведений. Он, несомненно, страстно желал, чтобы его услышали и поняли. Обращался он не столько к крестьянам, сколько к жителям городов, “прогрессистам”, людям отличным от его убеждений, которых хотел вернуть на истинный путь.
Объективное повествование то и дело прерывается у Готхельфа авторскими отступлениями и поучениями, напоминающими собственные его проповеди. В его реализм вошло искусство риторики, воспринятое от эпохи барокко, искусство, которому он, как и его сверстники, обучался в школе, которому были посвящены занятия в посещавшимся им в молодые годы Бернском Литературном обществе.
Он в совершенстве владел изменением тона, владел всеми его регистрами, от патетики до умиления и сентиментальности, столь распространенными в бидермейере. Исследователи риторики как основы готхельфского стиля доказали его умение приковывать внимание читателей самыми различными средствами (интригующими намеками, замедлениями и ускорениями действия, моральным эффектом, извлекаемым из любовных сцен и т.д.). Законы риторики мощно воздействовали на композицию его произведений (медленное восхождение; осторожное, едва заметное снижение, кульминация, медленный спад). Но самое главное — неостановимость речи, поддержанной примерами и повторениями, восклицаниями и превосходными степенями.
Композиция поддержана ритмом. Точно так же, по законам ритма, Готхельф строит и предложение. Почти с равными промежутками следуют у него акценты на особенно значимых словах, а потом и самих предложениях. Слова меняются местами согласно смысловым акцентам. Изменения ритма образуют известную симметрию. То, что кажется порой стилистической небрежностью — частые повторения — вызваны именно этой потребностью. Единицей ритма служит в его прозе не столько слово и предложение, сколько замкнутые определенными рамками отрывки — свободное дыхание периодов30.
Риторическая неудержимость речи отнюдь не противоречит у Готхельфа духу эпоса: одно поддерживает и наполняет другое. Такому взаимопроникновению способствует и еще одно качество его стиля — исключительная наглядность. Слово Готхельфа не только слышишь — его видишь. Сравнения сближают самый высокий пафос с бытовой жизнью, уподобления спускают абстрактное с высот на землю. Двойственность стиля — поучение и наглядность — приводят, как свойственно было литературе барокко, к богатой метафоричности. Мысль и страсть (что очевидно на примере “Наводнение в Эмментале”) преобразуют и трансформируют материал, не лишая его живой достоверности. Образность ориентирована на значение, на эмблематическое, понятное выражение, на непререкаемую связь видимого и невидимого.
Через все творчество Готхельфа проходят такие сгущения смысла, как “дом”, сельская дорога, гроза и буря, огонь. В сущности и вся его столь достоверная проза есть уподобление, притча, выражающая некий общий смысл, некое воплощенное автором значение31. В этом, как и в других отношениях, Готхельф многое воспринял от Библии, от языка и стиля Лютера. От этих же образцов его постоянное стремление учить не только на положительных примерах, что было свойственно бидермейеру, но поучать и ужасным. Трагично не только его восприятие общественных обстоятельств, драматично его восприятие мира. Библейские образы — Ева, жена Лота, праотец Иаков, Ной появляются у него в бытовом контексте, лишаются отдаленности. Дистанции времени нет. “Потому что Старый бог, — писал он, — всегда неизменный, живет и правит в мире так же, как во времена Иосифа”32. Из образов Ветхого завета чаще всего встречается у него Страшный суд. Со Страшным судом сравнивается и наводнение в Эмментале. Ужасы, похожие на наводнение в Эмментале, Готхельф нарисовал потом и в “идиллическом” романе “Бабушка Кети”: река Эме разом уничтожила все ее посевы, а, значит, и возможность существования. Люди, совершавшие свой обиход со спокойной торжественностью, вдруг познают свое ничтожество. Мир исполняется страха и трепета.
Этот писатель чувствовал не одну силу добра, он знал и силу зла. Разгул зла он описал не только в природе, но и в людях. И принадлежали эти люди к тому самому социальному строю, на который он возлагал столько надежд — к патриархальному бернскому крестьянству.
В 1843 г. Готхельф выпустил в свет первую часть романа об Анне Бэби — “Как Анна Бэби Йовегер ведет хозяйство и как ей приходится обходиться с докторами” (“Wie Anne Babi Jowäger haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht”). Второй том вышел в следующем году. Замысел был связан с принятым Готхельфом предложением выступить против суеверий и знахарства, получивших широкое распространение в селах Швейцарии. Автор предполагал написать нечто вроде своих памфлетов против пьянства. Но получилось другое.
Анна Бэби — один из самых ярких характеров Готхельфа, ее не спутаешь ни с одной другой его героиней. Она на редкость энергична и в то же время глупа, легко подпадает под власть любой идеи и совершенно неспособна услышать чужое мнение. Она чуть не погубила собственного сына, пытаясь женить его на немилой ему богатой девушке. Почти что погубила она однажды и саму его жизнь, во всяком случае изуродовала навеки, потому что решила лечить его от ветряной оспы не лекарствами, а чудодейственным эликсиром, полученным от знахаря. Юноша едва не ослеп и навеки остался рябым.
О суевериях и знахарстве, их столкновениях с врачами и наукой в романе говорится снова и снова, для чего, как для обучения Ули крестьянской мудрости, находятся все новые поводы.
Но суть замысла глубже. Суеверия и знахарство понимаются широко — как слепое, на веру, восприятие жизни. Сто лет спустя австрийский писатель Герман Брох увидел в знахаре, одурманившем жителей альпийских деревень, опасного политического обольстителя (роман “Искуситель”, опубликованный в 1953 г., был реакцией на недавние успехи фашизма). Томас Манн зафиксировал ту же опасность всеобщего дурмана в рассказе “Марио и волшебник” (1930). На сто лет раньше Готхельф увидал эту опасность в тупом суеверии крестьян, в глухом их упрямстве и неспособности воспринять истину.
Как ни ярок характер Анны Бэби, вихрем носящейся по своему дому, как ни индивидуальна эта фигура, она в то же время больше, чем какой-либо другой персонаж Готхельфа — фигура собирательная. Сам автор неоднократно ставит ее имя во множественном числе, говорит об Аннах Бэби Йовегерах, рассыпанных по всему свету в разных социальных слоях. Такие вот Анны, замечает он, нередко занимают посты в правительстве и притом самые высокие.
Прежде всего, однако, Готхельф имеет в виду своих любимых крестьян. Правда, дело отнюдь не сводится к осуждению их темноты, суеверий и тупоумия. В суеверии для Готхельфа есть и положительная сторона — для него это некая форма религиозности, мистики, веры, пусть и весьма примитивной, дохристианской. В крестьянских суевериях, полагал он, больше жизни, чем в сухой теологической учености викария, читающего проповеди в том самом приходе, куда приписана Анна Бэби.
Гораздо выше оценивается автором позиция врача — честного слуги науки. Он способен на самом деле помочь крестьянам, он спасает их жизни. Но доктор Руди — холодный позитивист и уже поэтому в глазах автора глубоко несчастен. Мир для него пуст. В нем нет достойных доверия идеалов, нет Бога. Врач погибает. Его гибель для Готхельфа символична.
В романе существуют разные позиции, разные заслуживающие обсуждения точки зрения.
Главное, против чего Готхельф выступил в этой книге, он обозначил словом “односторонность”. В современном мире ему представлялась пагубной прежде всего одержимость, одержимость человека или группы, массы людей какой-либо одной идеей. Точку зрения автора выражает священник — надо сказать, весьма необычный. Мудрый старик, он доказывает викарию значению материального для духовной жизни, а перед доктором защищает влияние духа на жизнь тела. Любую идею, полагал писатель, можно дополнить другой: жизнь богаче всякой односторонности.
Опасность заблуждения и одержимости, которую Готхельф воплотил в фигуре Анны Бэби Йовегер, он показал как широкое массовое явление в написанной в форме легенды новелле “Черный паук” (“Die schwarze Spinne”1842)33. Действие, завязавшись в современности, уходит в даль веков и тысячелетий, чтобы потом вернуться обратно.
«Черный паук” — не единственная легенда в творчестве Готхельфа. В. Мушг относил к этому жанру целый ряд его произведений. Среди них выделяются легенды исторические.
Интерес к истории был всеобщим. Его разделяли и немецкие классики и романтики. Бидермейер любил в исторических романах живописные красоты (романы Фрелиха). Нации пытались осознать свою историю. В 20-х годах вышли два тома трудов И. Р. Виса “Древности и исторические достопримечательности Швейцарии”. Для Готхельфа большое значение имела книга знаменитого швейцарского историка Иоганна Мюллера “Истории о швейцарском клятвенном союзе”, с ее полным пафоса описанием героев и битв.
Но у Готхельфа иной подход к теме. Его исторические легенды — это почерпнутое у народа донаучное знание об истории, где чувства — ужас, отчаяние — запечатлены отчетливее, чем события. Действие исторических новелл Готхельфа происходит в разные времена: в античности — “Три брата” (“Die drei Brüder”) и “Друид” (“Der Druide”); в эпоху раннего христианства — “Основание Бургдорфа” (“Die Gründung Burgdorfs”) и Средневековья — “Рыцарь фон Брандис” (“Der Ritter von Brandis”), “Мальчик Телля” (“Der Knabe des Teil”); в годы борьбы против Наполеона — “Эльзи, необыкновенная служанка” (“Elsi, die seltsame Magd”). Многие из них, как и “Черный паук”, соотносятся с современностью. Но все они распахнуты мифу, живому мифологическому сознанию. “Легенда, — писал по поводу Готхельфа В. Мушг, — это история на пути к мифу”34. Миф дает ей истолкование.
Рассказ “Черный паук” начинается с торжества крестин в богатой крестьянской семье. В залитом утренним солнцем доме накрывают богатый завтрак, особенно угощают крестную, пришедшую издалека. Потом длинное шествие отправляется в церковь. Происходящее описано радостно, с незлобивым юмором. Но вскоре звучит тревожная нота. Крестная забыла имя младенца, которое следует шепнуть священнику. Имя человека важно: оно наполнится потом всей его жизнью. Но пока все улаживается, и первые в рассказе крестины совершаются благополучно. Возвратившись, гости рассаживаются в ожидании обеда у дома. И тут внимание привлекает старая доска, чернеющая в новом срубе.
С этого начинается вторая часть — рассказ в рассказе. Старик- хозяин сообщает гостям историю старой доски, и время относит слушателей сначала на триста, а потом еще дальше назад.
Начало рассказа относится к временам, когда швейцарские крестьяне были еще полукрепостными и над ними властвовал злобный самодур-феодал. Он жил в замке высоко над селом. И однажды ему захотелось, чтобы дорога туда была усажена столетними деревьями, что и приказано было сделать за несколько дней. Даже обрекши семью на жизнь впроголодь, бросивши все дела, крестьяне не в состоянии были выполнить это требование.
Тут и вмешался в действие тот, кто редко появлялся в книгах Готхельфа явно, но всегда тайно в них присутствовал. В обличии егеря в зеленой одежде и черной шляпе с красным пером на сцене появляется черт. Сначала ему не удается подбить крестьян на нечистую сделку, а потом договор совершается через разбитную женщину Христину, напоминавшую энергией Анну Бэби, хотя в отличие от последней, она умна. Уговор прямо связан с уже намеченной сюжетной нитью: нечистый хочет, чтобы ему была отдана душа первого же родившегося в селе ребенка. Давшая согласие Христина получила поцелуй, и щека ее стала гореть жарче огня.
Следующие сцены чрезвычайно значительны. Они предвещают некоторые ситуации литературы XX в. В пьесе “Визит старой дамы” Фридриха Дюрренматта, как и в новелле Готхельфа, происходит радикальная перестройка массового сознания: жители маленького городка Гюллена в современной пьесе неожиданно для себя решились убить за миллион долларов ни в чем не повинного человека — крестьяне средневекового селенья приходят к выводу “насколько больше стоят они все вместе, чем один некрещенный ребенок”. Между тем, не окрестить новорожденного, погубить его душу и отдать ее в руки дьявола — для верующих страшное преступление. Готхельф рассказывает о страшном грехе, о поветрии зла, охватившем души крестьян.
Легенда разворачивается дальше так, что священнику, пожертвовавшему собой, удается все-таки окрестить умершего тут же ребенка. Нечистый пока в проигрыше. Но на щеке у Христины все отчетливее прорезываются очертания паука, щека набухает, наливается кровью, и при страшных муках, напоминающих роды (тот же мотив рождения!), из щеки Христины, как из головы Зевса, появляется страшный паук — реальный и нереальный, сказочный и символичный. Паук, говорится в легенде, пошел гулять по свету, он появлялся тут и там, потеряв обязательное свойство реального существа — единичность; он был один и в то же время его было много. Как чума, он косил людей. Города и села пустели. Второй раз победу над смертью и злом одержала та самая женщина, мать еще нерожденного младенца, которого крестьяне хотели отдать дьяволу.
Это, однако, не конец рассказа. После веселого застолья старик продолжил его по просьбе присутствующих и им в назидание. Продолжение заслуживает особого внимания: по существу, это повтор, возвращение к рассказанному в новом варианте, что, как всегда у Готхельфа, выявляет всеобщее и закономерное.
Прошло еще триста лет. Обветшал дом, в одну из досок которого был заточен паук. И захотелось набравшимся спеси хозяевам, как старухе из сказки Пушкина, в новые хоромы. Особенно желали этого женщины, а против был один только младший сын. К чему это привело, ясно само собой — паучья страшная смерть снова пошла косить людей.
В исследованиях последних десятилетий глубинное содержание новеллы соотносится с эпохой Реставрации и бидермейеровским пониманием своего времени. Готхельф не оставил прямых свидетельств, оправдывающих подобную интерпретацию. Но выдвинутые в ее защиту соображения достаточно убедительны.
Глубинное содержание новеллы сводится, при различии конкретных истолкований, к страху. Страх был вторым полюсом бидермейеровского мирочувствования, разрушавшим усилия утвердить идиллию. Идиллия, умиротворенность втайне понимались как ненадежные. Столь же характерен для эпохи вытесненный из сознания ужас.
В свое время, как установил К. Линдеман, новелла не пользовалась особым успехом: ее считали “слишком темной”35. С иной мерой понимания отнеслась к ней следующее, XX столетие. В шестой главе “Истории “Доктора Фаустуса” Т. Манн писал, что “восторгается новеллой, как редко каким другим произведением мировой литературы”36. Некоторые соответствия новой истории с уходившей в века легендой были уловлены.
Одной из главных внутренних тем новеллы Линдеман считает кризис современной Готхельфу эпохи. Недаром в новелле сравниваются разные временные пласты. Самодурство рыцаря — властелина замка сопоставляются в развращенностью «чужих женщин» и временем нового нашествия паука. “Рыцари строили свои замки на улицах, как теперь на улицах строят кабаки, — и там и тут, чтобы лучше грабить людей”. Речь в новелле в сущности идет о вине и ответственности людей за гибель порядка, за победу разрушавших его представлений (сговор с чертом, “чужие женщины”), за утвердившийся материализм — тогда, как само рождение и становление ребенка — чудо. Чудо рождения и обряд крещения, как и самоотверженный героизм священника, юноши, матери, противостоят разрушению жизни.
Гибельное распространение паука связывалось с сохранявшейся в народе памятью о чуме в Эмментале в 1434 г. Но у современных исследователей возникают и более актуальные, быть может, не осознававшиеся тогдашней эпохой ассоциации.
На одной из прокламаций начала 19 в. (она воспроизводится Линдеманом на обложке его книги) изображен Наполеон, в щеку которого вмонтирован паук. Разрушение старых порядков, засилие “чужих” понимается соответственно Линдеманом, приведшим целый ряд доказательств, и как косвенное отражение нашествия Наполеона. Паук в новелле вырывается на волю дважды. Второе его нашествие отождествлявшееся в некоторых работах со стами днями Наполеона, могло ассоциироваться у Готхельфа, полагают исследователи, и с другими событиями эпохи — революцией во Франции 1830 года. «То, что революция произошла снова всего через пятнадцать лет, было, — писал Фр. Зенгле, — неожиданным и пугающим для консерваторов»37. Гипотеза подтверждается на уровне словоупотребления. Повторяющееся в новелле слово “ужас” (“Schrecken”) — распространеннейшая в то время характеристика термидорианского террора и Робеспьера. Именно этими словами говорили о революционном терроре. В “Песни о колоколе” Шиллера сам Робеспьер объявлял страх и ужас непременной составляющей революционной справедливости38.
У Готхельфа страх приводит к предательству, погружает человека в состояние абсолютной дезориентированности, “того безликого ужаса”, который входил — как важная ее часть — в контекст эпохи.
В “Черном пауке” нагляднее, чем в других произведениях Готхельфа, проявилось особое качество его реализма — насыщенность сгустками значений. К числу таких эмблематичных сгустков принадлежит не только черный паук — инкарнация хаоса и зла, но и рождение, крестины, дом — воплощение добра, мира, порядка, связи поколений. В каждом предмете — сиюминутность и вечность. Рассказ противится слишком прочному прикреплению к одной исторической эпохе: в нем говорится о явлениях иного порядка. Мир Готхельфа катастрофичен не из-за тех или иных исторических потрясений. Он катастрофичен в своей основе. Самым веским свидетельством этого в новелле “Черный паук” является цикличность ее построения: хода вперед нет, зло возрождается снова и снова — оно в самом составе жизни, в составе человеческих душ и лишь на время может быть загнано в узкую щель, как зловещий паук, закупоренный в черной доске. В истории для Готхельфа действует извечный природный закон — закон повторения. Движение истории для него — эсхатологический путь человечества.
В окрашенной в сказочные тона новелле все кончилось победой добра: молодой герой, ценой собственной жизни, вновь замуровал паука в деревянной доске. Люди снова смогли жить по старинке, не напрягая разум. Но и через триста лет, в то самое время, когда ведется рассказ, среди отесанных бревен нового дома по-прежнему чернеет старая доска.
***
Иеремия Готхельф был одним из крупнейших писателей своего времени. В немецкоязычных литературах середины прошлого века он создал вариант реалистического письма, восполнивший недостаток эмпирики в литературе Германии.