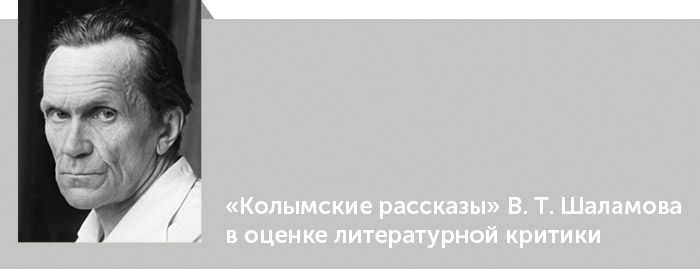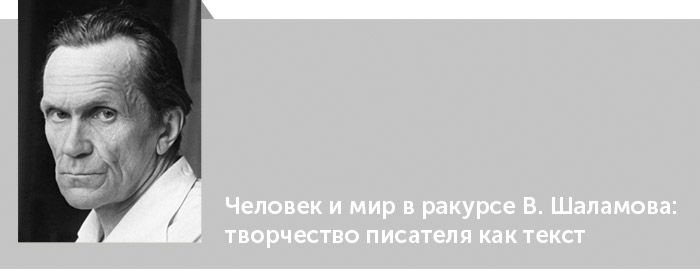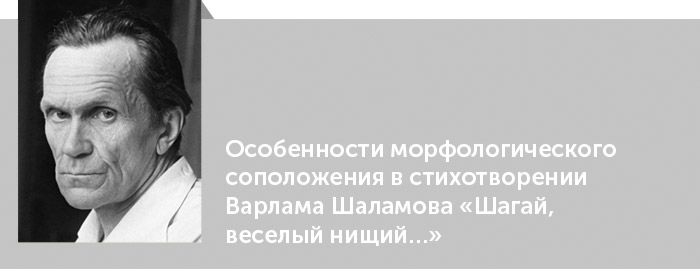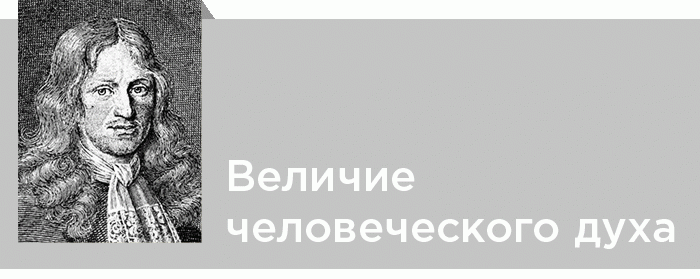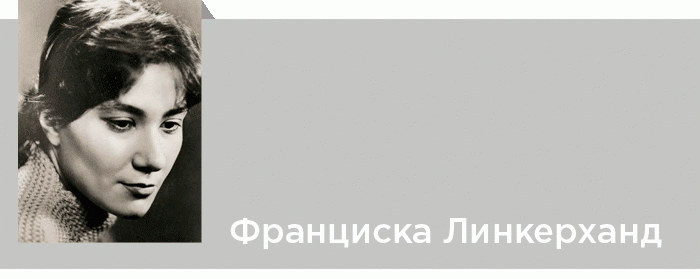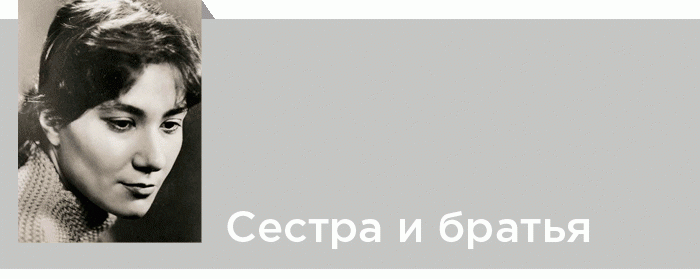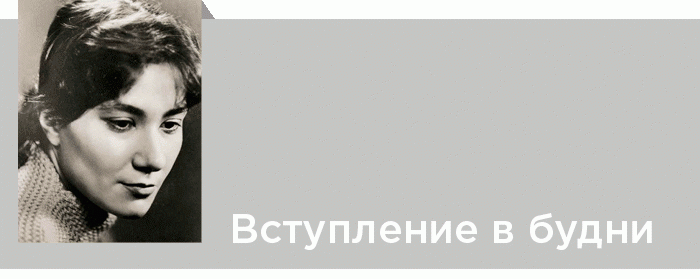Д. К. фон Лоэнштейн: жанровая поэтика романа позднего барокко в Германии
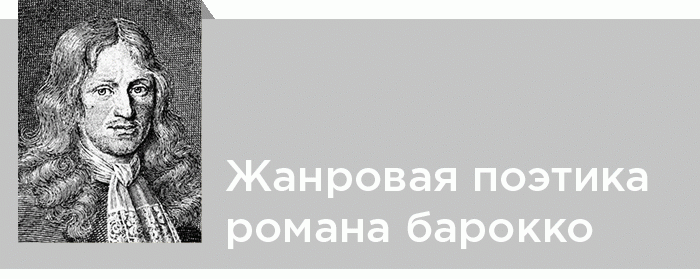
Л. И. Пастушенко
Жанровая поэтика классического позднебарочного романа рассматривается в аспекте историко-культурного контекста полигисторства, как философско-эстетический итог художественного мышления универсалиями и риторических практик письма.
Вопрос о «манере» Д. К. фон Лоэнштейна возникал уже с момента выхода его знаменитого романа в свет, но до сих пор проблемы поэтики и своеобразия жанрово-стилевого облика «Арминия» (1689-1690) нельзя счесть хоть сколько-нибудь подробно изученными. Его центральное положение в культурном контексте рубежа веков едва ли способен поколебать казус, установленный дотошно-пристальными позитивистами позднее: «То время больше прославляло роман, чем читало». Уже Томазиус в своей рецензии на «Арминий» отмечал, что произведение Лоэнштейна содержит «нечто особое и нерегулярное». В то же время ученый философ заверял: «Но этим я не порицаю его, ибо то, что превосходно, отступает от общего правила». Апология «неправильности» в устах «отца немецкого Просвещения» (В. Фосскамп) послужила зачином аксиологической традиции в критике, далеко не всегда доброжелательной («бесформенный», «чудовищный», «монстр») и во многом сформировала родовую репутацию жанра в постклассическом литературоведении. Так, уже в наше время Г. Мюллер сомневается, следует ли счесть роман «третьим придворно-историческим» наряду с «Араменой» и «Октавией» Антона Ульриха, а В. Бендер решительно отторгает роман от традиции этого жанрового ряда: «Совсем иное образование». Более осторожные ученые разделяют тезис об особом месте «Арминия» в истории романа. Например, Г. Спеллерберг полагает, что произведение «размывает традиционную жанровую конструкцию». Заметим: всякий раз отождествлению сочинения Лоэнштейна с «нормальным романом» курьезным образом препятствует то или иное жанровое свойство, так что «Арминий» при желании можно было бы представить в виде парадоксального набора черт, отступающих от идеальных умозрительных норм теоретиков.
Между тем, жанровый облик сочинения Лоэнштейна далек от концентрации неправильностей. Применительно к «Арминию» с его объемом более чем в две тысячи станиц актуально звучит предупреждение знаменитого исследователя о том, что «увеличение масштаба - спутник вырождающегося искусства», - разумеется, если понимать это положение не буквально, а в смысле исчерпания длительной традиции литературно-художественного направления.
В центре огромного, перенаселенного эпического целого стоят события древней истории: отвоевание немцами своей независимости в жестоких сражениях с Римом; изображаются Тевтобургская битва, походы на Германию Тиберия и Германика, перед читателем возникает историко-мифологическая панорама древнего и современного мира от праисторического времени, древнеримской и древнегреческой истории к синхронному времени
Справедливо замечал крупнейший исследователь стилевых направлений Г. Вельфлин: «Барокко вносит в искусство новое, основанное на чувстве бесконечности понимание пространства». Тематика «Арминия» бесконечно широка и разнообразна, и в то же время, она нарочито не связана и не упорядочена никаким иным замыслом, кроме метафоры всебытия, это в полной мере «взбесившаяся энциклопедия реалий» (И. Эйхендорф). Верно наблюдение, высказанное в прошлом столетии: «Роман трактует о предметах, которые насмехаются над любой классификацией».
Идущее еще от рыцарского романа представление о жанре - вместилище многообразного авторского опыта, находит у Лоэнштейна свое логическое завершение, едва ли «героическое», а скорее универсально интеллектуальное, питаемое эстетикой всеядности эрудистского барокко. При этом полагать, что презревшим дисциплину мысли писателем - «удивительным полигистором» владеет ассоциативная логика начетчика, значит упростить специфику жанрового мышления романиста. На самом деле в «Арминии» каждый излагаемый факт семантически револьвирует культурно-исторический контекст, с которым он нерасторжимо связан, всякая реминисценция погружена в рационально-логическую стихию общих мест, в среде которых реалии обросли бесчисленными топосами, самоценными с точки зрения фабулы, но достойными упоминания в силу культурно-онтологической связанности смысла. Отсюда реализованная в многочисленных экскурсах обстоятельность, временами угрожающая превратить повествование в коллекцию эрудитских истин, если даже эту грань не переходящая. Так, пленившая в бою неузнанного отца Туснельда уподобляется «бесчеловечной Туллии»; добродетельная, посмертно взыскующая отмщения Вальпургия вызывает сравнение с «матерью гражданских прав Рима» Лукрецией; пожертвовавшая малолетним сыном ради спасения царственного Тумелиха Херменгарде (эпизод подмены детей-пленников) провоцирует каталог жертвенных родителей: Viel Mütter hatten zu Carthago ihre Kinder Misa der Moabiter seinen Sohn bey sicli ereignender Noth geopfert. Красота Туснельды, Исмены, Эрато немецкая аналогия трех граций, влюбленный в изображения Фидия король Садал напоминает Пигмалиона; фальшивая любовь - wie die grimmige Medea, wie die zaubernde Circe; Маркомир - это «второй Геркулес», прорвавшие сопротивление немцы подобны войску Энея.
В длинных каталогах уподоблений ученые примеры из мифологии и истории выстраиваются в единый ряд, каков например, перечень неудачных династических браков. Ощутимо, что в подобных экспликациях важнейшую роль играет исторический, мифологический, эрудитский образный прецедент. Романист разрабатывает популярные риторические топосы всесильного времени, правды, храбрости, слепоты физической и духовной, притчи о возрастных стадиях человека, метафору жизни-мореплавания. Темы войны и мира, сельского уединения, душевных свойств человека, силы и ума, фрагменты натурфилософских учений и философских идей немедленно разрастаются в принятые в литературе, почтенные своим «возрастом» рассуждения и экспликации.
Повествование «по правилам» изобилует учеными экскурсами, эрудитскими беседами, цепочками сравнений, параллелей, аналогий, антитез, ассоциаций, аргументов. Можно сделать вывод, что «Арминий» вдвойне репрезентативен: не только как роман «высокой» стилевой линии жанра, но и как художественное творение определенной эпохи, нашедшей в нем адекватное выражение с точки зрения историко-культурного мыслительного контекста полигисторства, запечатленного столь впечатляющим образом, ибо данное сочинение можно рассматривать и как амальгаму философских учений - от идей неоплатонизма и мистики до теологического оптимизма и апологии разума как предвестия нового рационализма. Summa philosophica, величавый компендий воплотил колоссальный свод современных знаний. Стоящий в преддверии Просвещения писатель увлечен космологическими построениями и аналогиями мироздания (с часовым механизмом, совершенной благозвучной арфой), автор предлагает попытки анализа и истолкования природы человека, универсалистский макрокосм изобилует натурфилософскими и естественнонаучными объяснениями, в основе которых зачастую лежит пантеистический энтузиазм: «Без сомнения, в мире нет лучшей книга, чем книга природы».
Исследователи еще не обратили внимания на то, что главные этапы движения повествования соответствуют классическим приемам риторического развертывания. Программно репрезентирующий культурно-эстетическое и интеллектуально-философское «зеркало эпохи», роман не мог не выразить ее стиль, - с той же величественной монументальностью, в красочно яркой манере, далекой от метафорического аскетизма и запрета на omatus, подобного, например, стилю Антона Ульриха, автора «Арамены». Углубляясь в бесчисленные подробности, приверженный логическим универсалиям повествователь прибегает к общим и частным доказательствам, опирается на мыслительный опыт силлогизма, широко использует топы энтимем, выведение из аргументов. Глубокомысленный сентенциозный стиль в изобилии рождает афоризм, идет ли речь о моралистике, общественной или индивидуальной психологии, политике.
В «Арминии» можно обнаружить разные стилевые тенденции и напластования, начиная от силезской аффектированности, издавна получившей в немецкой критике пренебрежительное обозначение Schwulst (высокопарного, напыщенного) до тацитистской сентенциозности: в
Взаимоисключающие характеристики стиля романа запечатлели диапазон действительно присущих ему свойств, от «красочно великолепный» до «непоказной, изобилующий сухими перечислениями». Сочетание столь несходных признаков исследователи пытались объяснить индивидуальностью сочинителя, акцентируя в авторе романа внутреннюю двойственность философски глубокомысленного ученого педанта и покорного порывам чувств «непосредственного стилиста». Нередко абсолютизировали прямое влияние на него Марино, явно преувеличивая «тайный экзотизм», «мобилизацию всех техник консептизма». Однако едва ли поиски единой формулы, даже оксюморонно-антиномичной, могут оказаться результативными применительно к роману, поэтика которого не поддается единообразным жанрово-стилевым определениям, ибо ее установка на универсалисткую неисчерпаемость является не только заданной программой, но и кардинальной, родовой чертой эстетики. При всем влиянии Марино на творческую практику художников слова Второй силезской школы, главой которой был писатель, «Арминий» едва ли можно счесть маньеристским романом. Скорее он стадиально-типологически перекликается с маньеристами в неклассичности видения мира, умозрительной способности к «холодной рефлексии», в эстетике, понимаемой как всемогущая декоративность, своеобразная стилевая «вторичность», - переживание культуры, позднебарочное в своем рефлективном существе; Лоэнштейна роднит с Марино приверженность к метафорической идее мировой суммы.
«Арминий» показателен для духовной жизни Германии исхода XVII в. с характерной для немецкого традиционализма всеядности аккумуляцией всевозможных умственных тенденций. Отнюдь не склонность к «хвастливой демонстрации» руководит «амбициозным» автором перенасыщенного массой универсалий, идейно амальгамного сочинения, выдвинувшего показную ученость на первый план. Действительно ощутимые в романе, эти черты не носят исключительно индивидуально-авторской печати, - в их основе лежит прежде всего самоощущение и даже самолюбование склонившейся к закату эрудитской эпохи, зараженной ненасытными поисками нового, триумфально проявляющей свойственное ей «превосходство теоретического интеллектуализма». Не располагавший к уютному задушевному чтению роман доводит до крайнего предела то направление барочного энциклопедизма, которое воспринимало и определяло предметные реалии в понятиях суммы обстоятельств, онтологических универсалий. Ощутимо, что за этим пределом стоит разрушение художественной формы романа, подточенной полигисторством, ибо разомкнутая в культурологию и историографию барокко, романная форма «Арминия» испытывает деформирующее воздействие со стороны современной мыслительной культуры собирательства, трансформируется в «прозу без берегов», которая стремится вобрать и исчерпать поистине неохватные, уже освоенные барочным культурным универсумом связи, но при этом до бесконечности дробится, членится и утопает в мозаике частностей. Так жанровая поэтика «Арминия» абсолютизирует намеченный ранним барокко «выход в мир», имея в виду постановку глобальных метафизических проблем, как это характерно для данного литературного направления.
Л-ра: Актуальні проблеми літературознавства. – Дніпропетровськ, 2000. – Т. 8. – С. 130-136.
Произведения
Критика