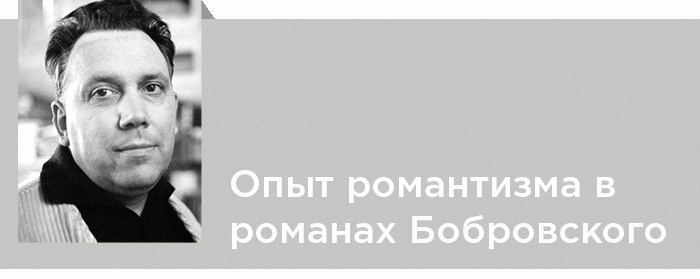Иоганнес Бобровский и традиции литовской культуры
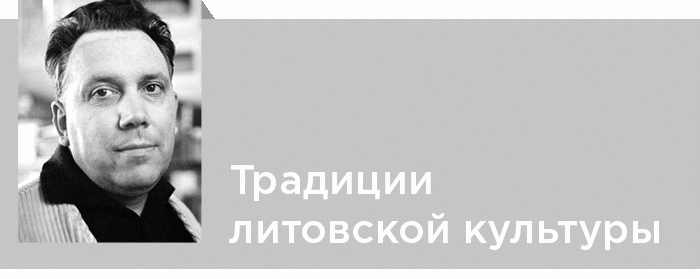
Ю. И. Архипов
Литва для него то же, чем была когда-то для многих немцев Италия: мелодия неповторимого своеобразия. Земля обетованная. Символ простоты, скромности, прямодушия и человечности. Правды и справедливости, природы и мощи.
Вильгельм Гирнус
После Иоганна Готфрида Гердера он, пожалуй, глубже всех осмыслил драматизм взаимоотношений немецкого народа с его восточными соседями и, как очень сильный человек, не испугался и не бежал от чувства исторической ответственности.
Юстинас Марцинкявичус
Как-то июньским утром тридцатого года один кенигсбергский гимназист ехал по узкоколейке в сторону Малой Литвы — в деревню на каникулы. Случай в ту пору обыденный. Определенной и жесткой, навсегда прочерченной границы в тех краях с крайне пестрым населением из литовцев, немцев, поляков, евреев, цыган, белорусов и русских по старинной традиции не было. Вернее, она в течение веков переносилась и изменялась так часто, что у местного, смешанного населения никогда не было отношения к ней как к чему-то незыблемому и непререкаемому.
Спустя тридцать пять лет, когда давно позади уже будут и гимназия, в которой директорствовал внук Иоганна Гамана, его любимейшего мыслителя, и война, и плен, и редакторская работа, и литературный дебют, известный писатель Иоганнес Бобровский отправит по этой дороге своих героев — Фойгта и Гавена, немецких интеллигентов и гуманистов, собирающихся в 1936 г., т. е. уже при фашистской диктатуре в Германии, написать оперу о великом литовском поэте Донелайтисе.
«Литовские клавиры» — последний роман Бобровского, но тема Литвы в его творчестве возникает значительно раньше. Редкая, но знаменательная удача для обеих литератур — немецкой и литовской, что на рубеже этих двух земель и культур возникла фигура столь значительного писателя, посвятившего свою жизнь тому, чтобы, по его слову, «прокладывать мосты» между двумя народами и их ближайшими соседями.
Иоганнес Бобровский родился в 1917 г. в семье мелкого чиновника в городе Тильзите в Восточной Пруссии. Его годы учения прошли в Кенигсбергском и Берлинском университетах на искусствоведческом отделении философского факультета. Позднее, отбывая «трудовую повинность» в Кенигсберге, Бобровский сблизился с теми группами сопротивления фашизму, идеологической платформой которых было христианство. Христианское обращение нигде не оставит прямых следов в творчестве Бобровского, но для Бобровского-человека оно сохранит глубокие последствия до конца его жизни. Недаром полем его деятельности в зрелые годы станет редакторская работа в христианском издательстве «Унион», в котором и выйдут все его книги. В этом, пожалуй, определенное своеобразие позиции писателя и его места в социалистической культуре ГДР.
Начал писать Бобровский, как и многие, со стихов. В это время он находился в одной из частей вермахта, оккупировавших Новгородскую область. В 1943 г. его стихи благодаря посредничеству известной католической писательницы Ины Зайдель были впервые напечатаны в небольшом мюнхенском журнале «Царство духа». В самые последние дни войны Бобровский попал в плен и четыре года отработал шахтером в Донбассе, где посещал «антифашистскую школу» для военнопленных. […]
Все творчество Иоганнеса Бобровского, поэта и прозаика, отмечено удивительным единством темы.
«Вина моего народа перед народами Восточной Европы от возникновения ордена германских рыцарей и до событий недавнего прошлого» — так сформулировал свою тему сам писатель. Эта тема возникла уже в первой книге Бобровского — поэтическом сборнике «Время сарматов» (1962), сразу принесшем ему громкую славу во всех странах немецкого языка, за эту книгу поэт получил в год ее выхода австрийскую премию им. Анны Иоганны Кениг и премию западногерманской «Группы 47».
Слово «Сарматия» можно встретить в хрониках, хотя локализация этого понятия дана античными историками невнятно. Бобровский склонялся к той, несколько гипотетической, точке зрения, согласно которой под «Сарматией» следует понимать край между Вислой и Неманом, преобладающее население которого составляло в те времена племя пруссов. В средние века оно было истреблено немецкими псами-рыцарями из ордена тевтонов, а пруссаками, как это в истории нередко бывает, стали именовать победителей. Таким образом, территория бывшей, по Бобровскому, Сарматии на долгие века стала пограничным краем, форпостом рвущихся на восток немецких агрессоров. Здесь сошлись государственные интересы России, Литвы, Германии, Польши, не раз приводившие к кровопролитным сражениям и войнам. Недаром Гердер, этот «первооткрыватель для немцев мира дайны и славянства», призывал правительства этих стран образумиться, указывая на то, что нет в Европе другого такого места, которое было бы столь же густо полито кровью. В своем известном, по-своему классическом труде «Идеи к философии истории человечества» Гердер писал: «Мирное племя леттов жило между немецкими, славянскими и финскими народами, оно не могло ни распространиться вширь, ни обрести более тонкие нравы, и, наконец, подобно своим соседям, пруссам, оно стало известно по тем насилиям, которые совершали над всеми прибрежными народами в этих местах и новообращенные поляки, и немецкий орден, и вообще все, кто оказывал ему свою помощь. Душа человеческая содрогается при виде крови, пролитой тут во время долгих варварских войн, в результате которых древние пруссы были почти полностью истреблены, курши и летты обращены в рабство, под гнетом которого они страдают до сих пор». Гердер мечтал о том времени, «когда это иго будет снято с них» и они научатся «наслаждаться высокой свободой». Благородную миссию гуманиста Гердера продолжил в нашем веке Бобровский.
Чувство вины, в котором сошлось личное и национальное, определило всю его жизнь. Оно проснулось в солдате Бобровском в окопах Среднерусской равнины и легло на воспоминания детства, проведенного среди мирных литовских крестьян, на раздумья о судьбах полюбившегося в детстве народа и его культуры. Границы времен раздвинулись, и древняя, полумифологическая Сарматия стала вместилищем великого множества людей, живших здесь в разные века. Она превратилась у Бобровского в некий поэтический континуум, срастивший боль и скорбь народов с чувством индивидуального стыда и раскаяния. Тема эта — ведущая и сквозная для всей лирики Бобровского. Последовавшие за «Временем сарматов» сборники стихов — «Земля теней и рек», «Признаки погоды», «В зарослях ветра» — лишь продолжили и развили то, с чем явился в мир поэт Бобровский в первых же своих стихотворениях. Конечно, лирику Бобровского для нужд комментирующего объяснения можно и нужно аналитически дробить на циклы — исследователи так и делают. Например, Герхард Вольф из ГДР устанавливает в его стихах четыре уровня поэтического смысла, тесно между собой связанных. Первое — это память о детстве с его нерасчлененно-наивным восприятием мира, поэтическим одушевлением природы, переданным «пантеистическими метафорами» («в тяжелое дыхание лесов река вплетает песню» и т. п.). Затем — назойливые и страшные картины войны, перечеркивающие идиллию. Далее — осознание вины — личной и национальной — и обвинение войне, призыв к миру, жажда мира. И, наконец, философское осмысление истории, охват проблематики войны и мира как бы с высоты птичьего полета, в широкой исторической перспективе.
Альфред Берман (ФРГ) еще более уточняет эту классификацию. По нему, лирика Бобровского делится на восемь тесно переплетенных идейно-тематических циклов: стихи документальные («Сообщение» как типичный, типовой пример), библейские («Эсфирь»), собственно «сарматические» («Монастырь близ Новгорода»), военные («Собор 1941 года»), одические («Песнь раковины»), поэтологические («Всегда давать названия»), «метафизические» («Деревянный дом»), посвященные смерти («Французская деревня»).
В особый раздел следовало бы выделить стихи на культурно-исторические темы, в которых Бобровский рисует портреты любимых писателей прошлого и современников — Вийона, Гонгоры, Ганса Гении Янна, Чаттертона, Дилана Томаса.
Но более других интерпретаторов прав, пожалуй, М. Слуцкие: «Когда читаешь его произведения, особенно поэзию, иногда возникает странное ощущение: названия стихотворений конкретные, почти предметные, чуть ли но адресованные („Литовский колодец“, „Сарматская равнина“, „Ильмень-озеро“, „Западная Двина“, „Жемайте“ и т. п.), однако тема по большей части не развивается, ее заменяют несколько глубинных скважин. Надо хорошенько прислушаться, чтобы не прозевать их и не посчитать эти без предупреждения начинаемые и не оканчиваемые мотивы за музыкальные синкопы. Медленно следуем мы за поэтом и нелегко постигаем мир философских загадок. Мы встречаем такие стихотворения (или места в прозе), которые отдельно от группы родственных произведений или изолированно от всего авторского феномена уяснить себе невозможно. Эта особенность как раз подчеркивает неделимую цельность внутреннего мира поэта».
В самом деле, какой бы сборник Бобровского мы ни раскрыли, всюду мы сразу же найдем схожие пленеры, в которых господствуют прибалтийские ветры — то тяжелые и неистовые, то умиротворенно-нежные, прозрачные. Это одушевленные ветры, которые бьются в ознобе и «города заметают дурманом». Ландшафт сливается с творчеством духа, природа — с культурой: «В старинных песнях струится ночь и ветер». В мир красоты врывается смерч войны, выталкиваемый наружу скрытыми пружинами истории. Рядом — стихи о «небожителях духа» — о Бахе, Моцарте, Клопштоке, Мицкевиче, Барлахе. Каждый раз любимые деятели культуры предстают как символы борьбы.
Многим обязан он и поэтической реформе далекого своего предшественника — Клопштока, автора афористичной поэтической декларации, под которой мог бы подписаться и Бобровский: «Бессловесное так же присутствует в хорошем стихотворении, как в битвах у Гомера лишь немногими зримые боги».
В то же время в стихах Бобровского нередко можно услышать отзвуки того, чему он подолгу и с наслаждением внимал в детстве, — песенный лад литовского фольклора, простой и мелодичный мир дайны: «Останься, крик чаек, останься, пусть солнце, любимое нами, зачахло и ласточки не возвратятся». Порой в них можно заметить первобытную простоту крестьянского мироощущения, как ее запечатлел Донелайтис во «Временах года»: «Усталый, в полдень я пришел сюда и рухнул на песок. Хочу дышать дыханьем рек, пить родники, земное пить, ртом припадая к тайнам глуби, укрытым в травах» («Западная Двина»),
Бобровский продолжает гердеровскую традицию не только чисто теоретически, на уровне философской публицистики; творческое взаимодействие, о котором писал и к которому призывал Гердер, входит в самую плоть его поэтических созданий — таких, к примеру как «Прусская элегия», где погибшее племя пруссов становится как бы потерянным звеном, скреплявшим единство народов, населяющих пространства бывшей Сарматии: «Народ, преданный радости, проданный смерти!.. Ты жив, развеянный прахом народ. Имена, склоны гор и потоки твое сохранили тепло. В преданиях, в напевах, поющих под вечер, в шуршании ящериц быстрых твоя продолжается жизнь».
Этот край с его пестрым, разноязыким населением — край по-своему романтический, но и многострадальный — запечатлен и в романах Бобровского «Мельница Левина» (1963) и «Литовские клавиры» (1965). «Донести вину до сознания людей на самых осязаемых и конкретных примерах» — такую задачу в них поставил перед собой писатель.
В «Мельнице Левина» действие относится ко второй половине XIX в. Оно построено вокруг тяжбы стяжателя-немца Бобровского (вот оно — желание взять всю вину на себя, небывалый, кажется, в мировой прозе случай, когда автор дает отрицательному персонажу собственную фамилию) с евреем Левиным и цыганом Хабеданком из-за мельницы. Роман написан на документальной основе, однако действительные события изменены. Исторический Левин восторжествовал над Бобровским, однако писатель делает его жертвой — во имя собственного понимания гуманизма и исторической перспективы. В этом изменении отозвалась та самая память о еврейских погромах, которая нередко становилась темой и стихотворений Бобровского — о Гертруде Кольмар, Марке Шагале, Исааке Бабеле: «Приходит Бабель Исаак. Говорит: во время погрома, я еще был ребенком, моей голубке оторвали голову. Дома деревянной улицы, заборы, и бузина в цвету. Добела вымыт порог и маленькое крыльцо — тогда, ты знаешь, там тянулся кровавый след. А вы говорите: забыть. Но подрастают дети, их смех как бузина в цвету. И цветы могут погибнуть, люди, от вашей забывчивости» («Бузина в цвету»).
В этом романе, таким образом, Бобровский обнаружил одно из решающих свойств социалистической культуры - умение видеть в настоящем ростки будущего, а в прошлом — корни настоящего.
С позиций социалистического гуманизма подходит Бобровский и к проблеме национальной розни. Ее суть для него — не в каких-либо специфических особенностях отдельных народов, а в социальных противоречиях. Всему виной не «немузыкальность немцев», как — парадоксальным, в сущности, образом — кажется одному из персонажей, а «гроши». Немцы же «есть такие и есть эдакие».
Такой дифференцированный взгляд на национальное псевдоединство, сразу отметим, восходит именно к Донелайтису, который впервые еще в XVIII в. в своей поэме «Времена года» показал социальное расслоение литовской деревни и самих немецких «колонизаторов». И пусть у Донелайтиса царит дух созерцательной примиренности с судьбой, дух квиетистской кротости и нигде нет прямого призыва к уничтожению социальных противоречий насильственным путем, который, разумеется, был чужд лютеранину пастору, тем не менее объективная картина этих противоречий получилась под его пером очень рельефной.
О разных немцах и разных литовцах написан роман Бобровского «Литовские клавиры» — последнее его произведение, так сказать, художественное завещание писателя. В нем литовская тема зазвучала с особенно полной силой, что видно уже из названия. Собственно, заявка на эту тему содержалась уже в самом конце предшествовавшего романа, действие которого хоть и протекает — в широком смысле — в пределах того края, который Бобровский назвал древним именем Сарматии, но на западной ее, немецкой окраине, а не в Литве. Провожая взглядом на последних страницах романа бродягу Вайжмантеля, уходящего в сторону Литвы, Бобровский пишет: «И теперь я задаю себе вопрос: не лучше ли было бы, если б я все же перенес место действия нашей истории чуть севернее или, еще лучше, вовсе северо-восточнее, с тем чтобы она произошла в Литве — там мне все знакомо и памятно, — а не здесь, в этой местности, на реке Древенце, у неймюльского ручья, возле речушки Струги, где я никогда не бывал и о которых знаю только понаслышке».
«Литовский» роман Бобровского был написан им за несколько недель, причем предсмертных недель — писатель словно торопился успеть реализовать давнишний, столь дорогой ему замысел. Этот роман, как пишет М. Слуцкие, — «гимн Донелайтису, великому поэту-земляку. Ведь родина Донелайтиса, Тольминкемис, находится совсем рядом с Тильзитом, и что с того, что ни старого Тильзита, ни старого Тольминкемиса уже нет! Чудака-пастора, изготовлявшего клавиры и, писавшего гекзаметрами проповеди для прихожан, история давно подняла с деревянного кресла-качалки и вознесла на бронзовый трон. Бобровского волнует и восхищает все, что связано с легендарным соседом — великим родоначальником возрождения Литвы в конце XVIII столетия».
Действие романа охватывает два июньских дня 1936 г. Перед нами Клайпедский (по-немецки — Мемельский) крап, входивший в то время в Литву на правах автономии. После фашистского переворота в Германии все громче раздаются требования о присоединении этого края к рейху. В романе описывается подготовка к Иванову дню в деревнях, в которых живут немцы и литовцы. Национальную рознь здесь разжигает некто Нейман, адвокат, лидер местных фашистов. Он взят, как и многое у Бобровского, mutatis mutandi - с натуры (хотя в действительности фашистский вожак был ветеринаром); писатель привык максимальную ответственность возлагать на интеллигентскую элиту. Сюда же приезжают из Кенигсберга немцы — профессор Фойгт, филолог, собиратель фольклора, и музыкант Гавен. Гуманисты, наследники традиций Гете и Гердера, они собирают материал для оперы о Донелайтисе, видя в этом свой гуманный долг по отношению к веками притеснявшемуся немцами народу. Долг тем более актуальный, что над культурой этого народа нависла небывалая угроза полного уничтожения под ярмом надвигающихся шовинистов-захватчиков. Их помыслы устремлены к спасению того, что еще можно спасти, а это — «безвозвратно гибнущая народная традиция, которую очень жаль, ее вытеснение идет теперь с юга на север; вымирающий язык необычайной красоты, величайшие богатства народной поэзии, о которых писали еще Гете и Гердер...».
Немцы Фойгт и Гавен приехали к литовцу Пошке, деревенскому учителю, местному краеведу, много знающему о Донелайтисе, влюбленному в его творчество и человеческий образ. Пошка настолько сжился с Донелайтисом, ч го в магическом кристалле изображения сливается с ним, а ею невеста, немецкая девушка Тута Гендролис, приобретаем черты жены Донелайтиса, тоже немки Анны Регины. Такое совмещение времен вплоть до наложения одних образов на другие чрезвычайно важно для романной структуры Бобровского. Пошка — это как бы Донелайтис 1936 г., подкремляющий мысль писателя о том, что ничто не проходит и не кончается, люди и идеи, постоянно воскресая, живут вечно во все новых и новых обличьях. Людская связь, одухотворенная мирным созидательным трудом, — вот что составляет унаследованный от великих гуманистов прошлого, в том числе и от Донелайтиса, гуманистический пафос этого романа.
Донелайтис в качестве идеальной фигуры выбран Бобровским не случайно. Дело не только в том, что, как «начало всех начал» литовской культуры, он прежде всего приходит на ум, если хочешь воздать ей должное. Притягательность Донелайтиса для Бобровского носит не только символический, но и вполне конкретный характер. Дело в том, что Кристионас Донелайтис — совершенно уникальное явление во всей европейской литературе XVIII столетия. Конечно, его написанная гекзаметрами поэма «Времена года» может напомнить по формальным признакам и Клопштока и Оссиана. Однако тон и дух ее совершенно другой. На поэме Донелайтиса нет ни малейшего налета ни классицизма, ни сентиментализма, словно она была написана совершенно в иную эпоху — позднюю, эпоху утвердившегося реализма. Ни у кого из современников Донелайтиса во всей европейской литературе не было и в помине той реалистической, внимательной к деталям народного быта и прежде всего труда земледельца силы, которая опередила развитие европейской литературы по меньшей мере на полстолетия и по-настоящему актуальной и идейно заряженной стала в XX в. Прав Э. Межелайтис: «Когда перечитываешь строфы Донелайтиса, дух захватывает от этого реализма, глубинного, как сама земля, и сочного, как зеленые всходы. А ведь в те времена в Европе царили искусственный классицизм и бесплотный сентиментализм. И среди них, вопреки им, возникли „Времена года“, подобные глыбе земли и крестьянскому хлебу, столь же неповторимо национальные, крестьянски демократичные, как и деревянные скульптуры неведомых умельцев».
Любопытно — для сопоставлений с Бобровским — и то, что поэма Донелайтиса построена как четырехчастная симфония, со своей тональностью в каждой части, соответствующей основному настроению каждого времени года. Конечно, у музыкального построения произведений Бобровского и свои, немецкие корни — подобная музыкальность в построении эпических произведений распространена в немецкой литературе, особенно XX в. (Томас Манн, А. Дёблин, австрийцы Брох, Додерер и др.). Однако в данном случае эта традиция сращена и с литовской напевностью, своеобразной ритмикой, являющейся стержневой опорой местного искусства. Точнее говоря, музыкальность — это то, где обе традиции сходятся, протягивают друг другу руки.
Литовская традиция сфокусирована именно в поэме Донелайтиса «Времена года». Описания пейзажей в начале каждой части здесь — как увертюры: Весна — это мажорное аллегро, Лето — анданте, Осень — полное тревоги престо, Зима — печальный и скорбный марш с переходом в задумчивую лирическую песнь.
И еще один момент художественной палитры Донелайтиса бросается в глаза в связи с особенностями поэтики Бобровского. Это чрезвычайно широкий, почти пестрый словарь поэта, соединяющий в себе возвышенную архаику, монументально воздействующую в связи с заданной гекзаметром величавой интонацией, с самой простецкой, бытовой разговорностью.
Совпадает, конечно, и главное — пафос социальной справедливости, провозглашаемой любой великой литературой любого народа и времени. Как раз в этом пафосе, в единстве его утверждения — залог того будущего, «когда народы, распри позабыв, в счастливую семью соединятся». В этом пафосе — проникающее сквозь века животворное излучение классики, прометеев огонь, передаваемый из века в век и из одной страны в другую. Изначальное равенство человека равно провозглашают в XVIII в. литовец Донелайтис и в XX в. вдохновленный им немец Бобровский. У Донелайтиса этот мотив звучит вполне современно: Мы-то ведь знаем, небось, каковыми рождаются люди:
Лапотник — так же, как барин, на свет является голым,
Голым родится король, как из подданных нищий последний.
Нищий — так же, как барин хитрейший, рождается глупым,
Кормятся оба они, небось, молоком материнским,
Оба — барчук на шелках, на соломе — младенец крестьянский —
Плачут, пока разуметь они не начнут мало-мальски.
Аналогии поэтической системе Донелайтиса в европейском искусстве прошлого можно, конечно, подыскать, но они лежат скорее за пределами литературы — в живописных полотнах Брейгеля и некоторых «малых голландцев», в возрожденческом реализме графики Ганса Гольбейна Младшего. Далекий литературный прообраз столь обстоятельно раскрытой темы сельского труда — это, бесспорно, «Георгики» Вергилия, величайшего поэта древнего Рима, привлекательного для пастора Донелайтиса и христианина Бобровского и тем, что за ним закрепился легендарный ореол первого в мировой литературе провозвестника христианства. Вергилий — Донелайтис — Бобровский — это вполне реальная эстафета духа — духа гуманности, видящей цель в гармонии на основе созидательного мирного труда, людской взаимовыручки и взаимной приязни.
Но от пасторально-созерцательного Вергилия и по-христиански утопичного Донелайтиса Бобровский все же отличен. В основание взаимопонимания между людьми и целыми народами он кладет пролетарскую солидарность — солидарность тех, чьим трудом и движется развитие цивилизаций. Дружба Фойгта и Гавена с Пошкой имеет перспективы лишь постольку, поскольку незыблемы солидарность и дружба литовского батрака Антанаса и немецкого каменщика Генника. Важное символическое значение приобретает в романе и любовь литовского учителя Пошки и немецкой девушки Туты Гендролис.
Рожденная социальными потрясениями XX в. пролетарская солидарность, показывает Бобровский,— явление мощное и перспективное, только ему принадлежит будущее. Всякого рода либерально-утопические прожекты, коих немало было в прошлом, как, например, те, что принадлежат созданному в XIX в. Немецко-литовскому обществу, себя не оправдали и ни к чему не привели. Пролетарская солидарность, однако, возникла не на пустом месте, она всеми корнями своими уходит в народную психологию, в выработанные веками заповеди народной морали. Но там же основы и всякого великого явления литературы и искусства, переживающего века и продолжающего свою гуманистическую работу по воспитанию человека в меняющихся условиях мира. Культура и народ, таким образом, неразрывны и вечны. И для общего прогресса человечества не безразличны подлинные достижения культуры любого народа, сколь мал он бы ни был. Бобровский постарался показать это на примере литовского народа, который был ему особенно близок.
«Просто поразительны знание и ощущение Литвы на страницах романа!» — восклицает М. Слуцкие. И далее свидетельствует: «Вот романист манипулирует памятниками древней культуры, вот смело оперирует ситуациями и опытом нового времени. То он смотрит на Литву как унаследовавший демократические традиции немец Фойгт — широко, просветительски, философски, то выдвигает целую вереницу всевозможных взглядов и решений, в том числе и таких, что свойственны рабочим, и это звучит по-новому и неслыханно в немецких литературных источниках о Литве... За исключением отдельных и совершенно незначительных деталей и фактических неточностей в этом романе, Бобровского не в чем упрекнуть — он великолепно дирижирует и интеллектуальной беседой, и историческими реминисценциями, и сложными национально-социальными отношениями того края».
Неверно было бы, однако, ставить знак равенства между народностью и общедоступностью. Поэты разных столетий могут вдохновляться сходными идеями, но поэтический язык, выразительные средства им диктует эпоха. Гекзаметры Донелайтиса все же отличаются большей степенью усложненности от фольклорных форм, хоть и, очевидно, замешаны на фольклоре. В XVIII столетии они были понятны далеко не всякому читателю или слушателю, так же как в веке XX для многих труден достаточно сложный поэтический язык Бобровского — игра лейтмотивами, монтаж, ассоциативность видения и изображения. Роман, в центре которого план оперы о Донелайтисе, построен автором в соответствии с принципами построения музыкального произведения — это уже отмечалось. Конкретное проявление этого принципа выглядит следующим образом: девять глав романа распадаются на триаду — экспозиция, собственно действие, его осмысление, или «рефлексия». Отдельные темы романа образуют прерывистую, постоянно перебиваемую вставками мелодию. Отдельные персонажи вступают по очереди, как инструменты в симфонию. Распознаются они иной раз лишь благодаря скрепленными с их образами лейтмотивами. Таков, например, горлопан-фашист с его «Блажен, кто верит, в муке, кто мелет». «Итак» в начале каждой главы или абзаца звучит как синкопа. «Низ» и «верх» организованы, как в фуге, по принципу контрапунктности, где на каждый ход верхнего ряда находится свой уравновешивающий противоход ряда нижнего. Фольклорная наивность и бытовая простота сменяются здесь туманными наплывами интеллектуализма и привычной немецкой книжностью, глубоко укоренившейся в традициях немецкой прозы.
В конце романа «Литовские клавиры» — поэтологический кунстштюк: автор выстраивает воображаемую тригонометрическую вышку, позволяющую преодолевать по только пространство, но и время. Сцены сельской свадьбы из поэмы Донелайтиса (относящиеся к сильнейшим, наиболее прославленным ее местам) оживают в современности, оживает и сам великий литвин, лицом и манерами похожий на Пошку. Единство времени и пространства предстает не как потерянный рай, но как искомое, как свершение будущего, как историческое задание, что особенно важно для мастера социалистической культуры, каким был Бобровский. В этом историческом движении вперед, показывает писатель, важно не утратить высокий взгляд, завещанный великими мастерами европейской культуры прошлого от Баха до Донелайтиса, важно сохранить этот взгляд подлинной гуманистической культуры, дающий точный масштаб для оценки явлений жизни: «О заботы людей! О, сколько на свете пустого!».
Широта обобщений, высокая перспектива и удерживает Бобровского — как удержала в свое время Донелайтиса — от почвенничества, соблазн которого — при столь горячей приверженности одному и тому же краю — был, казалось, столь велик для обоих. Прав М. Слуцкие: «Литва, отдельный объект любви, явится для него своего рода проводником чувств и фантазии в гораздо более широкий, чуть ли не бескрайний поэтический и гуманистический мир Восточной Европы. За родным Тильзитом, за родным Неманом простиралась Литва, и лишь если постичь ее, откроется путь в далекие страны...».
И все же создания духа, рожденные из недр самой жизни, из соприкосновения с конкретной действительностью конкретного места, всегда несут на себе отпечаток этого места. Проза Бобровского — типично северная, прибалтийская немецкая проза, она не могла бы появиться ни в каком другом месте. Чем-то неуловимым, каким-то своим особым ритмом и складом, особым чередованием важнейших для ее атмосферы судьбоносных стихий — света, воды, земли — она напоминает — при всех очевидных индивидуальных различиях и разнице методов — прозу Эдгара Шапера и Гауптмана, Бергентрюна и Ганса Генни Янна и в то же время пейзажи Барлаха или Чюрлениса.
Было бы странно, если бы подобная проза не возникла на литовском языке. Она и, если верить специалистам, возникла. В не раз уже цитированной статье М. Слуцкиса, например, дается развернутое сопоставление романов Бобровского и романной хроники Евы Симонайтите «Судьба Шимонисов». Немецкий писатель и литовская писательница, почти ровесники, ничего не знали друг о друге, но в созданных ими произведениях обнаруживается великое множество совпадений, обусловленных единством места и времени, которые их породили.
Но, может быть, еще интереснее взглянуть на прозу тех литовских авторов, которые не только знали о существовании Бобровского, но и использовали его уроки — осознанно или подсознательно, прямо или опосредованно. Снискавшая себе добрую славу литовская прозаическая школа последних двух десятилетий сложилась на поэтических путях, которые указывают на ее родство именно с Бобровским. Может быть, даже именно Бобровский осуществил ту прививку наимодернейших экспериментальных форм традиционным формам несколько тяжеловесного литовского эпоса, прививку, которая прежде всего бросается в глаза наблюдателям современного литовского романа. Вот, к примеру, мнение Л. Аннинского: «Мне всегда казалась парадоксальной тяга литовских романистов к текучей и блестящей проблематике „большого города“ — сквозь этот текучий блеск все-таки слишком просвечивает у них изначальная, земная, спонтанно-эпическая, крестьянская тяжеловесность, идущая скорее уж от Донелайтиса и плохо совместимая с психологическим кружевом, имеющим спрос на литературном рынке нашего времени.
Но факт есть факт. Как сказал Альгимантас Бучис, симбиоз совершился: тончайшая тень европейских поветрий начала века пала на литовское поле; его натуральный рельеф покрыт вуалью психоанализа, пронизан потоками ассоциативного мышления, перепахан с помощью современной литературной техники, среди приемов которой главенствует внутренний монолог».
Здесь все верно, не хватает только одного слова, вернее, имени, которым можно открыть проблему, как ключом. Это имя — Бобровский. И «вуаль психоанализа», наброшенная на «натуральный ландшафт», и «потоки ассоциативного мышления», и «внутренний монолог» — все это о нем, как и приверженность к некоторой крестьянской тяжеловесности, роднящая его именно, как мы видели, с Донелайтисом.
В другой своей статье Л. Аннинский пишет о «литовской школе» так: «„Школа“ берет свое: каждый новый выходящий в Литве роман воспринимается не просто как отдельное произведение, но как звено в цепочке, как подтверждение ожиданий, как шаг в разгадывании того, что исследователи сочувственно называют „смелым экспериментом“ и что еще недавно казалось чуть не вызовом романической традиции. Критики по-разному определяли суть того качественного скачка, который произошел в литовской прозе 60-х годов и вывел ее в центр всесоюзного процесса. Писали, что морально-психологические критерии вторглись в царство типажности (А. Радзявичус), что „огромные залежи исторического и бытового материала“ были взорваны с помощью „психологической анатомистики“ (В. Кубилюс), что „многоплановый роман рассыпался“ от вторжения „лиризации“ и от тяги к „загадкам подсознания“ (А. Бучис)».
И опять — каждая приведенная здесь черта словно бы точно взята из поэтологической характеристики Бобровского. Конечно, было бы наивным преувеличением полагать, что всеми своими новшествами и экспериментами «литовская школа» обязана одному Бобровскому. Один писатель, сколь бы он ни был значителен, вообще не в состоянии произвести переворот в чужой национальной литературе, всегда развивающейся на своих, органически присущих именно этой литературе основах. Многое, что называется, «висело в воздухе», многое проникало из более интенсивного знакомства с русской и западной литературой XX в. Но и без влияния Бобровского, конечно, не обошлось: вспомним, ведь именно в 60-е годы началась мировая слава немецкого писателя, который благодаря своей тематике не мог не пользоваться особым вниманием в Литве. Он им и пользовался, как говорят о том вышеприведенные свидетельства М. Слуцкиса и Ю. Марцинкявичуса. Да и как могло быть иначе, если у Бобровского и современных литовских прозаиков общий ствол тех самых национальных, или, в данном случае точнее будет сказать, краевых, культурных традиций, который обеспечивает не просто взаимное любопытство друг к другу, но изначальное, кровное родство интересов и поэтических представлений.
О корнях этих традиций задумывался критик А. Бучис: «Что для земледельческого народа, каким испокон веков являются литовцы, означает земля, можно судить уже по простейшему факту: слово „земля“— наиболее часто употребляемое слово в литовской поэзии с самых древних времен по сегодняшний день (оно встречается в каждом втором стихотворении!). Быть может, в постоянстве этом просвечивают отблески литовского мифического воображения, где земля представлялась всего лишь „тарелкой“ посреди буйных ветров и беспокойных вод? А может быть, так дает знать о себе земледельческое мироощущение с постояннейшей и освященной трудами землею в центре?
Как бы там ни было, но тема земли издавна занимает центральное место в литовской литературе. Звучание ее даже крепло по мере того, как отмирали мифы и земля для литовского народа все чаще переставала быть спокойно и мирно обрабатываемым плодоносным пространством, все чаще становилась ареной жесточайшей классовой борьбы и войн».
Критик сформулировал эти положения в связи с романами В. Бубниса «Жаждущая земля», «Три дня в августе» и «Цветение несеяной ржи», в которых показан трудный путь литовского крестьянства от безземельности и батрачества через создание первых колхозов, сопротивление фашизму, освобождение Литвы от немецких оккупантов к строительству новой жизни. Тема «немцы и литовцы» сходным с «Литовскими клавирами» образом затронута и здесь, хотя Бубнис — художник среди молодых литовских авторов, пожалуй, один из самых традиционных и Бобровского в этом отношении может напоминать лишь некоторыми приемами (контрапункт) композиционного построения своих романов.
Ближе Иоганнесу Бобровскому его литовский тезка Йонас Авижюс — пожалуй, наиболее известный литовский романист нашего времени, лауреат Ленинской премии. Его роман «Потерянный кров» (1973) воспринимается как продолжение «Литовских клавиров». Уже взятый из литовской народной песни эпиграф к роману настраивает на поэтическую волну Донелайтиса — Бобровского:
Веет свежий ветерок
С запада, с востока.
Вей же, ветер, потихоньку,
Спит под кленом паренек.
Но начинаем читать сам роман — и словно вступаем в знакомый по «Литовским клавирам» мир. Прошло всего несколько лет с тех пор, как Фойгт и Гавен навещали Пошку в его деревне, размышляя об опере, о песеннике-чародее и великом гуманисте Донелайтисе. Немцы оккупировали Литву, которую вынуждены были оставить советские войска. Как по-разному проявляют себя в этой ситуации разные литовцы, словно бы следуя намеченному в романе Бобровского социальному размежеванию. Тут и «красный» Марюс, ушедший в партизаны, и кулак-кровопиец Кяршис, и уязвленный болью за человечество учитель Гедиминас — собрат Пошки, и его ничтожный коллега, выдавший Гедиминаса гестаповцам, оправдываясь, по обыкновению, «детишками», и охотно сотрудничающий с фашистами Адомас, ставший начальником полиции и с этих пор неуклонно сползающий в моральную бездну бесчеловечности. «Немцы» представлены подробнее и обстоятельнее всего гестаповцем Дангелем, развивающим философию расового превосходства, но в «фоне» обрисованы и вполне человечные лица околпаченных и подневольных «нижних чинов».
Но у Авижюса совпадает с Бобровским не только галерея лиц, взятых в пределах одного десятилетия и в одном и том же месте. Совпадает и повествовательная интонация, самый «диктус» прозы, сказывающийся в неназойливости, но внятности авторской позиции, дающей возможность «высказаться» и множеству других точек зрения. Точно как в прозе Бобровского, Авижюс вводит героя в очередной эпизод, не называя его по имени. Он как бы подключает читателей к очередному потоку сознания, лишь помечая этот поток какими-нибудь характерными штришками, словесными опознавательными знаками, вроде «Блажен, кто мелет» — у его немецкого предшественника. «Отсюда, — пишет Л. Аннинский, — ощущение какой-то единой, обволакивающей всех героев психологически сгущенной атмосферы — черта новой литовской прозы, о которой М. Слуцкие хорошо сказал: съемка под водой — погружение в глубину, где подсознательное соединяется с типологическим, а традиционная для романа сетка социальных отношений начинает освобождать совсем иную энергию и выявлять совсем иные связи: морально-психологические». И опять напрашивается сравнение с Бобровским, без которого наблюдение критика становится — при всей тонкости — как бы даже и не очень обеспеченным запасом истины, во всяком случае, теряет в существенности: ведь Л. Аннинский думает, что прием этот изобретен — в применении к «местному» материалу — Авижюсом, в то время как он в какой-то мере позаимствован у Бобровского.
Есть в этих двух романах не только совпадения приемов, не только общих лиц, описанных мест, идейного пафоса — гуманистического, интернационалистского, но совпадения и конкретно-идеологические. Так, занимающие немало места в романе Авижюса, характерные для части литовской интеллигенции метания Гедиминаса между националистическими и индивидуалистическими иллюзиями по-своему воспроизводят аналогичные колебания члена немецко-литовского общества Гавена — в тот период его идейного развития, когда он еще не принял гуманистической программы Фойгта.
И еще один общий момент из той же сферы — идеологический. Это отношение к почвенничеству. Ах, как часто ведет этот слепой, местнический ура-патриотизм к моральной неразборчивости в средствах, идеологическое почвенничество — к моральной беспочвенности. Если носить в душе своей только свою узко понятую родину, а не весь мир, то недолго озлобиться на соседей, начать видеть в одном соседе, допустим справа, — наковальню, а в другом, слева, — молот. Опасность такой позиции показал Бобровский в образе Неймана и отчасти раннего, незрелого Гавена, а Авижюс — в образе Кяршиса и отчасти раннего, незрелого Гедиминаса.
Но параллелями с Бубнисом и Авижюсом связь Бобровского с современной литовской прозой не исчерпывается. Нет, речь идет действительно о связях с целой школой, отдельные представители которой напоминают о своем немецком предшественнике разными гранями своих поэтических миров. Если речь идет об Альфонсасе Беляускасе, «Каунасский роман» которого, написанный почти ритмизованной прозой, напоминает изящную рапсодию, то такой связью с Бобровским кажется музыкальность повествовательного тона и ассоциативность в построении лирической исповеди. Если же героем сопоставления становится сам М. Слуцкие, более других литовских авторов думавший и написавший о Бобровском, то на первом плане оказывается сходство «психологической атомизации», которое можно проследить, например, сличая «Литовские клавиры» с романом Слуцкиса «На исходе дня». Критик Е. Книпович справедливо говорит о нем в контексте общих устремлений литератур социалистических стран, которые приводят к раздумьям о том, «что определяет личную человеческую судьбу и в связи с этим „на чем стоит мир“, что такое доброта, совесть, как такие категории соотносятся с социальной функцией человека». Это верно, как верно и то, что в начале поворота литератур социалистических стран к этой проблематике наряду с другими стоял и Бобровский.
Напомнил о Бобровском и недавно вышедший роман Антанаса Дрилинги «Баловень судьбы» (1982) — первый роман известного литовского поэта, посвященный теме становления современного интеллигента.
Поэтическая специализация Дрилинги, как Бобровского, и обусловила, может быть, проявление в их прозе черт не только сходства, но и какого-то глубинного родства. У Дрилинги тоже полифоническая многофигурность построения, тоже постоянное, на музыкальный манер осуществленное сопряжение разрозненных и неслиянных внутренних монологов — лирических партий, тоже тщательно разработанная лейтмотивика, работающая с отдельными вещными деталями как с символами. Такова, например, доставшаяся герою от отца гармоника, выступающая в повествовании как символ особого музыкального лада — гармонии детства, славного прошлого, сельской жизни, представляющейся взрослому городскому человеку каким-то потерянным раем. Детство героя — это как бы слой пасторально-идиллического при всей своей трезвости Донелайтиса. Городская, интеллектуальными заботами наполненная жизнь, вспоминающая подчас о том сельском рае, не теряющая с ним связи, — слой Бобровского. Действие традиции не обрывается.
А стало быть, еще представится не одна возможность вернуться к намеченной здесь теме с большей обстоятельностью и подробностью. Пока же важно констатировать: творчество Бобровского и некоторые типологически сходные явления в современной литовской прозе представляют собой редкий по богатству оттенков пример плодотворного взаимодействия двух соседних социалистических культур на основе творческого освоения демократических заветов и эстетических традиций классики.
Л-ра: Роль прогрессивных литературных традиций в развитии и взаимообогащении социалистических культур. – Москва, 1986. – С. 293-311.
Произведения
Критика