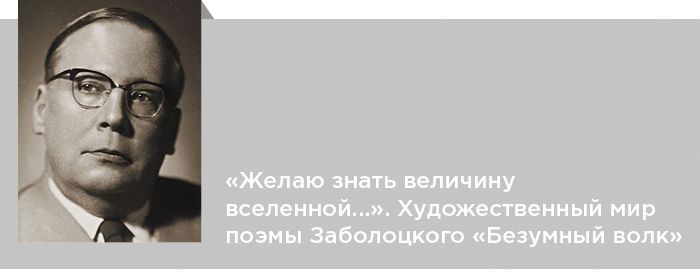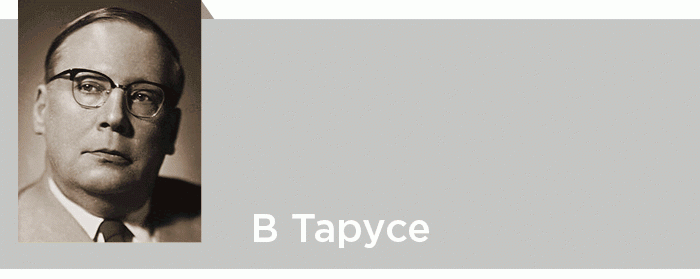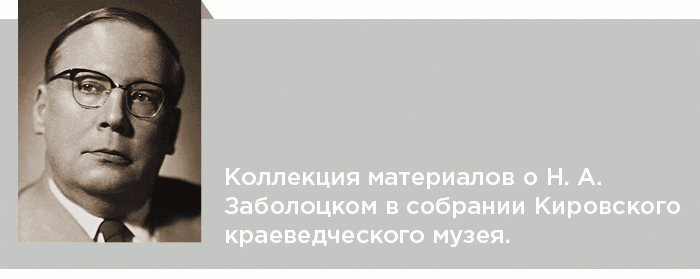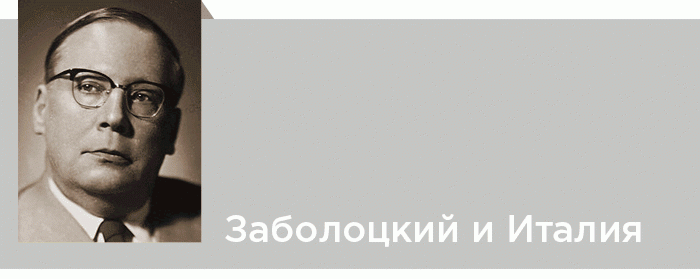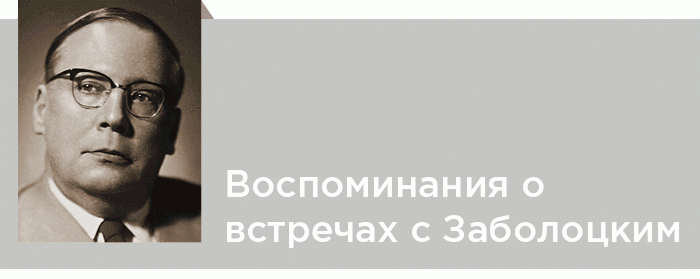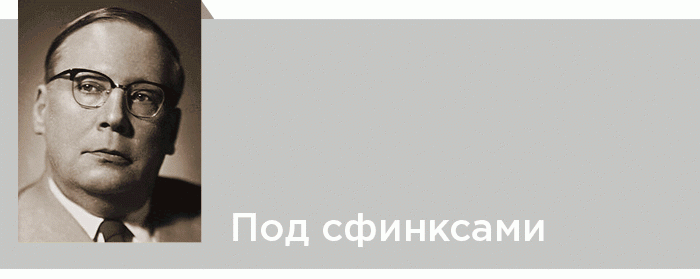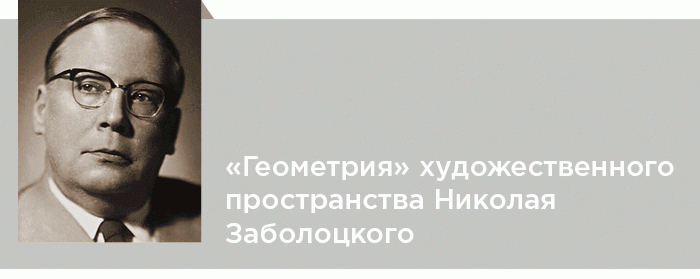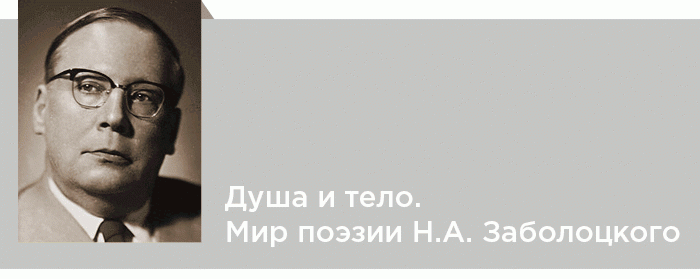Восток и запад в поэме Н. Заболоцкого «Рубрук в Монголии»
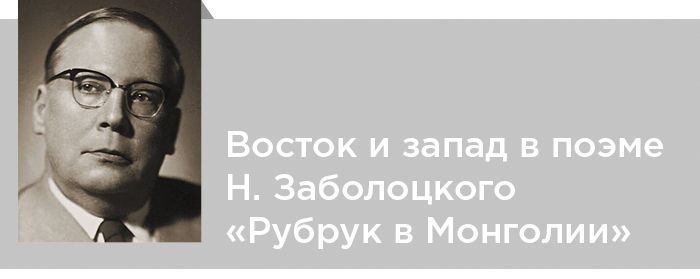
Известно, что основным источником для создания "Рубрука в Монголии" Н.А. Заболоцкому послужило описание путешествия в Монголию 1253-1255 гг. монаха-минорита Гильома де Рубрука, названное им "Путешествие в восточные страны". Однако кроме него Заболоцкий обращался и к "Истории монгалов" Плано Карпини (1245-1247), и, видимо, к "Естественной истории" Плиния Старшего, имя которого упомянуто в поэме и откомментировано поэтом в примечаниях к рукописи поэмы.
Очевидно также, что интерес Заболоцкого во второй половине 1950-х гг. к древним монголам был рожден и автобиографическими воспоминаниями о драматических годах заключения и ссылки самого поэта. Светлана Шелухина по этому поводу замечает: "…близость между автором и Rubrucius рождена географической близостью. Они оба посетили (каждый в свое время): и обширную Сибирь, и Дальний Восток, и степи Монголии соответственно. Поскольку заключенный ГУЛАГА, Zabolotskij путешествовал на Дальний Восток и затем, в Казахстан - он проделал почти тот же самый маршрут, что и французский монах, который путешествовал семью столетиями ранее. Оба рейса происходили в наиболее драматические периоды истории человечества". И все же, на наш взгляд, задача Заболоцкого-поэта была более широкой, нежели задача географического отождествления древней Монголии с просторами Сибири и Дальнего Востока, в середине XX в. входившими в состав уже не монгольского, но сталинского государства.
Замысел, степень социально-исторического и философского обобщения в поэме свидетельствуют о присутствии в ней собственно художественной концепции, нашедшей свой отпечаток в структуре текста. В этой связи попытаемся всмотреться в текст "Рубрука в Монголии" более пристально. Смысл названия "Рубрук в Монголии" можно расшифровать как "европеец в Азии" или "европеец на Востоке". Эта ситуация, богатая по своим внутренним художественным возможностям, является привлекательной прежде всего с позиции изображения контрастов, которые достаточно ярко представлены в поэме. Так, в главе "Начало путешествия" читаем:
Небось в покоях Людовика
Теперь и пышно и тепло,
А тут лишь ветер воет дико
С татарской саблей наголо.
Очевидно, что покои Людовика IX становятся здесь знаком европейской культуры и цивилизации, "ветер с татарской саблей наголо" - знаком незнакомого, чуждого и более того, - смертельно враждебного для европейца мира. И все же прием контраста не является преимущественной целью для автора "Рубрука в Монголии". Контраст для него - лишь средство для воплощения более сложной идеи.
И реальное, и поэмное путешествие Рубрука должно было закончиться в столице Монгольского государства - городе Каракоруме. Однако прежде чем попасть туда, нужно было проделать трудный и опасный путь. Именно об этом Рубрука совсем по сказочному предупреждают птицы и ель в главе "Начало путешествия":
"Вернись, Рубрук!" - кричали птицы.
"Очнись, Рубрук! - скрипела ель. -
Слепил мороз твои ресницы,
Сковала бороду метель.
Тебе ль, монах идти к монголам
По гребням голым, по степям,
По разоренным этим селам,
По непроложенным путям?
Эта попытка предуведомить монаха не случайна. Поскольку дорога, в которую все же отправляется Рубрук, чревата многими опасностями. И даже больше, чем опасностями. Это не просто авантюрное путешествие в неведомые земли, это была дорога в ад. "Чингисов путь", который распахивается перед Рубруком по мере продвижения по нему, оборачивался жутковатым путешествием по своеобразным "кругам ада":
В глуши восточных территорий,
Где ветер бил в лицо и грудь,
Как первобытный крематорий,
Еще пылал Чингисов путь.
Еще дымились цитадели
Из бревен рубленных капелл,
Еще раскачивали ели
останки вывешенных тел.
Еще на выжженных полянах,
Вблизи низинных родников
Виднелись груды трупов странных
Из-под сугробов и снегов.
Рубрук слезал с коня и часто
Рассматривал издалека,
Как, скрючив пальцы, из-под наста
Торчала мертвая рука.
Исследователи "Рубрука в Монголии" неоднократно указывали, что Заболоцкий совмещает в своем тексте XIII и XX век. Но самым интересным и неразгаданным до сих пор, остается вопрос, как он это делает. Ведь по существу, в поэме несколько исторических пластов, на что указывает прежде всего ее лексический состав. Скажем, "крематорий" - понятие, принадлежащее фашистской Германии периода имперских войн, "генералиссимус" - реалия, рожденная уже советской имперской идеей. А, скажем, ям - знаком читателю как факт российской дорожной жизни. Тем не менее, все они уживаются в составе "средневекового" сюжета. Более того, называя монгольского хана "генералиссимусом степей", Заболоцкий не просто модернизирует средневековье. Нет. Для него это - способ переключить смысловые регистры. Текст в такие моменты приобретает историческую перспективу и глубину. Таким образом, оставаясь средневековым монахом, Рубрук Заболоцкого, погружается не только вглубь восточных территорий, но и в бездну истории, простертую не назад, а вперед.
Возвращаясь к Рубруку, отправившемуся в Монголию как в ад, нужно сказать, что подобное представление Заболоцкого о европейце, впервые попавшем в Азию, в историческом смысле оказывается предельно точным. Путешествие в средневековую Монголию действительно мыслилось как предприятие, сопряженное с громадным риском, прежде всего потому, что в это время европейцы впервые для себя открывают азиатский мир ранее абсолютно неведомый им. Причем происходит это в ситуации экстремальной, когда азиатский мир в начале XIII в. заявляет о себе как о реальном претенденте на мировое господство. Разорение Руси, осада Киева, вторжение в Польшу и Венгрию были восприняты Европой как реальная угроза сложившемуся миропорядку цивилизованного европейского мира.
С ужасом наблюдая за монгольским нашествием, средневековая Европа воспринимала его апокалипсически. Так, например, Матфей Парижский в "Великой хронике" о 1240 годе писал: "… в тот год люд сатанинский проклятый, а именно бесчисленные полчища тартар, внезапно появился из местности своей, окруженный горами; и пробившись сквозь монолитность неподвижных камней, выйдя наподобие демонов, освобожденных из Тартара (почему названы тартарами, будто "[выходцы] из Тартара"), словно саранча, кишели они, покрывая поверхность земли" [1]. В другом месте он же назвал татар "восставшими демонами" (С. 146), "спутниками дьявола" (С. 160). Людовик IX также называл татар "выходцами из Тартара" (ада). Матфей Парижский же изображал монголов на конях, чьи хвосты увенчаны змеиными головами. Так могло представляться только войско Антихриста. Таким образом, для Европы монголы представали глубоко чуждым миром с нечеловеческим, и более того - дьявольским лицом.
И если вторжение монголов на европейскую территорию средневековым сознанием было маркировано образом разверзшегося ада и вырвавшимся оттуда антихристовым войском, то Заболоцкий, изображая путешествие монаха-минорита к монголам, использует инверсию. Путь Рубрука становится путем Чингисхана, но пройденным в обратном порядке: из Европы через Русь в Каракорум, т.е. оборачивается нисхождением в ад. Об этом свидетельствует и чрезвычайно важный в структуре поэмы образ Гогов и Магогов, который появляется уже в первой главе "Рубрука" - "Начало путешествия":
Тут ни тропинки, ни дороги,
Ни городов, ни деревень,
Одни лишь Гоги да Магоги
В овчинных шапках набекрень!"
В примечаниях самого Заболоцкого, которыми он сопроводил рукопись "Рубрука в Монголии" находим весьма скупой комментарий: "Гоги и Магоги - мифические народы, населяющие северные страны" (I, 630). Но для того, чтобы понять значение этого образа в поэтической концепции "хождения Рубрука в ад" здесь необходимо вспомнить, что образ этого мифического народа был устойчиво связан с апокалипсическим завершением исторических времен. Образ Гогов и Магогов появляется в книге пророка Иезекиля (гл. 39) и Откровении св. Иоанна (гл. 20), в которой читаем: "И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет <…> Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской".
В римской и средневековой географии Гог и Магог устойчиво воспринимается как неправедный, нечистый народ, с которым пришлось столкнуться Александру Македонскому (этот сюжет отражен в романе об Александре), и который заточил народ Гог и Магог в Каспийских горах за специально воздвигнутыми Железными воротами (г. Дербент). Т.е. средневековая традиция помещала Гога и Магога в Азию. А их пришествие в день Страшного суда должно, как казалось, принести гибель миру.
Итак, горные проходы Кавказа, закрывавшие путь степным народам, превращаются в христианских мифах в Железные ворота Александра. Именно преграда Александра является одной из средневековых универсалий, отражающей представления об ограниченности освоенного человеческой культурой пространства. Каспийские горы становятся легендарными горами, сдерживающими силы хаоса. И как только речь заходит о запертом народе, средневековый автор с легкостью отождествляет его с Гогом и Магогом, народом, угрожающим разрушением Европы.
Так, средневековый мыслитель XIII в. англичанин Роджер Бэкон в "Великом сочинении" писал: "И эти места с лежащими между ними горами называются воротами Александра, за которыми он заточил северные народы, чтобы они не обрушились на южные земли, разоряя их" [2]. В период нашествия монгол средневековые европейцы с Гогом и Магогом стали отождествлять татаро-монгол, напавших на европейские государства из-за кавказских гор. Так, например, в "Послании некоего венгерского епископа парижскому епископу", относящемуся к апрелю 1242 г. читаем: "Я отвечаю Вам о тартареях, что они пришли к самой границе Венгрии за пять дневных переходов и подошли к реке <…>, через которую перебраться не смогли. <…> из них двое были схвачены и отправлены к государю королю Венгрии, и были они у меня под стражей; и от них я знал новости, которые вверяю Вам. Я спросил, где лежит земля их, и они сказали, что лежит она за какими-то горами и расположена близ реки, что зовется Эгог; и полагаю я, что народ этот - Гог и Магог. Я спросил о вере; и чтобы не распространяться, скажу, что они ни во что не верят; и они начали говорить, что они отправились на завоевание мира" [3]. С подобным же отождествлением сталкиваемся и в "Истории монгалов" Плано Карпини.
Заболоцкий прямо отождествляет Гогов и Магогов с монголами в "овчинных шапках набекрень". Однако вместо мифических Каспийских гор сдерживающих силы хаоса, олицетворенного в образе народа Гог и Магог, таким сдерживающим элементом в структуре поэмы Заболоцкого становится Русь. В подобном представлении явно ощутимой становится традиция не столько средневековых европейцев, сколько концепция Пушкина, размышлявшего по этому поводу: "России определено было высокое предназначение… Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь, и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией…" (7, 306). Именно Россия, Русь смогла сделать то, чего не сумели сделать мифические каспийские горы: остановить нашествие монголов на Европу.
Об особом месте образа руси в "Рубруке" свидетельствует и следующий факт. Исторический Рубрук разоренной Руси не видел. Не видел просто-напросто потому, что его маршрут пролегал гораздо южнее границ Киевской Руси. И, начав путешествие из г. Судак, Рубрук сразу же попал на территорию улуса Джучи, т.е. Золотой орды, минуя Русские княжества. Однако разоренный Киев видел другой европеец. Свидетельство об этом оставил не Рубрук, а Плано Карпини, который писал в "Истории Монгалов": "… они пошли против Руссии и произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был столицей Руссии, и после долгой осады они взяли его и убили жителей города; отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве". (с. 46-47). Заболоцкий, не придерживающийся исторических фактов, достигает в данном случае более важной для него художественной достоверности. Перепоручая своему Рубруку впечатление, принадлежащее Плано Карпини, Заболоцкий подчеркивает: именно эта разоренная Русь создала заслон Европе.
Итак, Рубрук Заболоцкого видит разоренную и разграбленную Русь. Но Русь для европейца Рубрука - это только чужое горе, увиденное почти равнодушными глазами:
А он сквозь Русь спешил упрямо,
Через пожарища и тьму,
И перед ним вставала драма
Народа чуждого ему.
Цель миссии Рубрука своя собственная, никак не соотносимая с драматической судьбой Руси: он должен установить контакт с монгольскими ханами, по возможности, обратить их в христианскую веру и не допустить нашествия на Европу. И в этой попытке Европы договориться с Азией места для Руси нет. С ней никто не считается. Защитников у Руси нет.
Не стало больше песен дивных,
Лежал в гробнице Ярослав,
И замолчали девы в гривнах,
Последний танец отплясав.
Русь в силу своего рабски ничтожного положения не может даже претендовать на участие в этом диалоге двух цивилизаций. В мировом раскладе политических сил ее никто не учитывает: ни Европа, ни Азия. Для монгольских ханов Русь - только данница. Для Рубрука это только та территория, которую нужно преодолеть, чтобы попасть к монголам. Зрелище разоренной Руси, "первобытного крематория" для него - лишь "драма, народа чуждого ему". Это - один из кругов ада, Тартара, в который решительно углубляется Рубрук. Кульминацией рубруковского нисхождения в ад становится глава "Движущиеся повозки монголов". До сих пор Рубрук видел только гибельные последствия монгольского нашествия, теперь он сталкивается с монголами лицом к лицу. И важно, что это происходит в ситуации не военной, а мирной и даже обыденной для кочевого образа жизни. Но от этого впечатление Рубрука не становится менее оглушительным. Вот каким видит передвижение степной орды Рубрук:
Навстречу гостю, в зной и в холод,
Громадой движущихся тел
Многоколесный ехал город
И всеми втулками скрипел.
Когда бы дьяволы играли
На скрипках лиственниц и лип,
Они подобной вакханальи
Сыграть, наверно, не смогли б.
В жужжанье втулок и повозок
Врывалось ржанье лошадей,
И это тоже был набросок
Шестой симфонии чертей.
Орда - неважный композитор,
Но из ордынских партитур
Монгольский выбрал экспедитор
C-dur на скрипках бычьих шкур.
Смычком ему был бич отличный,
Виолончелью бычий бок,
И сам он в позе эксцентричной
Сидел в повозке, словно бог.
Что именно видит и слышит Рубрук? Он сталкивается здесь, как ему кажется, с "вакханальей", с "громадой движущихся тел". Для характеристики монгольской орды он использует понятия, соотносимые с образом ада: "дьяволы", "черти". Но под этой дикой какофонией кочевого быта и бытия Рубрук стремится уловить очертания, которые он мог бы соотнести с архетипами европейской культуры. Описывая передвижение монгольских повозок, на которых водружены неразборные юрты, он сравнивает их с многоколесным городом. И город для Рубрука - артефакт именно европейской культуры. Исторический Рубрук записал: "…один двор богатого Моала будет иметь вид как бы большого города" (92). Для европейца в подобном сравнении заключено вся реальная разница между двумя типами культуры: западной и восточной, кочевой и оседлой. И более того, эта поражающая воображение европейцев картина движущихся на колесах по степи юрт демонстрировала им мобильный характер кочевой культуры, открытой к мировой экспансии. Многоколесный город монголов в любой момент готов к захвату европейских городов, городов бесколесных.
Звуковому ряду, сопровождающему монгольское кочевье, Рубрук также стремится отыскать место в типологическом ряду евопейской музыки. Он пытается соотнести его с идеей симфонической полифонии. Но вместо гармонического звучания, привычного уху европейца, он слышит многоголосие, мало соотносимое с европейской музыкальной эстетикой. Поэтому то, что он слышит, для него - "набросок шестой симфонии чертей". В данном случае образ шестой симфонии, скорее всего, не соотносится ни с одной из известных в европейской музыке реальных "шестых симфоний", и, видимо, оказывается необходимой Заболоцкому исключительно в нумерологическом смысле. Известно, что цифра шесть является символическим выражением глубинных инфернальных, "адских" смыслов. В звучании "наброска шестой симфонии" главной оказывается характеристика принадлежности иному, нижнему миру.
Здесь было бы любопытно провести параллель с Блоком, который, определяя "дух музыки" как "дикий хор, нестройный вопль для цивилизованного слуха", писал: "Она - разрушительна для тех завоеваний цивилизации, которые казались незыблемыми; она противоположна привычным для нас мелодиям об "истине, добре и красоте". Она прямо враждебна тому, что внедрено в нас воспитанием и образованием гуманной Европы прошлого столетия" (VI, 112).
Нечто подобное блоковскому "духу музыки" ("нестройного вопля для цивилизованного слуха") слышит Рубрук в монгольском движении по степи, которое в какой-то момент становится равным движению самой истории. И подлинное звучание истории вовсе не похоже на стройную архитектонику европейской симфонии. Тональность звучания "кочевого государства" монголов определяется в поэме как до-мажор (C-dur). Музыковеды отмечают, что в европейской музыке c-dur является маловыразительной, "нулевой по своей семантике тональностью". Но в контексте мотивов имперской экспансии именно эта тональность выбрана "монгольским экспедитором" в качестве музыкального аналога воинственномуи героическому монгольскому духу. По замечанию большинства комментаторов "Рубрука в Монголии", образ монгольского нашествия в музыкальном смысле наиболее всего соотносим с известным лейтмотивом "нашествия" из "Седьмой симфонии" Д. Шостаковича, написанной в тональности именно до-мажор.[4]
Важным оказывается и то, что азиатский "дух музыки" невозможно воспроизвести при помощи европейского инструментария:
Когда бы дьяволы играли
На скрипках лиственниц и лип,
Они подобной вакханальи
Сыграть, наверно, не смогли б.
У европейцев скрипки сделаны из "лиственниц и лип", а у монгол - из "бычьих шкур"; виолончель здесь - "бычий бок", а смычком становится "бич отличный". Т.о., с одной стороны, - "вакханалья", а с другой - в хаосе слышимой и видимой "вакханальи" Рубрук стремится уловить черты организованной культуры. И, самое удивительное, что Рубрук, отправляющийся в Монголию как в ад, в конце концов, открывает в ней не хаос, а высокоорганизованный социальный мир, хотя и принципиально иной, нежели европейский. До начала путешествия европеец Рубрук ощущал себя и свой мир в качестве центра мироздания, которому был противопоставлен хаос географической периферии (в полной мере к ней относилась и Монголия). Но реальное знакомство с социальными формами монгольской жизни открывают Рубруку другую картину. В тексте Заболоцкого это открытие выглядит таким образом:
Европа сжалась до предела
И превратилась в островок,
Лежащий где-то возле тела
Лесов, пожарищ и берлог.
Европа предстает здесь в качестве единого тела христианских государств, некогда объединенных в составе Священной Римской империи. Но даже в таком виде Европа оказывается островком, прилепившимся к грандиозному по своему размаху телу совершенно другой империи — монгольской. Европейцы, впервые увидевшие Монголию, открыли, что центром мира оказывается вовсе не Рим или покои Людовика, а «незримый миру азиат». В скобках нужно заметить, что позже в истории эту функцию станет выполнять Россия. Об этом пишет, приводя мнение европейца XIX века, Н.Я. Данилевский: «Взгляните на карту, — говорил мне один иностранец, — разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?»9 Но несмотря на весь ужас, который Рубруку внушает необъятная Монголия, она же вызывает у него и безмерное восхищение:
Но невзирая на молебен
В крови купающихся птиц,
Как был досель великолепен
Тот край, не знающий границ!
Это восхищение великолепием необъятной монгольской империи принадлежит не только Рубруку, но и самому автору (это подтверждено его автобиографической прозой «Картина Дальнего Востока»).
Восхищенный необъятными просторами «восточных территорий» Рубрук, внимательно всматривающийся во внешние проявления чужого образа жизни, угадывает проявление не только разрушительной, но и жизнеорганизующей идеи монголов, воплощаемой ими в идею имперского характера. И этот имперский миф в поэтическом цикле Заболоцкого действительно прочитывается не только как древнемонгольский, но и современный самому автору имперский миф сталинского государства.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Шелухина С. Self-Portrait on the Dome of the Universe (On Nikolai Zabolotskij's Later Poetry) // Алфавит: Вып. 2. К 100-летию H. Заболоцкого: «Странная поэзия» и «странная проза»: гротеск, нонсенс, абсурд в русской литературе. Смоленск, 2003 (в печати).
2 Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1979. С. 157.
3 Матфей Парижский. Великая хроника // Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1979. С. 137.
4 Там же. С. 146.
5 Там же С. 160.
6 Бэкон Роджер. Великое сочинение // Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1979. С. 214.
7 Послание некоего венгерского епископа парижскому епископу // Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1979. С. 153.
8 Плано Карпини. История монгалов. Рубрук де Гильом. Путешествие в восточные страны / Редакция, вступ. ст. и прим. Н.П. Шастиной. М.. 1957. С. 46- 47.
9 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 23.