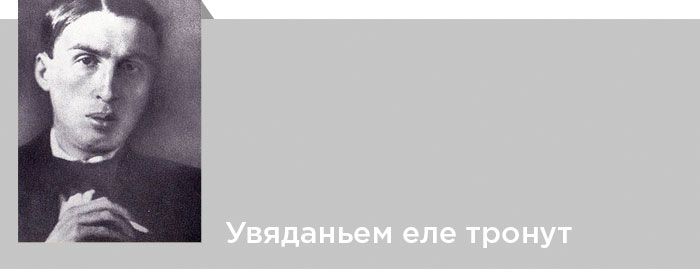Поэтика телесности в лирике Георгия Иванова

УДК 82.161.1Иванов.08
А. А. Хадынская
Соматологический код как культурный феномен становится важной семиотической характеристикой в периоды смены культурных парадигм, в частности в эпоху Серебряного века. В статье доказывается, что поэтика телесности Георгия Иванова напрямую связана с его акмеистическими установками. Акмеизм понимал тело как одно из проявлений Божественного Логоса, непреложную данность, дарованную человеку как знак его связи с Богом. В статье прослеживается эволюция телесных образов поэта. Обнаруживается связь соматологического кода ранней лирики с поэтикой экфрасиса. Позднее же эмигрантское творчество демонстрирует экзистенциальную природу и подчеркнутую автобиографичность телесных образов у поэта. Поэтическая соматология Георгия Иванова, несмотря на свое акмеистическое происхождение, тем не менее имеет четко выраженный символистский оттенок, что связано с влиянием на поэта творчества А. Блока.
Ключевые слова: Георгий Иванов, акмеизм, соматологический код, поэтика телесности, экфрасис.
Somatological code as a cultural phenomenon has become an important semiotical characteristic in periods of changing of cultural paradigms, particularly in the Silver Age of Russian Poetry. It is proved that the Georgy Ivanov's poetics of corporeality is directly related to his Acmeist settings. Acmeism understand the body as one of the manifestations of the Divine Logos, immutable entity, given to mankind as a sign of his relationship with God. The article traces the evolution of bodily images in Georgy Ivanov's poetry. An association of somatological code in early lyrics with poetics of ecphrasis was found. Late émigré art shows existential nature and pronouncedly autobiographical bodily images. Poetic somatology Georgi Ivanov, despite its Acmeist origin, however, has a clear shade of symbolism, due to the influence of Alexander Blok poetry.
Keywords: Georgy Ivanov, Acmeism, somatological code, poetics of corporeality, ecphrasis.
Интерес культуры к человеческому телу проявился уже на самых ранних этапах ее развития. Осваивая внешнее пространство, человек стал считать себя отправной точкой в построении модели мира, соответственно, антропоцентрически он кодировал и окружающую действительность. Таким образом, в мировой культуре сложился своеобразный соматологический «словарь», имеющий национальные и религиозные отличия. Каждая эпоха вносила свой вклад в его пополнение, очередная корректировка параметров картины мира неизбежно отражалась на культурном воплощении телесности.
Феномен человеческого тела, помимо специалистов в области естественных наук, не мог не привлекать внимание и гуманитариев, в частности философов, культурологов и литературоведов, особенно этот интерес активизировался в последние десятилетия [1].
Особую значимость телесный код приобретает в периоды смены культурных парадигм, когда обостряются противоречия в отношениях человека и мира и возникает необходимость «перенастройки» семантических контрапунктов в сознании. В частности, на рубеже ХIХ–ХХ вв. произошел отход от антропоцентрической модели мира и культура модернизма выросла из осознания дискретности мира, трагической судьбы человека на сломе эпох, его пребывания «у бездны на краю». В порубежном сознании доминирует мысль о «распавшейся связи времен» и возврате мира в состояние хаоса. Человек, поддаваясь общим энтропийным процессам, тоже лишается целостности, деформируется, распадается на части. «Осколочное» восприятие действительности транспонируется на ощущение человеческого тела как на «расчлененный» образ, части которого символизируют собою космос, превращающийся в хаос.
Символизм создает свой образ телесности, «растянутый» на двух точках между акцентом на его материальности, «плотскости» и констатацией его распада, «развеществления», «растворении» в трансцендентном. Этот феномен убедительно проанализирован Н. О. Осиповой на примере соматологии А. Блока. Исследователь характеризует телесную образность в творчестве поэта как тяготеющую к авангардной эстетике с тенденцией к «анатомированию», амбивалентностью «живого-мертвого», интересу к изображению больного, страдающего тела и поруганной плоти [2].
В контексте акмеистического мировидения телесность как культурный феномен становится особенно важной семиотической характеристикой. Акмеизм, в отличие от символизма, имел другие исходные позиции, акцентируя принципиально иное отношение к вещному миру и, следовательно, к телесности. Акмеисты исходили из мысли о том, что вещь и сознание соединяются в Слове, Слово есть душа вещи, лишенная телесной оболочки, или же образ вещи в сознании, и задача поэта – выразить мыслимое состояние вещи в Слове. О. Мандельштам считал, что Слово связано с вещью как душа с телом: оно может свободно воплощаться в вещь, а может и покидать его. Задача поэта, следовательно, состоит в том, чтобы прочитать то, что уже написано языком природы и выразить это в Слове. Таким образом, данность вещи (тела) как целостного образа не подвергается сомнению.
Символизм констатировал наступление хаоса и распад земного, вещного мира, отсюда в творчестве его адептов мотив телесной дискретности. Целое тело большей частью изображено у символистов или как поруганное, или как мертвое. Часто оно тяготит человека, мешает ему стремиться к трансцендентному. Например, у Ф. Сологуба читаем: «На прахе охладелом // Былого бытия // Природою и телом // Томлюсь безумно я» [3].
Акмеизм же во главу угла ставил единство мира и человека, в последнем же соединяется в гармонии дух (творческое начало от Бога) и тело (тварное, собственное начало). По точному выражению И. Кребель, «акмеизм прорабатывает такую рефлексию, структуры которой не отстраняются от телесности, от живой подлинности бытия и не соскальзывают в идеологическую колею» [4]. Акмеистов привлекает стихия живой жизни и желание найти для ее выражения наиболее адекватные, точные слова, образцом для которых служит Божественный Логос. Поэзия, таким образом, становится «шестым чувством» (Н. Гумилев), наряду с данными нам пятью, и порой превосходит их, так как преобразует природу человека. Мир воспринимается акмеистами именно через ощущения, практически, а не через теоретические построения, умозрительно, как символистами. Восприятие тела в акмеистическом ключе отличается его полным принятием, радостью обладания им. Хотя порой акмеисты сталкиваются с трудностями в его семиотической интерпретации: оно нуждается в разгадке, толковании, возвращении ему подлинного именования, как всякой вещи на земле (Мандельштам: «Дано мне тело, что мне делать с ним...»).
Интересно выявить семантику телесности на примере лирики Георгия Иванова – одного из лучших поэтов эмиграции, чье становление происходило в акмеистическом кругу. Попробуем проследить эволюцию соматологических образов у поэта, сопоставив его ранние петербургские и зрелые эмигрантские сборники, что в этом плане еще не являлось предметом научного изучения, несмотря на довольно обширный список исследований по творчеству этого автора.
В ранней лирике, где Г. Иванов проявил себя во многом как апологет акмеизма, в изображении телесных образов явно прослеживаются поэтические штампы, и связано это во многом с этапом ученичества, осваивания начинающим автором опыта предшественников, поиском своего пути в поэзии. Выражается это, например, в семантике женского тела как символа любви. Телесный образ героини представлен, главным образом, портретными проявлениями: глазами, губами, руками, плечами и волосами, имплицитно представлены щеки (через румянец) и несколько раз упоминается само слово тело. Описание любимой вполне укладывается в акмеистическое представление о любви как о природном чувстве, поэт активно пользуется традиционными формулами поэтического параллелизма – уподоблением красоты возлюбленной красоте природы: «И только если ресницы // Распахнуты, глянут глаза, // Кажется: реют птицы // И где-то шумит гроза» [5, с. 49].
Лирический герой изливает свои чувства в тривиальных признаниях: «Волосы твои перебирая, // Все глядел бы в милые глаза», «синей в целом мире не сыщется глаз», «и глаз не в силах отвести от слабых рук», «и руки узкие целовал».
Героиня представлена в классических жестах, порой откровенно картинных: «…к чайной розе // Простерта тонкая рука», «облокотившись о перила, // Рассматривает облака», «И ты, ломая руки, Ромео звала в тоске».
Сплетенные руки традиционно являются знаком взаимной любви: «его рука в ее руке», «все образует в жизни круг – // Слиянье уст, пожатье рук».
Отличительным знаком возлюбленной становятся плечи: «плеч очертанья и рук», «и за плечом твоим глядит любовь моя», «и дальний закат, как персидская шаль, // Которой окутаны нежные плечи», « Зачем драгоценные плечи твои // Как жемчуг нежны и как небо покаты».
Внешний образ героини в ранней лирике поэта отчетливо живописен, ориентирован в основном на зрительное восприятие. Женское тело представлено прежде всего как эстетический объект, данный глазами лирического героя, который словно предлагает нам полюбоваться нам своей избранницей. Она же очерчена весьма схематично, без особых примет, являя собой некий обобщенный образ нежной и милой возлюбленной, так как важным является не ее изображение, а отношение к ней лирического героя. Тело любимой приобретает ценность именно через его влюбленность, что подчеркивается рядом тактильных и одористических характеристик: «Вновь с тобою рядом лежа, // Я вдыхаю нежный запах // Тела, пахнущего морем // И миндальным молоком… . Влажные целую губы, // Теплую целую кожу, // И глаза мои ослепли // В темном золоте волос» (с. 47).
Традиционные параллели природных и телесных образов характерны для ранней лирики Г. Иванова, даже смерть изображается поэтом как растворение в природе: «…твое драгоценное тело, увы, // Полевыми цветами и глиною станет», «Зеленою кровью дубов и могильной травы // Когда-нибудь станет любовников томная кровь…», «Прекрасное тело смешается с горстью песка, // И слезы в родной океан возвратятся назад…»
Подобный метаморфизм был в принципе свойственен Иванову, что особенно заметно в «Садах» и «Розах».
К ярким мифопоэтическим образам можно отнести и героинь переведенного с французского стихотворения А. Самэна «Сирены»: их описание подчеркнуто эротично и живописно: своими очертаниями и сопутствующим растительным обрамлением они напоминают презентацию женских тел на картинах в стиле «ар нуво»:
В растущем сумраке, прозрачны и легки,
Скользили под луной так медленно сирены
И, гибкие, среди голубоватой пены
Серебряных хвостов свивали завитки
Их плоти перламутр жемчужной белизной
Блистал и отливал под всплесками эмали,
Нагие груди их округло подымали
Коралловых сосков приманку над волной.
Нагие руки их манили на волнах,
Средь белокурых кос цвела трава морская, –
Они, откинув стан и ноздри раздувая,
Дарили синеву там, в звездных их глазах (с. 195–196).
Метаморфизм подчеркивается еще и тем, что описанию прелестных фантастических существ вторит экфрастическое изображение статуи Дианы в Летнем саду, и в том и в другом случаях для поэта это прежде всего эстетические объекты: «Прекрасная охотница Диана // Опять вступает на осенний путь, // И тускло светятся края колчана, // Рука и алебастровая грудь» (с. 210).
Возможность такой приравненности доказывается в последних строках стихотворения, в которых богиня воздействует на героя своими любовными чарами, как и сирены – на моряков: «И в сердце мне печальная богиня // Пошлет стрелу с блестящей тетивы».
Экфрастическое мировидение раннего Иванова проявляется и в нередких отсылках к полотнам с изображенным на них прекрасным женским телом, опять-таки во флористической орнаментовке, часто узнаваемы по стилистике живописного письма и иногда даже с прямым указанием имени художника: «От полураспустившихся пионов // Прелестный отвела лица овал // Султанша смуглая. Галактионов // Такой Зарему нам нарисовал (с. 221).
Романтическая влюбленность также имеет в ранней лирике преимущественно телесную представленность мифопоэтического свойства: «Наши волосы спутает ветер душистый, и ноги // Предзакатное солнце омоет прохладным огнем», «Потемневшее солнце трепещет, как сердце живое, // Как живое влюбленное сердце, что бьется в груди».
Сам же лирический герой имеет минимальную, практически единичную телесную представленность, которую можно трактовать как ироническую рефлексию на литературный штамп или как факт самоиронии: «И все несносней и больней // Мои томления и муки. // Схожу с гранитных ступеней, // К закату простираю руки», «Я щеточкою ногти полирую // И слушаю старинный полифон».
Из «внутренних» телесных маркеров лирического героя особую частотность имеет сердце: это фактически единственный соматологический знак, фиксирующий его «живое» присутствие в ранних текстах поэта. Сердце поэта – вместилище его души, самый живой орган, именно через его реакцию мы можем понять героя. В ранних сборниках «сердечная реакция» вполне укладывается в общепринятые поэтические переживания: «И снова сердце без причины // В печаль холодную ушло», «В сердце нет ни тоски, ни радости», «И сердце узнает свой тайный час», «Сердце уносится, дрожа».
Порой за изображением душевных волнений кроется герой в литературной маске (пират, актер, несчастный любовник, монах-схимник): «Я тоскою жестокой изранен // Сердце тонет в печали», «Страсти бесплодной волненья // В сердце моем никогда не утихнут», «О, сердце, о, сердце, // Измучилось ты! // Опять тебя тянет // В родные скиты», «В сердце сладостной отрады // Занимается заря», «Я вывожу свои заставки. // Желанен сердцу милый труд», «И сердце мудро ждет чего-то // Во имя, Господи, твое», «И сердце сладко молится // Дыханью ветерка», «В сердце розы Христовы рдяные», «Сердцу спокойному грезится // Белый, неведомый скит».
Но среди привычных поэтических трактовок находятся удивительные по естественности и пронзительности чувства индивидуальной «ивановской окраски» – с оттенком легкой грусти, увядания, исчезновения, когда сердце становится маркером подлинных чувств лирического героя, не прячущегося за масками и штампами. Проявляется это прежде всего в теме времени, осмыслении собственной жизни как пути к смерти и поисков ответа на вопрос, что же там, за заветной чертой. Вследствие акмеистической установки поэта на эстетизм ответ видится в области искусства, например, в том же метаморфизме овидиевского толка, столь естественном в мифопоэтике Серебряного века: «…я травою и облаком был, // Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду».
Чаще всего в ранней лирике «сердечное» переживание выражается через живописные образы: «И снова землю я люблю за то, // Что так торжественны лучи заката, // Что легкой кистью Антуан Ватто // Коснулся сердца моего когда-то» (с. 230). Имя Ватто, одного из любимых художников Иванова, обращает нас к рокайльной эстетике переживания смерти, свойственной этому художнику, когда сама жизнь воспринимается как легкое балансирование «на грани», что весьма соответствовало эстетическому мировидению молодого поэта. Искусство, как спасительный остров, должно было сберечь поэта от страшных волн бушующего житейского моря, от наступающей катастрофы, но уже в последнем петербургском сборнике «Сады» прочитывается мысль о невозможности красоты «спасти мир», что в полной мере прозвучит потом в эмигрантской лирике: «В сердце все никак не хочет убедиться, // Что никогда не плыть на волю нам // По голубым эмалевым волнам» (с. 232).
Рациональное понимание крушения мира к лирическому герою уже пришло, но сердце, главный поэтический орган, еще не осознало его глубины и масштабов, оно еще бьется, желая противопоставить разрушительной стихии жизни свои поэтические импульсы, которые в поздней лирике Иванова предстанут предсмертными конвульсиями.
Уже в первом эмигрантском сборнике «Розы» становится заметной иная трактовка телесного кода. Самые частотные символы этого явления – «тяжелая голова» и «опускающиеся, закрывающиеся глаза» – становятся физическими знаками морального истощения. Если применить медицинский термин, в данном случае представляющийся уместным, то это выглядит переходом психических переживаний на соматический уровень, то есть душевная болезнь, прогрессируя, затрагивает уже физические функции, и, следовательно, степень ее утяжеляется. Причина такой душевной немощи очевидна – это ностальгия эмигранта, в случае Иванова ставшая, по сути, глубинной причиной его собственной смерти и, одновременно, удивительным «прорывом» в его поздней лирике. Все тело каждым своим органом кричит о невозможности существования, физическая слабость становится привычным состоянием лирического героя, нарастая от сборника к сборнику: «И мутнеющая голова // Опускается все ниже», «Утомительный день утомительно прожит, // Голова тяжела», «…лечь в холодную кровать, // Закрыть глаза и больше не проснуться», «На мир, что навсегда потерян, // Глаза умерших смотрят так», «Головокруженье с утра началось, // Всю ночь продолжалось головокруженье».
Сердце начинает давать сбои, останавливаться, знаменуя собой близкую смерть: «…И чье-то сердце навсегда // Остановилось в нем», «Так сердце твое оборвется когда-нибудь», «Сердце бьется слабо, слабо, // Будто вдалеке», «Замученное сердце радо // Тому, что я домой бреду», «Перестало сердце биться, // Сердце биться перестало, // Наконец, угомонилось, // Навсегда окаменело».
Такая редкая у Иванова физиологическая деталь, как слезы, ранее встречалась в идиллическом контексте (плачущие фонтаны, статуи), в поздних же стихах они являются знаком душевного нездоровья самого лирического героя: «Слезы, медленны и едки, // Льются сами по себе».
Появляются новые физиологические детали, ранее не встречавшиеся ввиду их «прозаичности» и негативных коннотаций: это нос и кровь. Первый образ, что предсказуемо у эстета Иванова, связан с темой смерти через сложный клубок ассоциаций: Гоголь и его итальянское пространство, откуда Россия виделась ему в величии и неприглядности одновременно, знаменитый гоголевский нос и нос самого Г. Иванова – его личная физиологическая подробность, которую подмечали его современники, да и он сам иронично о нем отзывался. «– Вы русский? – Ну понятно, р у ш к и й. // Нос бесконечный. Шарф смешной», «Такой же Гоголь с длинным носом // Так долго, страшно умирал».
Логично вписывается в ивановский ассоциативный ряд и знаменитая гоголевская скука, также решенная у поэта в соматологическом ключе: «Мне мое лицо, походка, даже сны // Головокружительно скучны», «Скучно, скучно мне до одуренья! // Скушал бы клубничного варенья, // Да потом меня изжога съест», «Все бесцветно, все безвкусно, // Мертво внутри, смешно извне. // Как мне невыразимо грустно, // Как тошнотворно скучно мне» (c. 437).
Разматывая традиционный для Иванова клубок скрытых цитат и аллюзий, в последнем отрывке мы обнаружим не только легко узнаваемого Гоголя, но и Лермонтова («И скучно, и грустно»), Пушкина («и кюхельбекерно, и тошно») и Жуковского («Невыразимое»). Диалог с последним отнюдь не случаен, он, по сути, ставит те же вопросы, что постоянны в поздних стихах Г. Иванова: способно ли искусство быть заменой жизни, может ли оно адекватно передать божественное вдохновение? Иванов пользуется в размышлении теми же телесными сигналами, что и Жуковский (далее выделено нами. – А. Х.):
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
…
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать
Ненареченному хотим названье дать —
И обессиленно безмолвствует искусство? [6]
Другим телесным знаком, практически не встречающимся в ранней лирике, является кровь (кроме ее метафорического упоминания типа «зеленою кровью дубов»). Эта субстанция в поздней лирике активно сигнализирует о беде, несчастье, проваливании в небытие: «Капля за каплей – кровь и вода – // В синюю вечность твою навсегда», «…Тишина, пустота, комары, // Чья-то кровь на кривом мухоморе».
Появляется в поздней лирике еще один необычный соматологический знак – позвоночник, одно из назначений которого, как известно, быть опорой для тела. В поздних стихах мы находим его в печальном состоянии бездействия, не выполняющим своей функции, что вписывается в общую картину физической ущербности лирического героя, имеющего в эмигрантской поэзии Г. Иванова четкие автобиографические черты: «По дому бродит полуночник – // То улыбнется, то вздохнет, // То ослабевший позвоночник // Над письменным столом согнет». Еще одна вариация темы позвоночника – абсурдистская, где за странными бестиарными образами (кенгуру, камбалы) скрывается та же бессмыслица жизни: «Я флакон одеколону, // Не жалея, извела, // Вертебральную колонну // Оттирая добела!».
Примечательно, что осознание лирическим героем смерти как небытия происходит именно через сенсорику, точнее, через констатацию отсутствия физических ощущений («бесцветно», безвкусно»), что подтверждается неоднократно: «Самый зоркий глаз // Не увидит дна, // Самый чуткий слух // Не услышит час – // Где летит судьба, // Тишина, весна, // Одного из двух, // Одного из нас» (с. 269).
Все чаще лирический герой констатирует физическое истощение, со всей прямотой и жесткостью свидетельствуя о себе как о «живом трупе», последовательно и скрупулезно фиксируя собственное разрушение словно взглядом со стороны, несколько отстраненным, отчего читателем не сразу осознается степень боли и трагизма, так как она оказывается дистанцированной из-за разъедающей самоиронии:
В горле тошнотворный шарик,
Смерти вкус на языке,
Электрический фонарик,
Как звезда, горит в руке.
Мы вымираем по порядку –
Кто поутру, кто вечерком –
И на кладбищенскую грядку
Ложимся ровненько, рядком (c. 585).
Теперь, когда я сгнил и черви обглодали
До блеска остов мой и удалились прочь… (с. 373)
И вспоминаю, холодея,
Что я уже не человек,
А судорога идиота,
Природой созданная зря (с. 386).
Изображение смерти как медленного физического угасания сопряжено с темой болезни как ее вариации. Герой Иванова болен неясной болезнью, от которой нет излечения, именно она становится предметом его последних поэтических рефлексий, так как мир лирического героя сузился до невозможности, каждый шаг в окружающем пространстве дается ему с трудом, а сам он уже не понимает, есть ли смысл в его физическом движении, так как слишком очевидна близость конца: «Вот вылезаю, как зверь, из берлоги я // В холод Парижа, сутулый, больной», «Лежу, как зверь больной, в берлоге я», «Ночных часов тяжелый рой. // Лежу, измученный жарой», «В зеркале сутулый, тощий, // Складки у бессонных глаз. // Это все гораздо проще, // Будничней в сто раз. // Будничнее и беднее – // Зноен опаленный сад, // Дно зеркальное. На дне. И // Никаких путей назад» (c. 569).
В последнем отрывке обращает на себя внимание зеркальное дно: образы зеркала и дна – одни из любимых у Иванова, в ранних стихах они встречаются очень часто, означая границу перехода в иной мир. В поздней лирике автор вынужден признать, что он находится на ней непосредственно, что эта призрачная, неясная и зыбкая граница мысленно уже пересечена героем при жизни («на дне»), его экзистенциальное «стояние на краю» может быть приравнено падению в пропасть – в душе он проделывал это не раз.
Иногда в измученном сознании героя мелькает мысль о том, что, может, быть, это еще не конец, но самообман немедленно разоблачается самим героем, с жестоким реализмом констатирующим невозможность иного финала. В одном из последних стихотворений Иванов фактически описывает себя после смерти, с фактографической точностью предрекая свою судьбу, что было нетрудно сделать, наблюдая за уходом из жизни постояльцев Дома престарелых в Йере, где Иванов окончил свои дни:
А может быть, еще и не конец?
Терновый мученический венец
Еще мой мертвый не украсит лоб
И в fosse commune мой нищий ящик-гроб
Не сбросят в этом богомерзком Йере.
…………………………………………………
Вздор! Ерунда! Ведь я давно отпет.
На что надеяться, о чем мечтать?
Я даже не могу с кровати встать (с. 558).
Авторефлексия, столь характерная для последних сборников Иванова, представлена интересным обертоном – игрой с собственным именем. Имя как знак тела, отличающее его от прочих, перестает быть таковым у Иванова. Уподобление другим и проблемы с самоидентификацией сигнализируют о каких-то очень серьезных мировых сдвигах, «сбитых» ориентирах вплоть до потери собственного местоположения во вселенной. В поэтических автопортретах (о чем можно говорить, исходя из общей живописной ориентации Иванова) мы видим странного персонажа, безмерно одинокого, шагающего в неизвестном пространстве и даже летящего в небесном эфире без цели и определенной траектории. В них угадывается Иванов-кадет, Иванов-военный (гипотетическое завершение учебы в корпусе, которого, как известно, поэт не кончил), Иванов-клиент ателье и, наконец, некий абстрактный человек без имени, утративший его за ненадобностью: «В черной шинели, с погонами синими, // Шел я, не видя ни улиц, ни лиц», «…Нет капитана Иванова, // Ну абсолютно ничего», «Я бы зажил, зажил заново, // Не Георгием Ивановым…», «В сияньи брюки Иванова // Летят – и вечность впереди», «Исчезают имя и отчество // И фамилия расплывается».
Примечательно, что поэт, обыгрывая распространенность своей фамилии, намеренно снижает образ с Иванова до Иванова, демонстрируя такой унификацией («все равно, какое имя там») общую приравненность в смерти, неразличимость лиц (и тел) перед ликом небытия – вероятно, страх перед ним делает их всех похожими.
Чем ближе к заветному порогу, тем явственнее герой осознает, что смерть обессмысливает все то, что было прежде человеку дорого и что выражается, в частности, в любовной тематике, связь которой с телесными образами была очень тесной в раннем творчестве поэта и практически не представлена в поздней. Этого чувства в стихах Иванова меньше не стало, напротив, оно стало глубже и пронзительнее от осознания его неизбежной скорой утраты, но телесные формы теперь присутствуют в тексте гомеопатически, герой лишь задает риторический, в сложившихся обстоятельствах, вопрос, упоминая одну из любимых телесных примет родного человека: «Зачем драгоценные плечи твои… // Зачем?.. Но не будет ответа…».
Ассоциативно эти строки связаны с другими, написанными ранее: ««Донна Анна! Нет ответа. // Анна, Анна! Тишина».
Неточная цитата отсылает нас к известным блоковским «Шагам Командора», где, как известно, любовь заканчивается смертью. Блок упомянут во второй строфе в ее символическом ореоле: «Ты еще читаешь Блока, // Ты еще глядишь в окно, // Ты еще не знаешь срока – // Все неясно, все жестоко, // Все навек обречено».
Обращение к имени Блока символизирует для Иванова его несомненную близость к старшему современнику в понимании смерти, несмотря на всю разницу поэтических позиций. Акмеизм Г. Иванова, безусловно, никуда не делся, но его ориентация на блоковское «сиянье» (один из излюбленных образов Иванова) очевидна. Устремленность в трансцендентное, растворение в мировом эфире, соприкосновение с музыкой вселенной сближает акмеизм Иванова с символизмом, блоковский вариант которого поэт принимал сердцем. Причудливые образы поздней лирики Иванова являют собой удивительный сплав акмеистической конкретики и символистской беспредельности, особенно это видно в уже упомянутых автопортретах: «Пожалуй, нужно даже то, // Что я вдыхаю воздух, // Что старое мое пальто // Закатом слева залито, // справа тонет в звездах» (с. 347).
Старое пальто являет собой необычный соматологический знак, представительствующий за тело, уже улетевшее к звездам. Таким образом, наряду с антиэстетическим мотивом смерти, физиологическим по своей сути, у Иванова есть и другой, символистского толка – растворение, исчезновение в ледяном небесном эфире. Туда он отправил свое сердце – главный орган поэта, туда же по иронии судьбы (и авторской!) отправлены детали гардероба (пальто и брюки). Это вполне акмеистическое решение не противоречит экзистенциальным установкам позднего Иванова, вещность лишь указывает на телесность, плотскость поэта как человека. В своем «космическом акмеизме» Иванов дошел до точки, где, как в геометрии Лобачевского, параллельные прямые пересекаются, где в «трансцендентальном плане // Немазаная катится телега». Легко узнаваемая пушкинская «телега жизни» станет для Иванова знаком преткновения в осознании одновременно подлинной человечности (читай смертности) поэта и бессмертия поэзии. Вся проблема в том, что в этой известной пушкинской оппозиции («весь я не умру») для поэта выбор не сделан. Во фразе «Допустим, как поэт я не умру, // Зато как человек я умираю» обратим внимание на расстановку акцентов: автор, казалось бы, удручен таким исходом, но есть у Иванова и другая мысль – «Стихи и звезды остаются // А остальное – все равно!». Между ними поэт ставит парадоксальное «если бы», иллюстрирующие истинный трагизм мировидения Г. Иванова. Знаменитым строкам из пушкинского «Памятника» поэт противопоставляет другое, экзистенциальное состояние человека и мира в XX в. (выделено нами. – А. Х.):
Вкусно выпить кофе, прогуляться
Средь мимоз и пальм мечтам предаться,
Чувствуя себя – вот здесь – в саду,
Как портрет без сходства в пышной раме…
Если бы забыть, что я иду
К смерти семимильными шагами (с. 588).
Искусство, представленное типичными акмеистическими приметами (кофе, мимозы, пальмы) вкупе с явными поэтическими отсылками к поэзии самого Иванова (сады и портрет без сходства – названия его сборников) противопоставлено смертности поэта, но эта картина не статична, как пушкинская, в нее внесена корректива XX в. об относительности всякой оппозиции – в ней есть движущийся объект (как в физике – производить расчеты нужно с учетом перемещения объекта во времени и пространстве!). Движение к смерти сразу от момента рождения является естественным признаком любого живого объекта. Его телесная сущность не дает возможности иной траектории, движение не остановить при всем желании, но при пересечении известной черты жизнь тела прерывается. Дальнейшее его существование объясняется в различных семиотических системах по-разному. Мифопоэтическое (акмеистическое для Иванова), к которому в он был склонен в ранней лирике, предлагает метаморфические превращения в природные составляющие. Другой вариант, религиозный – гибель телесной оболочки и жизнь духа, вошедшего в свое время с Божественным дыханием в человека и освобожденное после его физической смерти. Жизненные размышления и поэтический опыт акмеизма повели Иванова по этому пути, поэзия и явилась тем Божественным духом (Логосом), который дан поэту свыше как избранному. Осознание этого как высшего блага сопрягается у Иванова с мыслью о важности тела, которое, вслед за Мандельштамом, можно считать «таким единственным и таким моим» и которое так властно и мучительно о себе напоминает, что враз не отмахнешься. Отсюда и «если бы». И остается поэту держать в руках оба конца веревки, тянущих в разные стороны, осуществляя пресловутую «связь времен».
Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум,
Чья б воля изменить их ни хотела.
Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один – неугасимый! – свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем (с. 417).
Эта дилемма и составляет суть поэзии Г. Иванова, зашедшего по светлому пушкинскому пути далеко в XX век и, к своей чести, удержавшего священную чашу поэзии над бездной и не расплескавшего ни капли.
Примечания
- Подорога В. А. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995. 340 с.; Быховская И. М. Homo somatikus: аксиология человеческого тела. М., 2000. 208 с.; Кабакова Г. И. Антропология женского тела в славянской традиции. М.: Ладомир, 2001. 339 с.; Тело в русской культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 400 с.
- Осипова Н. О. Культурная соматология А. Блока // Осипова Н. О. Слово и культура в диалогах Серебряного века: избранные работы. М., 2008. 278 с.
- Сологуб Ф. Собр. соч.: в 6 т. Т. 7 (дополнительный). Лазурные горы: стихотворения / сост., примеч. Т. Ф. Прокопова. М.: НПК «Интелвак», 2003. С. 64.
- Кребель И. А. Мифопоэтика Серебряного века: опыт топологической рефлексии. СПб.: «Алетейя», 2010. С. 273.
- Иванов Г. В. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. М.: Согласие, 1994 (далее все ссылки в тексте на Г. Иванова даны по этому изданию с указанием страниц).
- Жуковский В. А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.; Л., 1959. С. 336.
Notes
- Podoroga V. A. Fenomenologiya tela [Phenomenology of the body]. Moscow. Ad Marginem. 1995. 340 p.; I. M. Bykhovskaya Homo somatikus: aksiologiya chelovecheskogo tela [Homo somatikus: axiology of the human body]. Moscow. 2000. 208 p.; G. I. Kabakova Antropologiya zhenskogo tela v slavyanskoj tradicii [Anthropology of the female body in the Slavic tradition]. Moscow. Ladomir. 2001. 339 p.; Telo v russkoj kul'ture - Body in Russian culture. Moscow. New literary review. 2005. 400 p.
- Osipova N. O. Kul'turnaya somatologiya A. Bloka [Cultural somatology of A. Block] // Osipova N. O. Slovo i kul'tura v dialogah Serebryanogo veka: izbrannye raboty - Word and culture in the dialogues of the Silver age: selected works. Moscow. 2008. 278 p.
- F. Sologub. Collected works: in 6 vols. Vol. 7 (additional). Azure mountains: poems / ed., notes T. F. Prokopov. Moscow. SPC “Intelvak". 2003. P. 64.
- Krebel I. A. Mifopoehtika Serebryanogo veka: opyt topologicheskoj refleksii [Mythopoetics of the Silver age: the experience of topological reflection]. SPb. "Aletheia". 2010. P. 273.
- Ivanov G. V. Coll. works: in 3 vols. Vol. 1. Moscow. Soglasie. 1994 (hereinafter all references in the text to Ivanov G. are given on this edition with page numbers).
- V. A. Zhukovsky. Coll. works: in 4 vols. Vol.1. Moscow; Leningrad. 1959. P. 336.