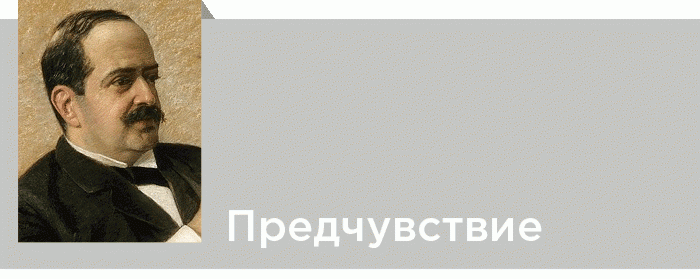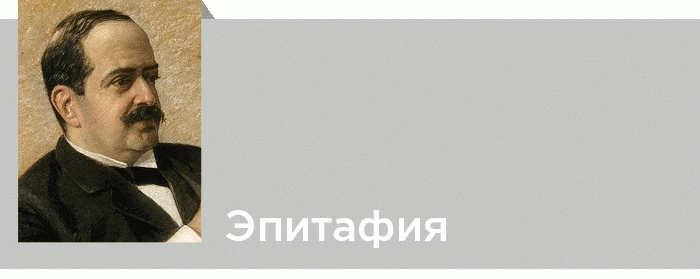Беллетристика из «полу-Азии»: Галиция, Подолия, Буковина в описаниях Карла-Эмиля Францоза

В. В. Мочалова
Аннотация: Цель настоящей статьи - анализ текстов Карла Эмиля Францоза, отражающих в ироническом, комическом ключе особенности существования разных этносов в многоконфессиональном, поликультурном регионе Галиции, Подолии и Буковины периода их вхождения в Габсбургскую империю. Источники исследования - новеллы и этнографические очерки австрийского писателя еврейского происхождения, знатока быта и нравов жителей восточных провинций Австро-Венгерской империи, которые он называл полу-Азией из-за контрастности их культурных полюсов. Анализ показывает, что приверженец идей Просвещения К. Э. Францоз критически оценивает традиционные взгляды своих соплеменников, однако объектом его критики выступает и христианское население. Благодаря тому что у Францоза сочетались близость и к еврейской традиции, и к европейской культуре, он смог объемно, без одностороннего пафоса и обвинительной тональности, сохраняя ироническую дистанцию, отобразить поликультурную ситуацию Австро-Венгрии.
Ключевые слова: юмор, ирония, проза Карла-Эмиля Францоза, быт, обряды, нравы, юго-восточный ареал Австро-Венгрии «Jedes Land hat die Juden, die es verdient» («Всякая страна имеет таких евреев, каких она заслуживает»).
В литературном наследии австрийского писателя, журналиста, переводчика, литературоведа, этнографа и фольклориста еврейского происхождения Карла-Эмиля Францоза (1848-1904)1 содержатся тексты, в частности новеллы и этнографические очерки, отражающие в юмористическом, ироническом ключе быт и нравы обитателей восточных провинций Австро-Венгерской империи, сложные межэтнические взаимоотношения в этом поликультурном регионе , который исследователь «габсбургского мифа» Клаудио Магрис назвал сердцем Центральной Европы.
Изречение, приведенное в эпиграфе, писатель поставил «в основание» своих первых книг, и здесь уже содержится явное указание на некоторую гибридность замысла его текстов, двоякую направленность критической оценки: «И не виноваты польские евреи в том, что они стоят не на одинаковой степени культуры со своими единоверцами в Англии, Германии и Франции. Несомненно, по крайней мере, что вина в этом случае падает не на них одних».
Возможно, ключевым словом для интерпретации текстов (разных жанров) Францоза может служить «пограничье»: привлекавшее его внимание соседство и смежные границы разных культур, их взаимодействие, изолированность, отталкивание или притяжение. Границы между Западом и Востоком, «своим» и «чужим», находившимися при этом в пределах Австро-Венгерской империи, очевидным образом пересекаются в условиях путешествия. Поэтому избранным жанром оказываются путевые очерки, близкие к путеводителям, намечающие ментальные карты, позволяющие читать и время в пространстве, и места встречи, смешения перемещающихся групп людей. Пересекаемые путешественником границы могут пониматься и как соединяющие / разделяющие не только пространство, но и время, эпохи - статичное, как бы остановившееся время условного Востока и динамичное время Запада, в котором происходит развитие экономики и культуры.
Карл-Эмиль Францоз называл свою родную Галицию, куда его сефардская семья переселилась в XVIII в. из Лотарингии, «полу-Азией» - из-за контрастности ее полюсов и смешения противоположных стихий. Эти контрасты Францоз отражает с присущей его взгляду и стилю иронической меткостью:
По-моему, границы между двумя частями света расположены весьма причудливо. Например, пассажир скорого поезда Вена - Яссы дважды проезжает по полуазиатской и дважды - по европейской территории. От Вены до Дзедзицев - это Европа, от Дзедзицев до Снятыня - полу- Азия, от Снятыня до Сучавы - Европа, от Сучавы до Понта или до Урала - полу-Азия, глубокая полу-Азия, где все - трясина... В ней нет ни искусства, ни науки, ни даже чистых платков и умытых лиц.
Метафору путешествия сквозь границы, по городам и местечкам Юго-Востока Габсбургской империи реализуют и позднейшие авторы, вслед за Францозом обращавшиеся к галицийской или буковин- ской теме и предпочитавшие отражать ее в жанре путевых очерков или «интеллектуального путеводителя».
Галицийский очерк, начиная с Францоза, путешествовал по железнодорожной ветке между Львовом и Черновцами, останавливаясь на каждой малюсенькой станции, добирался до самых отдаленных границ, даже до тех мест, о которых говорилось «пропал в Бродах»; он не избегал острого юмора, всегда становился на сторону слабых. использовал чудесный рецепт габсбургской монархии concordia discors... и помнил, что «суть Австрии - в ее периферии, а не в центре»; уважал галицийское местечко, которое не предоставляет удобств, но «даже филистера превращает в личность. Способствует эволюции в сторону чудаковатости».
Ироническая интонация присутствует и в художественных текстах Францоза, и в его путевых очерках. Путешествуя по Галицкой железной дороге имени Карла Людвига, соединяющей Запад и Восток, Францоз иронически замечает, что решение пустить скорые поезда ночью было весьма благотворным для пассажиров, тем самым избавленных от необходимости видеть безнадежно тоскливые пейзажи с ободранными евреями и грязными крестьянами или какие-нибудь заброшенные дыры со слоняющимися на вокзале нотаблями, несколькими евреями и другими существами, которых скорее трудно наделить званием человека.
Кто поедет по этой ветке днем, тот умрет от скуки, если не от голода, хотя на этой трассе есть несколько ресторанов, но их ни за что не хотелось бы лицезреть: лично я однажды ел в Перемышле самый диковинный в моей жизни телячий шницель. Это был фаршированный шницель: я в нем нашел очень ржавый гвоздь, железное перо и клок волос. Когда я сунул corpora delicti в нос ресторатору, он с невозмутимым безразличием ответил: «Что вы так кипятитесь? Я что, заставляю вас есть ржавое железо? Ешьте мясо».
Францозу как создателю «этнографических новелл», мастерски описывающих представителей разных народов, было присуще редкое сочетание свойств - глубокое знакомство с разными сегментами пестрой поликультурности региона и соблюдение дистанции (часто иронической) по отношению к описываемой реальности. Эту дистанцированность ощущали и русские читатели переводов Францоза. Например, в рецензиях писалось: «Юмор Францоза властный, суверенный <...>. Францоз иронизирует и осмеивает, бичует чужие пороки, порицает чужие слабости. Хотя он родился в той земле, о которой он пишет, он мыслит и чувствует, как чужестранец, как немец, не как галичанин» [Русский еврей 1881, № 31, 1238].
Францоз объяснял это свойство совмещением невольной обостренности и вместе с тем беспристрастности своего взгляда, что обеспечивалось обстоятельствами его происхождения и взросления. Он родился и рос в Чорткове, маленьком городке на юго-востоке империи, и долгие годы проживания здесь, как и многочисленные путешествия, дали ему возможность близко познакомиться с языками, обычаями, предрассудками и особенностями этого многонационального региона, населенного украинцами (русинами), поляками и евреями (последние составляли от 10 до 12% всего населения Галиции, а в городах - и до 50%).
В еврейской семье Францоза, глава которой был выпускником медицинского факультета Венского университета, разделялись «прогрессивные» идеалы Гаскалы, высоко ценилась немецкая культура, что повлияло и на умонастроение будущего писателя, и на выбор образовательной стратегии. Францоз получал частное еврейское образование, но также три года учился в доминиканской монастырской школе в Чорткове. После смерти отца (1858) и переезда семьи в столицу Буковины Черновцы Карл-Эмиль в соответствии с завещанием отца поступает в немецкую «императорско-королевскую» государственную гимназию (1859-1867), в то время единственную в восточном регионе империи немецкую среднюю школу. Она пользовалась высокой репутацией, и для Францоза, считавшегося лучшим учеником в классе и получившего аттестат с отличием, она стала впечатляющим и незабываемым введением в мир немецкой культуры. Представляется существенным, что в годы учения Францоз много находился в иноязычном и инонациональном окружении - как в католической монастырской школе, так и в черновицкой гимназии. А поступив в 1868 г. в университет Граца, он, судя по его воспоминаниям, не только был там единственным еврейским студентом, но и в самом городе в течение года не встречал евреев. В Венском университете, где Францоз учился на юридическом факультете, ситуация выглядела иначе: евреи среди студентов составляли 27,9%.
Родной Францозу Чортков, переименованный им в его художественных текстах в Барнов, стал обобщенным образом многих восточно-галицийских штетлов - Косова, Гусятина, Збаража, Бучача и других: «Барнов был везде там, где присутствовали низкие, плохо оштукатуренные дома с покосившимися деревянными террасами, греко-католический храм с куполом, деревянная, крытая дранкой синагога, вывески на идише и песчаная рыночная площадь, от первого же дождя превращавшаяся в желтую лужу».
Соломон Винингер писал в своем семитомном биографическом словаре об «этнографических» произведениях Францоза: «Никакой другой поэт немецкого языка, кроме Францоза, не выразил поэзию этой полу- или полностью варварской области с такой творческой силой. Рядом с ним меркнут все остальные описатели еврейской народной жизни».
Сторонник Просвещения, Францоз критически относится к «отсталости» традиционного еврейства, при этом его критицизм и ироническая оценка распространяются и на другие, в том числе доминирующие, национальные группы региона. Избранный язык описания обеспечивает ироническую дистанцию повествователя по отношению к изображаемому, к его контрастным полюсам - еврейскому и христианскому, как и к взаимоотношениям этих сторон.
Замысел автора, о котором он пишет в предисловиях к изданиям своих «рассказов из подольского гетто», - представить «жизнь польско-еврейской общины в ее главнейших проявлениях». Стремясь к «художественности» изображения, но не «в ущерб правде», т.е. пытаясь художественно изображать правду, автор обращается к «западному читателю», при этом беллетрист совмещается с этнографом, внешняя точка зрения - с внутренней. В высказываниях Францоза звучит его осознание своего творчества как долга, миссии: «Мне пришлось так же исполнить свой долг перед маленькой еврейской общиной, как и перед большой немецкой» (Ich musste in der kleinen jüdischen Gemeinschaft ebenso meine Pflicht tun wie in der großen deutschen). Русско-еврейский еженедельник отмечает «горячий еврейский патриотизм как одну из самых симпатичных для нас черт Францоза», цитируя его письмо в редакцию: «Я постоянно и неуклонно стараюсь в границах моих слабых сил делать все для пользы и блага моих дорогих единоверцев, и если, несмотря на все мои старания, я мало еще принес им пользы, то поверьте, что причина не во мне, а во внешних условиях и в недостаточности сил человеческих вообще» [Русский еврей 1881, № 33, 1311].
Принадлежа - по происхождению и образованию - к двум мирам, будучи одинаково к ним обоим причастным, Францоз часто описывает один мир сквозь призму другого. Об этом приеме иногда свидетельствуют и гибридные названия его повестей: «Шейлок из Барнова», «Шиллер в Барнове», «Два Спасителя», «Эстерка Регина», «Барон Шмуль», - вошедших в современный Францозу русский переводной сборник его произведений.
Повествование Францоза часто гибридно: в нем совмещается внешняя (христианская) и внутренняя (еврейская) точки зрения, как, например, в повести «Лики Христа», где иронически отображается аристократический польский персонаж, не склонный к рефлексии и озабоченный лишь гастрономической составляющей жизни, но при этом преисполненный ксенофобских настроений:
Он поехал домой, вопреки своему обыкновению погруженный в глубокие думы <…> В летописи семьи Старских надо было занести сегодня неслыханное до тех пор событие: благородная отрасль этого дома дурно пообедала и весь вечер была погружена в глубокую задумчивость. Эти «глубокие думы» были вызваны его изумлением, что его избранница каким-то невероятным образом связана с евреем.
В повести «Два Спасителя» иронически прославлен благосклонный по отношению к евреям персонаж (управляющий), основным достоинством которого оказывается его склонность к пьянству:
Управляющий Стефан Грудза был таким, лучше которого евреи и желать не могут. Правда, он был пьян с утра до вечера, но в пьяном виде он был весел, а когда он был весел, то не желал огорчать и печалить других людей. Но однажды за столом он уж особенно сильно развеселился, и после обеда его хватил удар.
В повести «Без надписи» иронически описан «гуманизм» польских воевод и старост и порожденное им преследование евреев. Трагические события представлены у Францоза в иронических тонах:
...какие последствия проистекают иногда оттого, что два польских магната в одно и то же время желают быть гуманными? На четырехстах надгробных камнях обозначен один и тот же час; да, один и тот же год, один и тот же день, один и тот же час… И все это благодаря одновременному припадку гуманности! После падения польской королевской власти, охранявшей евреев, превращения ее в «жалкий призрак, который не мог ни жить, ни умереть», воеводы и старосты стали присваивать себе защиту евреев, ибо эти люди были воодушевлены горячей любовью к человечеству. В Барнове была значительная и богатая община, поэтому было великою заслугою пред Богом оказывать защиту столь многим и притом богатым людям. И вот двое старост, староста тлустский и староста старо-барновский одновременно приблизились к городу и одновременно заявили представителям его: «Или я буду вашим защитником, или же истреблю вас до единого!» Несчастные евреи оказались в положении, которое не допускало долгого размышления: они в тот же день глубоко залезли в свои карманы и обеспечили себе защиту обоих старост. Но именно это повело их к гибели. И тот и другой староста были истинные друзья человечества, и каждый из них серьезно смотрел на принятую им на себя обязанность. Но ни один из них не доверял другому, и оба хотели испытать друг друга. Поэтому староста старо-барновский стал убивать и грабить в одном конце города, чтобы убедиться, исполнит ли его соперник свою обязанность и станет ли защищать евреев. Но к несчастью, этот соперник предпринял тот же самый опыт в другом конце, и вследствие этого несчастного стечения обстоятельств ни один из двоих не достиг своей цели. Добрые люди редко достигают того, к чему стремятся. И три дня, и три ночи продолжались эти страшные неистовства.
Общая дата смерти отмечена на могилах еврейских жертв помещичьего насилия, и этот факт писатель отражает без слезливости, обвинительного пафоса, при этом его ирония весьма красноречива: «И в других местах есть много могил, на которых начертан один и тот же год смерти. Так, например, того времени, когда Чарторыйский охотился на евреев, потому что мало было в лесах другой дичи».
Приверженность требованиям еврейской традиции, часто отображаемая в комических тонах, - постоянный объект нападок Францоза. Так, в повести «Без надписи» писатель рассуждает о защитной функции еврейской религии в прежние времена, но во времена расцвета Просвещения безусловное следование всем давним религиозным предписаниям представляется ему и анахроничным, и негуманным:
Чистая, непоколебимая вера евреев служила некогда для их бедной головы защитою от неприятельских ударов палками и топорами. Эта голова разбилась бы без такого прикрытия, потому что то были страшные удары. Но именно вследствие этого все ниже и ниже нахлобучивалась на их лицо эта своеобразная шляпа и наконец закрыла глаза так, что они перестали видеть. В былое время об этом не стоило скорбеть, потому что нечего было видеть даже при отсутствии шляпы на глазах. Но вот на западе рассвело; светает и на востоке, а они все еще не подымают шляпы повыше. Совсем снять ее незачем, а кинуть ее было бы крайне вредно, но не менее вредно и закрывать ею совершенно глаза.
В этом рассказе община отвергает вернувшегося из армии старого отставного солдата, потому что в армии он долго ел христианскую пищу и непристойно ругался. Он же не был виноват, ибо «с тех пор, как Маккавеи ушли на вечный покой, нет на свете такой армии, в которой клецки приготовлялись бы под надзором раввина, а что касается ругательств, то они в старом солдате так же естественны, как на ветвях дуба желуди». Нищий солдат голодал так, что даже пост в Йом Киппур не представлял для него ничего привлекательного, даже «не имел интереса новизны». И когда старика поймали в этот день с куском колбасы в руке, это страшное прегрешение дополнило и даже превысило весь груз его преступлений, так что «если бы судьба была милосердна, она послала бы ему смерть в ту самую минуту <...>. Но судьба редко бывает милосердна - он прожил еще долго». И потому на его мацеве в наказание не сделали надписи, но автор полагает, что «это обстоятельство мучит мертвого далеко не так, как его терзало то, что делали с ним при жизни».
Мотив нужды, этого единственного, как пишет Францоз, божества, в которое можно верить, никогда не впадая в сомнение или отчаяние, в частности нужды и тягостной жизни украинского крестьянства, представлен в рассказе «Народный суд», персонажи которого, русинские крестьяне, ежедневно лакомились водкой, но весьма редко - мясом. Из-за крайней нищеты «русинский крестьянин мог без труда придерживаться суровых требований поста, предписываемых попом: будешь поститься сорок дней перед Пасхой, сорок дней перед Рождеством, четырнадцать дней перед Петром и Павлом, четырнадцать дней перед Вознесением Девы Марии, кроме того, каждую среду и каждую пятницу - весь год, а если хочешь особенно понравиться Богу, то ты должен поститься и каждый понедельник. К самым важным “продуктам питания” относилась горилка; даже самый бедный мужичонка почитал чуть ли не за дело чести серьезное подпитие в течение недели».
Ирония по отношению к еврейским представлениям о грехе присутствует и во включенной в этот же рассказ истории искателя истины - сапожника Хаима Липпинера, который был склонен к философии, как обычно бывает с людьми этой профессии «вследствие сидячей жизни». За пределы сомнения, этой основной почвы всякого исследования, он, собственно, никогда не выходил, и любимым его изречением было: «Кто знает истину?». Спекулятивным путем маленький бледный человечек справиться с этим вопросом не мог и потому пытался разрешить его эмпирически. Он переходил из одной секты в другую, из «хасидов»-мечтателей - в «миснагеды», т.е. в ряды их противников, потом снова делался хасидом, входил в сношения с караимами, становился под знамя чудотворного раввина из Садагоры, продержался целый год в кругу «ашкеназов» - приверженцев немецкого образования, и, наконец, обратился в каббалиста. Каббалистом оставался он долго, и так как, несмотря на это, изготовлявшиеся им сапоги вели себя разумно и прочно, то никто не обращал особенного внимания на его уединенные ночные занятия и глубокомысленные мистические речи. Пока однажды он не был обнаружен произносящим перед распятием молитву на священном языке, которую следует произносить путнику, когда он видит восходящее солнце. За это преступление следует наказание (сапожника избивают) и приговор: «Оставить жену и детей и отправиться в Иерусалим и никогда больше не возвратиться оттуда;
по дороге же рассказывать каждой общине о своем преступлении и просить людей, чтобы они топтали его ногами и плевали ему в лицо. Это приятное путешествие, однако, не состоялось. Бедный сапожник стал с этого дня таять, как снег от солнца». Но и перед смертью он не теряет своей пытливости и стремления найти истину. Он спрашивает рассказчика, правда ли, что и у христиан есть Священное Писание, и просит достать ему эту книгу.
Сюжетообразующим в новелле «Шейлок из Барнова» из сборника «Евреи Барнова» является мотив непреодолимо конфликтных отношений между христианским и еврейским населением. Дочь богатого Моисея Фройденталя, Эстер, воспитывалась в соответствии со «старыми, давно установившимися обычаями - ее учили стряпать, молиться и считать. Этих знаний было достаточно для дома, для неба и для жизни». Подобно дочери Шейлока из «Венецианского купца», Эстер убегает из отцовского дома с христианином, капитаном Вюртембергских гусар графом Гезой Сапани, и следует за ним в гарнизон Марбурга. Когда же она наскучила графу и возвратилась к отцу, тот не прощает ее и не впускает в дом, и она умирает у ворот от голода. Неизвестно, стала ли она христианкой, но ее хоронят в месте, отведенном для самоубийц. «Русский еврей» писал об этом рассказе: «Юмор гармонично соединен с серьезностью или приятно контрастирует с трагичностью материала; дает тем народам, культуру которых он выбрал своей темой, зеркало, показывающее им их образ в его действительном виде, а не в том, каким разрисовывает его национальная гордость и племенное самомнение» [Русский еврей 1881, № 33, 1309].
Автор иронически отражает и еврейскую традицию преувеличенных восхвалений покойных на мацевах: читающие надгробные надписи на еврейском кладбище уже не будут искать Эдем, где живут ангелы в человеческом облике, в том случае, если будут верить этим надписям.
В рассказе «Шиллер в Барнове» не только иронически представлена центральная тема Францоза - о противостоянии еврейских сторонников Просвещения и защитников традиционного уклада («Господи боже мой! Какие, однако, трагикомические явления порождает та борьба, которая именно теперь началась на востоке - борьба между национальным еврейством и культурой!», но и осмеивается безграмотность христианского населения:
Всего пять экземпляров - и в подлиннике, и в польском переводе - наберется у нас в городке. Само собой разумеется, что в единственной библиотеке - доминиканской - ни одного. Но на это существуют основательные причины. Во-первых, Шиллер был не католик. Во-вторых, как известно, «Разбойники» - очень безнравственное произведение. В-третьих, не имеется хорошего польского перевода. И в-четвертых, большинство обитателей монастыря не умеет читать.
Описание причин, по которым польские читатели могли обратиться к сочинениям Шиллера, само по себе содержит впечатляющий комический эффект. Например, граф Александр Родзицкий выписал их из Тарнополя, поскольку интересовавшая его дама пожелала, чтобы он любил ее точь-в-точь как Шиллер любил Лауру - ни на капельку больше или меньше. Дама действительно интересовала его, и он повторял: «Или она выйдет за меня, или я застрелюсь», и говорил это не только другим, но и единственному человеку, перед которым он не лгал - самому себе. Ибо он был до такой степени разорен, что и запонки в рубашке не мог считать своими, и потому любил приданое графини так безумно страстно, что в «Истории знаменитых влюбленных» вряд ли можно найти нечто подобное. Личность самой избранницы графа, как и возвышенность их отношений, описаны с язвительной иронией: Ванда находилась уже в почтенных летах, а за последние пять лет «приобрела пять маленьких невзгод с пятью большими гусарскими офицерами, но эти “невзгоды” воспитывались в Лемберге, офицеры находились Бог весть где, притом же, когда благородное сердце любит искренне, оно не обращает внимания на подобные несовершеннолетние мелочи». В результате Ванда вручает графу «свою руку и приданое; приданое он пустил дальше, рука осталась при нем», а судьба томов Шиллера оказывается печальной: они «медленно гниют рядом с “Казановой”, которого граф тоже перестал читать. Эти мемуары находит он в настоящее время чересчур добродетельно-скучными».
Живительное влияние немецкой культуры на жителей восточных окраин Австро-Венгрии - один из лейтмотивов текстов Францоза: «Между Страсбургом и Черновцами проходят сотни километров, здесь живет много народов, разделяемых пограничными заставами», но сквозь эти заставы мощно вливается немецкий дух, дух самоотверженного труда в интересах культуры и человечества. Для троих персонажей рассказа «Шиллер в Барнове» - доминиканского монаха Франца Липецкого, русина Василия Войчука и барновского еврея Израиля Мейзельса, относящихся к разным этническим группам, живших во тьме и стремившихся к свету, пребывавших в пустыне и жаждавших свежего источника, - сборник стихотворений Шиллера и становится источником света. В конце рассказа они совместно исполняют «Оду к радости» с ее символическими словами «Deine Zauber binden wieder, / Was die Mode streng geteilt, / Alle Menschen werden Brüder, / Wo Dein sanfter Flügel weilt», становясь из враждебно настроенных по отношению друг к другу - братьями, тем самым не только обогащаясь ценностями Просвещения, но и преодолевая барьеры национальной нетерпимости.
В текстах Францоза, в частности в рассказе «Из-за яйца» (о распаде близкой дружбы из-за пустяка), ощутимо влияние Гоголя, которого Францоз переводил: он обработал «Ревизора» для немецкой сцены, его перу принадлежит очерк «Мертвые души». Еще более существенным представляется то, что главным героем у Францоза, как и у Гоголя, выступает смех. Отметим, что у Францоза имеет место не тотальное осмеяние, но есть место и для описания величия духа, силы чувств, глубины личности.
Редкое сочетание близости и к еврейской традиции, и к европейской культуре позволило писателю выпукло, объемно, без одностороннего пафоса и обвинительной тональности, сохраняя ироническую дистанцию, отобразить поликультурную ситуацию Австро- Венгрии. К богатой палитре галицийской литературы Францоз добавил свои яркие краски, не меркнущие со временем, о чем свидетельствуют его многочисленные переводы и переиздания.
Л-ра: Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия. – 2021. – С. 71-86.
Произведения
Критика