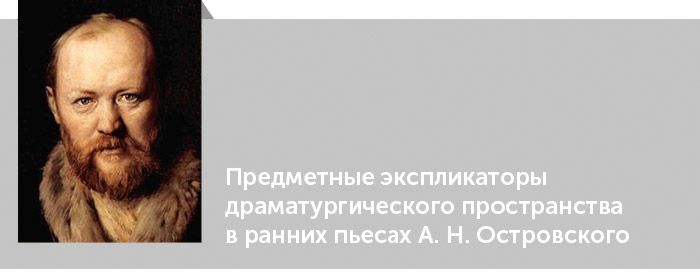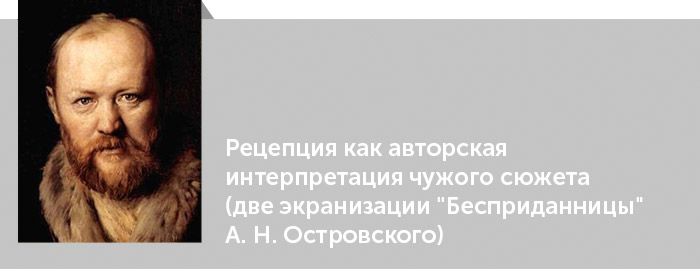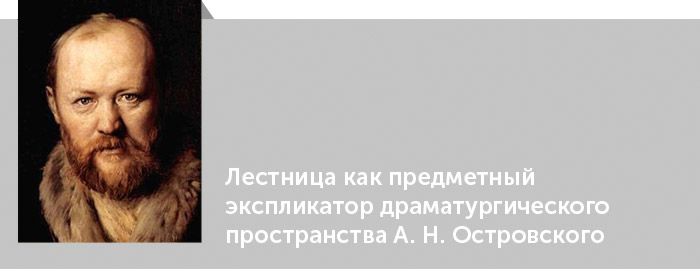Поздний Островский в свете социокультурных проблем эпохи

Журавлева А.И.
Взгляды на задачи театра, на его роль в культуре, и более того – в жизни нации, присущие Островскому и Григорьеву, испытали несомненное влияние немецкого романтизма и, прежде всего, театральной эстетики Шиллера. Для России этого времени было характерно особое «суммарное» восприятие идей немецких философов, а Шиллер для всей русской культуры XIX века был ярчайшим представителем романтизма. Восходящие к позднему Просвещению первые трактаты Шиллера, переработка им некоторых идей Канта, то, что было развито иенскими романтиками из эстетических идей самого Шиллера, – все это в кругу «молодой редакции» «Москвитянина» воспринималось в единстве. Уже в 1846 году в журнале «Репертуар и Пантеон» Григорьев популяризирует идеи Шиллера и выдвигает обобщающую эти идеи формулу: «Театр – училище массы». Понимание театра как просветительского учреждения ложится в основу всей концепции строительства национального театра, предпринятого Островским.
Еще одна.идея Шиллера оказалась очень востребована русской культурой 50-х годов: взгляд на театр как средство национального единения. Мысль о том, что театр – явление общенародное, основывалась на уникальном свойстве спектакля: он обращен ко всему залу. и в момент взаимодействия сценического события и публики сословные различия становятся несущественными. В России, где иные формы объединения общества отсутствовали (если не говорить о храме), значение театрального элемента в культуре повышалось по сравнению со странами, обладавшими развитыми и разнообразными институтами общественной жизни.
Актуальность идеи национального объединения в современной Островскому России объяснялась не государственно-политическими (как в Германии в эпоху Шиллера), а внутрикультурными причинами. Послепетровский разрыв между европеизированными образованными сословиями и основной массой народа, в значительно большей мере сохранявшей традиционный уклад, переживался драматически и теперь, когда основные схватки между западниками и славянофилами остались в прошлом. Становилась видна их роковая общность: оба направления отстаивали дорогой для себя тип развития в непримиримой борьбе с другой точкой зрения, начисто отрицая ее ценности. Если для радикальных западников русская культура начиналась с Петровских реформ, то для славянофильства, по выражению Григорьева, «вся жизнь наша, сложившаяся в новой истории, <...> ложь; вся наша литература – кроме Аксакова и Гоголя – вздор. К Пушкину оно равнодушно, Островского не видит, и понятно, почему не видит: он ему хуже рожна на его дороге». В кругу «Москвитянина» эту общность понимали как мертвый теоретизм, пренебрежение «живой жизнью» (в том числе и фактами искусства) в угоду доктрине. Принципиальный «антитеоретизм» Островского, его абсолютный речевой слух, позволявший уловить фальшь в любой идеологической фразе, – это и не устраивало, по мысли Григорьева, теоретиков обоих лагерей, напротив, делало творчество Островского столь дорогим для искавших «третьего пути», мечтавших объединить сильные стороны концепции западников и славянофилов, отказавшись от их доктринерства.
Культурное и психологически-бытовое разъединение народа и образованных сословий равно воспринималось как трагедия обеими группировками, но их непримиримость парадоксальным образом препятствовала исчезновению разрыва. Концепция москвитянинцев и молодого Островского питалась идеей постепенного заполнения пропасти путем культурного строительства. И здесь роль национального театра казалась незаменимой.
Цель Островского – создание внесословного общенационального театра – была вполне адекватна социокультурной ситуации 50-60-х годов. Если дворянская культура ощущала себя прежде всего общеевропейской, то для этой эпохи характерно стремление к национальной самоидентификации, постепенное отмирание феодальной сословно-иерархической структуры общества – следствие возрастания роли денег. Интеллектуальные усилия нации устремлены к сокращению, в идеале – к полному исчезновению культурного разрыва народа и образованного общества. Особенно эта потребность усилилась в связи с подготовкой реформ. Очень показательно умонастроения эпохи отразились в объявлении о подписке на журнал «Время», авторство которого принадлежит Ф.М. Достоевскому. «И вот этим-то вступлением в новую жизнь (имеются в виду реформы Александра II. – А.Ж.) примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, – вот наша передовая мысль, вот девиз наш. <...> Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало – вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности».
Просветительская работа становится важнейшей областью интересов общества, профессиональные педагоги (Ушинский), медики (Пирогов), литературные критики (Добролюбов), писатели (Лев Толстой с его яснополянской школой, педагогическим журналом и работой над «Азбукой» и книгами для чтения), все они думают и спорят о принципах народного образования и воспитания. И это первые, но далеко не единственно возможные примеры, которые приходят на ум. В этот ряд естественнейшим образом вписывается и представление о театре как училище массы. И хотя Островский стремился не столько изменить, сколько расширить состав зрительного зала, его пьесы обращены прежде всего, по его собственному выражению, к «свежей публике», то есть той, которая впервые приобщается к современным формам культуры. Сложившись в начале литературного пути, эта позиция не изменялась на протяжении всей жизни драматурга. И в 1881 году, в обстановке совершенно новой, он продолжает ее отстаивать.
Обращаясь к молодым драматургам, Островский советует им работать для демократической публики, «для которой требуется сильный драматизм, крупный комизм, вызывающий откровенный, громкий смех, горячие, искренние чувства, живые и сильные характеры». Однако Островский не считал, что для «свежего зрителя» нужна некая специальная драматическая продукция вроде «книжек для народного чтения», заведомо непригодных для образованного читателя. Надежду на возможность создания общенародной драмы он черпал в многовековом опыте мирового искусства. «Эта близость к народу нисколько не унижает драматической поэзии, а, напротив, удваивает ее силы и не дает опошлиться и измельчать. История оставила название великих и гениальных только за теми писателями, которые умели писать для всего народа, и только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома. Такие произведения со временем делаются понятными и ценными и для других народов, а наконец и для всего света».
Зрительный зал Островского в период расцвета его театра и наибольшего общественного признания драматурга – 50-60-е годы – это зал, так сказать, не расщепленный: хотя бы на время спектакля он превращается в нечто единое, одинаково воспринимает и одинаково оценивает то, что происходит на сцене. Вся поэтика театра классического Островского определена именно стремлением сформировать такой зал и обращенностью ко всему народу. Но в 70-е и в 80-е годы ситуация изменяется. Внешне это сразу проявляется в изменении общего тона критики. Отрицательные отзывы или недоумения по поводу той или иной пьесы Островского случалось читать нередко и в прежние годы. Но в тех случаях драматурга, как правило, упрекали за отступление от уже сложившегося его собственного стиля «пьес жизни», по выражению Добролюбова, за уступки театральной условности или за неудачно, с точки зрения критики, выбранный «предмет».
Характерный образец критики первого типа – статья Е.И. Утина о пьесе «На всякого мудреца довольно простоты», опубликованная в «Вестнике Европы» (1869. – № 1). Высоко ценя пьесы Островского из быта патриархального купечества и приветствуя само стремление драматурга расширить круг изображаемых явлений, критик, тем не менее, явно не предполагает изменения манеры, появления новых художественных средств. Другая мера условности, характерная для сатирических комедий Островского из дворянского быта, обращение к литературно-театральным реминисценциям (как смысловым, так и структурным) – все это кажется Утину простой неудачей. «Вообще, мы должны сознаться, мы видим такие недостатки, которые не привыкли видеть в бытовых комедиях Островского. Он сам приучил нас к необыкновенной простоте в завязке, развязке и целом ходе комедий, так что отсутствие этой простоты здесь нам еще более чувствительно». И далее весь анализ комедии пронизан мыслью о совершенстве в изображении характеров и ложности фабулы, построенной по типу «хорошо скроенных» французских пьес.
Бальзаминовская трилогия первоначально вызвала удивление ничтожностью героя, которому посвящено целых три пьесы (случай, сравнимый разве что с неоднократным обращением Мольера к образу Сганареля, но Сганарель – это скорее амплуа, да и герой он все-таки не главный). Высказывая уважение к таланту Островского, один из рецензентов тем не менее пишет: «Героем этих девяти актов (имеется в виду вся трилогия. – А. Ж.) избран человек, которого никто иначе не называет, как дураком. Какой же интерес могут представлять похождения такого человека?»'
Таким образом, в этот период о пьесах Островского и тем более о качестве их постановок спорили, нередко с трудом принимая новые черты его поэтики. Но общая оценка его как живого классика русской сцены сомнению не подвергалась. К 1870-м годам тон меняется. Особенно заметна перемена, когда речь идет о таких шедеврах, как «Лес». Так, в 1871 году критик «Петербургского листка» начинает свою статью словами: «Хотя теперь произведения Островского уже не волнуют нашу мыслящую читающую публику, <,..> общий голос, что произведение это слабое, в чем мы и согласны со всеми».
Буренин в «Санкт-Петербургских ведомостях» пишет: «Нет спора в том, что он, так сказать, орел среди современных драматургов. Между тем, при всей орлиности своего таланта, г. Островский тотчас ослабевает, как только устремит свой полет на высоту мысли». Далее следует рассуждение о том, что «Лес» «удачен исключительно, но ее замысел может быть отнесен к загоскинской эпохе, до того он наивен и невинен». Таким образом, уже в 1870-е годы, когда талант Островского был в полном расцвете, когда были созданы многие пьесы, ставшие впоследствии абсолютной классикой, постепенно начиналось то, что уже вполне определилось в 70-е годы и что принято называть «кризис театра Островского».
Островский вступал в литературу как долгожданный реформатор театрального репертуара, а уходил в конце 80-х, если судить по общему тону критики, как писатель, переживший свое время. Среди его поздних работ наибольшим успехом пользовались не такие, впоследствии общепризнанные шедевры, как «Бесприданница» или «Таланты и поклонники», а пьесы, написанные в соавторстве с Соловьевым и более похожие на продукцию «идейных» драматургов, поставщиков пьес с «вопросами».
Когда-то Аполлон Григорьев неоднократно высказывал мнение, что в зрительном зале совпадают вкусы просвещенного, интеллигентного, как стали выражаться позже, и простонародного зрителя, но фальшивой, зависимой, подверженной соображениям, лежащим вне искусства, оказывается реакция людей «из общества». Однако тогда это было тонкое аналитическое наблюдение, скорее, предсказывавшее будущее. В его же эпоху слишком велико, как уже говорилось, было стремление к культурному объединению, тогда и зрительское общественное мнение формировалось этим единением непосредственной, наивной реакции «свежей» публики и суждения ценителей театра.
Со второй половины 70-х годов ситуация изменяется. В этот период процесс синтезирования новой национальной общности, не основанной на феодальной иерархии, завершен. И актуальным становится его структурирование на новых – и очень дробных – основаниях. Такими основаниями новой стратификации выступают весьма разнообразные признаки: профессиональные, денежные, образовательные и т.д. «Образование во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования», к которому призывал Достоевский, приводит ко всеобщему «усреднению» и выравниванию психологических навыков и культурных привычек, да и вкусов. (Оговоримся: речь, конечно, идет о городском населении, поскольку и театр – институт именно городской жизни.)
Тонкий наблюдатель жизни, Островский, конечно, отразил этот процесс. С этой точки зрения показательна пьеса «Последняя жертва» (1877), и не только тем, что современный «деловой человек» Фрол Федулыч Прибытков (имя подчеркнуто патриархально-купеческое, простонародное, и это значимо!) ездит в оперу слушать Патти, упоминает о гастролях Росси. Очень важен третий акт, где действие происходит в клубном саду, и описывающая публику ремарка: «Пестрая толпа кавалеров и дам в разнообразнейших костюмах, от полумещанских провинциальных до парижских последней моды». Попадающий в эту пеструю толпу провинциальный купец, говорящий, как купцы в ранних пьесах Островского, так и обозначенный в списке действующих лиц «Иногородный», по ремарке «стоит посреди сцены в недоумении». Бывшие Тит Титычи, попадая в современную московскую толпу, выглядят странным анахронизмом. Можно сказать, что усреднение, выравнивание (даже относительное) образовательного уровня приводит к тому, что эта умеренно просвещенная публика, для которой посещение театра не праздник и не «умственная привычка», а некое, как сказали бы мы сегодня, «статусное мероприятие», чувствует себя вполне уверенно и независимо. Она формирует свой «социальный заказ» театру: развлекательную «хорошо скроенную» пьесу для души и так называемую тенденциозную («идейную») драму, чтобы быть в курсе обсуждаемых, «модных» вопросов.
В 1874 году в «Русском вестнике» в статье о Писемском Авсеенко с большой прямотой высказал суть претензий буржуазной публики к Островскому. «Задача комедии сузилась непостижимым образом до копирования пьяного и безграмотного жаргона, воспроизведения диких ухваток, грубых и оскорбительных для человеческого чувства типов и характеров. На сцене безраздельно воцарился жанр, не тот теплый, веселый буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене, а жанр грубый, нечистоплотный и отталкивающий. Некоторые писатели, как, например, Островский, внесли в эту литературу много таланта, сердца и юмора, но в общем театр наш пришел к крайнему понижению внутреннего уровня, и весьма скоро оказалось, что ему нечего сказать образованной части общества, что он и дела не имеет с этой частью общества».
В апреле 1876 года за Островского заступился Достоевский в «Дневнике писателя»: «Итак, Островский понизил уровень сцены, Островский ничего не сказал “образованной” части общества! Стало быть, необразованное общество восхищалось Островским в театре и зачитывалось его произведениями? О да, образованное общество, видите ли, ездило тогда в Михайловский театр, где был тот “теплый буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене”. А Любим Торцов “груб, нечистоплотен”. Про какое же это образованное общество говорит г-н Авсеенко, любопытно бы узнать? Грязь не в Любиме Торцове: “он душою чист”, а грязь именно, может быть, там, где царствует этот “теплый буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене”».
Существование и нарастающий успех тенденциозной драмы были связаны с влиятельностью леворадикальной утилитарной критики, воспитавшей нового читателя и зрителя в убеждении, что единственной достойной задачей литературы и других видов искусства может быть только пропаганда «передовых идей». Само понимание того, что есть «передовое» воззрение, к 80-м годам уже могло колебаться в очень широких пределах, нередко противоположных тому, как это представляли себе шестидесятники, но убеждение в том, что серьезное искусство должно ставить «вопросы» и предлагать решения, стало едва ли не всеобщим. С этим была связана и нарастающая глухота к слову, к эстетической ценности конкретного явления искусства, не говоря уже о признании его самоценности как рода человеческой деятельности.
Тенденциозная драма появилась в литературе в 50-е годы, в эпоху популярности «обличительной» литературы как форма прямого, неопосредованного художественным обобщением обсуждения актуальных общественных вопросов. Это была своего рода драматизированная публицистика в форме «хорошо скроенной» пьесы, где фабула и герои, не обладающие самодвижущимися характерами, типичными для высокого реализма, образовали иллюстративный ряд. Популярность тенденциозной драмы росла по мере того, как все больше места в культурном пространстве начинала занимать периодика, неуклонно расширявшая круг своих читателей. Театральный зал 80-х годов заполняли уже не только читатели таких почтенных «толстых» журналов, как «Русский вестник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», но и газет, и тонких журналов. Этот новый потребитель культуры, получающий в кратком облегченном изложении разнообразные сведения из всевозможных областей жизни – политики, науки, искусства, мод и развлечений – выстраивал другие ценностные ряды, чем те, на которые была ориентирована большая литература и театр Островского в том числе.
Тенденциозная драма как жанр вызывала острое неприятие Островского. В записке «Причины упадка драматического театра в Москве» (1881–1884) он пишет: «Тенденциозные пьесы некоторыми критиками по недоразумению <...> называются культурными; но они некультурны уже потому, что при отсутствии в них жизни и живых образов не оставляют никакого впечатления и оставляют публику равнодушной. Культурно то, что сильно действует и оставляет в душе глубокие следы; художественные произведения вместе с тем и культурны. Они своими правдивыми и сильно поставленными характерами и типами дают первые правильные отвлечения и обобщения. Некоторые критики называют тенденциозные пьесы честными, и это неверно, они нечестны, потому что не дают того, что обещают, – художественного наслаждения, то есть того, зачем люди ходят в театр. Но вместо наслаждения они приносят пользу, дают хорошую мысль? И всякое художественное произведение дает мысль – и не одну, а целую перспективу мыслей, от которых не отделаешься. Голые тенденции и прописные истины недолго удерживаются в уме: они там не закреплены чувством».
По некоторым рассуждениям в этом тексте видно, что Островский хорошо чувствовал связь между успехами неприемлемой для него тенденциозной драмы и «невидимым походом, поднятым против искусства, утилитарным взглядом на него». Новая культурная ситуация на очередном историческом витке актуализировала идею свободы искусства – в третий раз за столетие, если вспомнить борьбу литераторов пушкинского круга против архаических требований прямого дидактизма, принятых на вооружение «оппозицией застоя» (выражение А. Григорьева). Затем, в 60-е годы, в общем, проигранный защитниками свободы искусства спор с леворадикальной критикой. Можно сказать, что в 80-е годы русская литература пожинала плоды этой победы утилитаристов, получив в качестве аудитории их воспитанников.
Впрочем, однозначно «проигранным» для «чистого искусства», «искусства для искусства» спор этот выглядит опять-таки в интерпретации советской науки. Собственно, будь и вправду так, искусство и литература вправду бы остались только как некий подсобный материал дидактики и педагогики, и вправду завершились бы на некоем «прасоциалистическом реализме» – очевидно, изжили бы себя, просто кончились. Как мы видим, в реальности все, к счастью, сложнее. И самый спор продолжается в разных формах, и конца спору пока не видно, потому что этот спор – во многом просто спор между разными фазами, разными этапами развития одного искусства: спор между профанами и профессионалами; а все профессионалы когда-то были профанами...
Требование прямого, непосредственного суждения – требование правомерное, даже насущное, оно естественно для человека. И начинаться с такого требования, с импульса суждения, научения – законный путь для произведения поэзии или драматургии. Но сводиться все к научению, прямому смыслу высказывания произведение искусства не может, не может до конца им измеряться. Искусство на самом деле тогда искусство, когда не рассуждает о жизни, но является жизнью – способно жить само. Век Островского – век русской классики – потому и назван золотым веком русской литературы, что литература тогда решала самые насущные задачи собственного становления и существования – решала практически, оживая, овладевая живыми навыками полнокровного бытия.
Л-ра: Литература в школе. – 2003. – № 8. – С. 11-17.