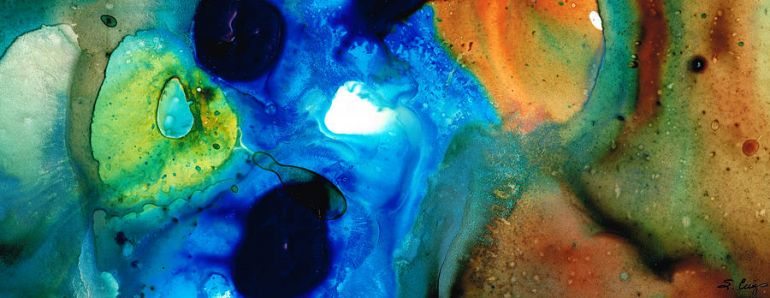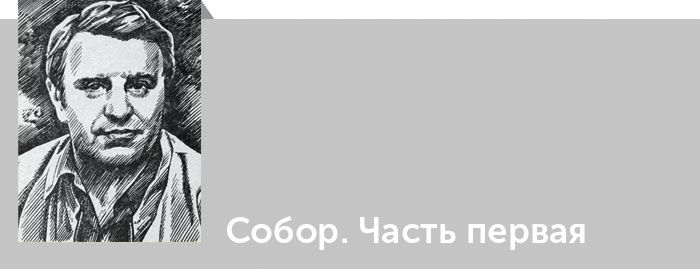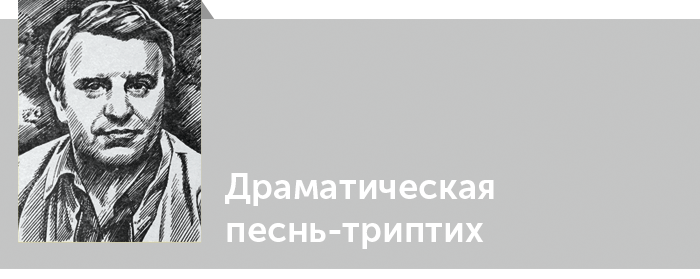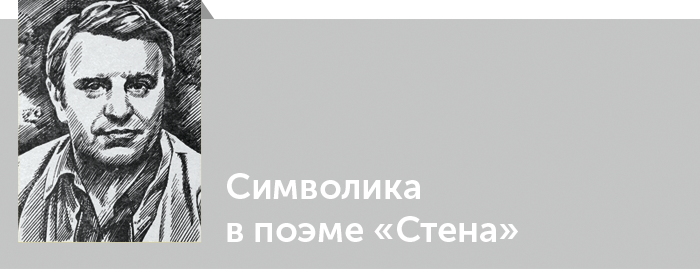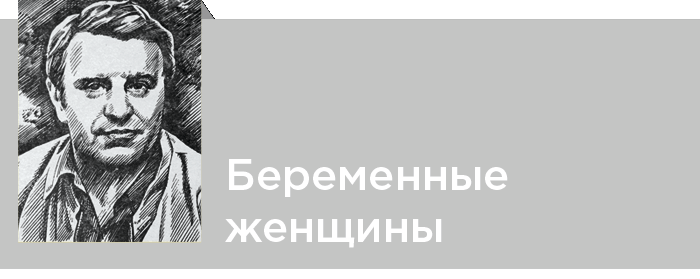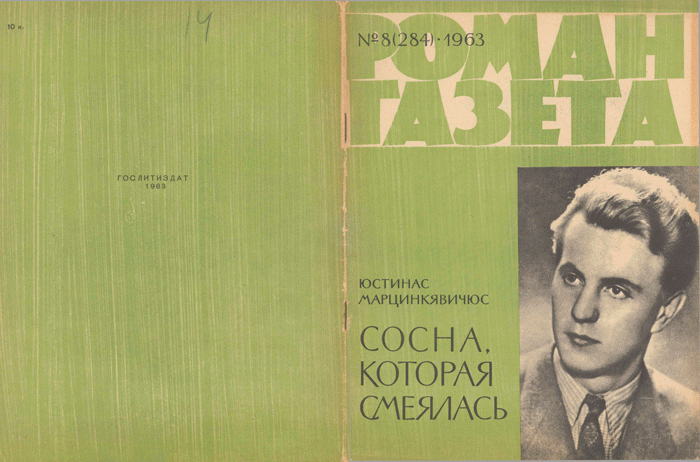Сосна, которая смеялась. Часть вторая
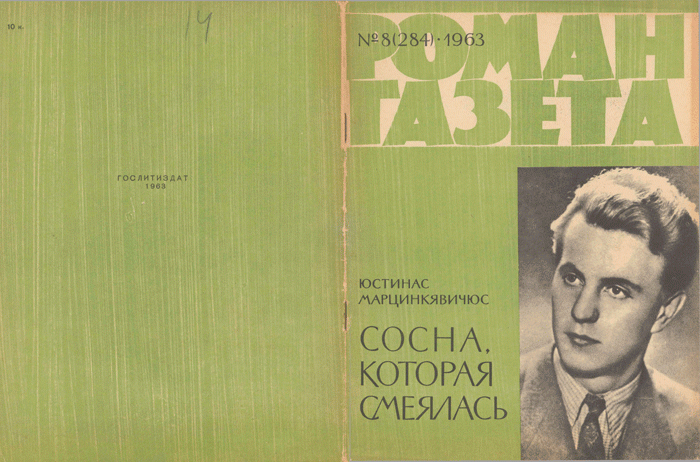
Часть вторая
1
Я стоял, прислонившись к дверному косяку, и курил. Было самое начало июля, робкая июньская зелень вызревала в серьезное, сочное лето. Все живые и зеленые предметы вдали казались нереальными и дрожали под полуденным солнцем, словно с нетерпением ждали, когда же начнется великая тайна лета. Они не понимали, что тайна велика, покуда приближается. А доберется до тебя и непременно обернется или большой радостью знания, или большим разочарованием.
Почему все живое так рвется знать? А может, знание — это основная форма бытия, и, стало быть, вон та сосна, и тот задумавшийся всеми листиками курослеп, и этот камень знают, что они существуют? Мне очень важно выяснить это, потому что я хочу написать камень таким, чтобы вы посмотрели и сразу сказали: этот камень знает меня, и я его знаю.
Вы можете сказать: пиши так, как видишь. Хорошо, я вижу валун живым; если мне удастся, я живым и напишу его. Только давайте сразу договоримся, что вы не будете возмущенно пожимать плечами, если камень высмеет вас и ваше знание. Первым делом, он, конечно, подымет на смех самого себя: нельзя осмеивать других и в то же время не смеяться над собой.
Ах, все это чепуха и мешает мне работать. Из нашей группы только я один не представил эскиза дипломной работы, и на мой счет уже начинают полегоньку прохаживаться. Попробовал набросать на полотне свой злополучный триптих чисел. Первая часть называлась «Непознанная бесконечность», вторая, центральная,— «Единица» и третья— «Познанные миллионы». В первой части я хотел изобразить разрозненный хаос цифр, то есть красок, их фантастическое и непонятное движение, лишенное какого-то организующего начала, какого-то доминирующего цвета. Во второй части триптиха, в центре, представлены два цвета — черное и белое. Отрицая друг друга, они образуют цельный организующий элемент, ту основу, ту единицу, с которой и начинается познание чисел. Третья часть — это невообразимо, красочный движущийся спектр, который заключает в себе причину и цель движения и проявляется в разнообразнейших комбинациях цифр, то есть красок. Организующим началом тут было знание, та единица белого и черного, которая пронизывает необъятный многоцветный спектр, как первая мысль пронизывает сознание. Предположим, цель вашего познания — «дважды два — четыре» — заканчивается вот этой суммой красок, с которой, может быть, лишь начинается знание другого человека. Таким образом, картина должна быть абсолютной.
Я долго бился над тем, чтобы передать красками движение, ритм. Но тут же столкнулся с другим неодолимым препятствием: мне не хватало пространства. Я все увеличивал и увеличивал размеры картины, пока не понял наконец, что никогда не втисну бесконечность ни в какие рамки. И я отложил кисть.
Моей работой живо интересовался Галюнас. После того как я доставил триптих в нашу мастерскую, Галюнас часто останавливался перед ним и почесывал в затылке. Однажды он сказал:
— Знаешь, без электронно-счетной машины тут не обойтись.
Не машина мне требовалась, а пространство. Вот бы выворотить сосну и писать ею на безбрежном синем небосводе! Я бы доказал, что человеческий мозг может больше, чем все машины, вместе взятые.
Поэт Мешкайтис долго смотрел на мой эскиз, помечая что-то у себя в блокноте. Потом воскликнул:
— В Лувр! В Лувр его!
И это было моим единственным утешением.
Художник Навицкас случайно застал меня, когда я сидел в раздумье над своим триптихом. Он серьезно выслушал все мои сомнения, сел и долго потирал руки, словно согревая их друг о дружку — почему-то у него всегда зябли руки.
— Должен сказать тебе, Стаугайтис, что это работу я не представлю комиссии в качестве дипломной. Хоть и рад бы. Больше того, советую вообще никому не показывать ее. Пойдут всякие толки... ну, чего тебе объяснять. Ты сам-то знаешь, что написал? Такой учебник цвета я рекомендовал бы повесить у себя в мастерской каждому серьезному художнику. Каждому, кто мало-мальски смыслит в музыке красок. Изумительно! Спасибо за теплоту.
Я оставил эту работу в городе и поехал на практику с пустой головой и с пустыми подрамниками.
Да, совсем забыл сказать, что наша группа уже вторую неделю проходит так называемую практику. Я говорю «так называемую», потому что смотрю на подобную практику скептически. Не знаю, может, кому-нибудь и есть прок от нее. Самую большую практику человек проходит сам по себе. Живя.
Хорошо еще, что руководителем назначили художника Назицкаса. Он самолично упаковал большую пачку всевозможных подрамников для этюдов, спиннинг, несколько удочек и сказал:
— Ребята, я не подкачаю. Надеюсь, вы тоже...
Мы приехали в живописное место неподалеку от какого-то районного городишка, расположились в старом пустом доме, где прежде находилась туристская база, и тут же прибили над дверью плакат: «Ребята, не подкачаем!»
Старосту группы выбирали по обычаям патриархата — самого сильного. Никому даже в голову не пришло усомниться, что этот пост принадлежит Галюнасу. А ему и дела не было до нас: носился, как очумелый, по деревне, подсаживал ребятишек на деревья, курил с мужчинами, болтал с женщинами и каждый день приносил большую охапку эскизов, рисунков, композиций. И каждый день жаловался:
— Земли нету. Неужто не видите, что на моих эскизах нету земли?
А я был одинок. Вы себе не представляете, как я был одинок.
Стоял, прислонившись к косяку, и курил. Солнце уже было высбко и смотрело в окна нашего дома, тоже очень одинокого. Тень от ели лежала возле порога, у самых моих ног пересекая бегущую вдаль белую извилистую тропку. И это означало, что близок полдень. Я мог бы пойти, скажем, на речку, искупаться, но не решался переступить эту черную тень под порогом. И тут меня осенило...
Я притащил мольберт, с лихорадочной поспешностью установил его в коридоре. Мне было абсолютно ясно, чего я хочу. Быстро нашел углем композицию, осторожно обозначил контуры сюжета.
Знаю, вы сгораете от нетерпения и любопытно заглядываете через мое плечо на еще не заговоривший холст. Не томитесь, ждать придется долго, очень долго. Будет гораздо лучше, если я в двух словах расскажу, что вижу, и вы повернетесь и уйдете восвояси.
В конце концов, и рассказывать не надо. Вы только посмотрите:
...Настежь распахнутая дверь. Большой, прекрасный, манящий мир за нею. И золотая тропка от порога в бесконечность, и все так, как вы видите. Только вряд ли вы видите, как смеется этот валун у тропинки, как хохочет во все горло сосна на пригорке, как корчится, захлебывается от смеха дальний лес... Вы не видите этого, но зато видите тени всех предметов. А я отшвыриваю тени. Мне нужно, чтобы все, что я вижу, светилось. А предметы, излучающие свет, как известно, тени не имеют. Солнца нету. Светит все, что вы видите, и поэтому мир кажется нереальным, фантастическим, придуманным. Согласны? Хорошо. Так вот, теней нет, кроме одной — большой, черной, грозной и неизвестной тени у самого порога, которая тут же. под вашими ногами, словно неумолимый перст судьбы, пересекает золотую тропку, ведущую в прекрасный, лучащийся мир.
В дверях стоит маленький, голый и светящийся ребеночек, который и хочет, и никак не решится сделать роковой шаг в незнакомый и такой заманчивый мир, которого, в сущности, нет. Все, что я вижу, называется «Первый шаг».
Теперь ваше любопытство удовлетворено, можете идти и не мешать мне работать.
Каждое утро я не мог дождаться, покуда тень ели вытянется перед порогом. Мне не хотелось, чтобы товарищи видели, над чем я работаю, и с самого начала испортили настроение. И если тень уже лежала на месте, а кто-нибудь еще слонялся по коридору, я злился, нервничал и сжимал кулаки.
Когда через несколько дней Галюнас увидел меня за мольбертом, картина была уже наполовину готова, и я не мог не показать ее.
— Бадлер, — сказал Галюнас.
— Дурак! — парировал я.
Жаль, не было рядом нашего маленького друга — поэта Мешкайтиса. Не сомневаюсь, он бы воскликнул:
— В рыло ему! В рыло!
И как знать, не внял ли бы я на этот раз его призыву.
Никогда еще не был я так одинок и так издерган. Работал с какой-то ненавистью ко всему, что видел. На полотне все ярче выступал суровый вопрос всех вопросов: идти или нет? А предметы светились, издевались и смеялись. как бы говоря: если ты и перешагнешь эту черную тень, то все равно никогда не узнаешь, что мы такое и почему существуем. Особенно изводил меня валун у тропинки. Однажды я не выдержал — вскочил, швырнул кисть, подбежал и плюнул в его каменное лицо.
Потом мне стало стыдно, я скорчился на траве перед оплеванным камнем и заплакал.
Сегодня я показал «Первый шаг» Навицкасу. Он разбирал свои удочки, собираясь на речку, и ничего не сказал.
— Идем порыбачим, — пригласил он меня.
Мы молча спускались с обрыва, и густой орешник трогал мое лицо мягкими листьями. Внизу тихо плыла река. Вода еще не согрелась под солнцем, она была прохладной, такой манящей и живительной, что хотелось окунуть голову в реку и держать ее там долго-долго. Я вздрогнул.
— Холодно? — удивился Навицкас.
— Нет, изнутри холодно...
Мы закинули удочки и не знали, чем заняться — сидели слишком близко друг от друга, чтобы можно было отдаться своим мыслям.
— У каждого человека, учит Хемингуэй, есть своя рыба, —заговорил Навицкас. — Твоя рыба, насколько я смыслю в этом деле, очень большая и очень хитрая. Она водит тебя за нос.
— А может, это я ее вожу...
— Ты еще не поймал ее и не можешь над ней смеяться. И ловишь ты совсем не там... Клюет?
Я взглянул на поплавок — нет, ему почудилось.
— Твоя рыба любит глубокую воду. Иной раз выплывает и на поверхность — показаться людям. Но на отмелях она не берет. Тебе надо закинуть глубже.
Меня, уже начал раздражать этот иносказательный разговор. Я выдернул леску из воды, поднялся и сказал:
— А может, мне лучше смотать удочки?
— Сиди, юноша! Ты не знаешь, чего хочешь.
— Вы могли бы стать превосходным ксендзом — отлично изъясняетесь аллегориями.
— А ты, если уж без аллегорий, даже в ксендзы не годишься. Столько в тебе злости, желчи и ненависти... Ты никого не любишь — ни людей, ни вещи. И никому не веришь...
— Спасибо. Ваша проповедь помогла мне сейчас вспомнить об отце.
— Спокойнее, спокойнее, юноша! — Навицкас закинул удочку поглубже и продолжал уже без аллегорий: — Я внимательно следил за твоими поисками. И, признаться, радовался. Вот, думал, пришел человек, который способен мыслить, и к тому же мыслить красками. Если хочешь — философствовать красками, знаю, ты любишь это слово. Но чем дальше, тем холоднее становилось твое мышление, какое-то демоническое в своем одиночестве, книжное. Годы идут, а настоящей профессиональной и жизненной мудрости — ни на грош.
— Вам не нравится, что я не такой, как все.
— В том-то и дело, что нравится, я уже, кажется, говорил... А нутро свое тебе надо как следует выверить, протереть, почистить. Нельзя вот так никого не любить, ни во что не верить. И над всем глумиться. Послушай, ты пробовал когда-нибудь написать портрет любимого человека?
Я подумал и ответил:
— Нет.
— Так вот. Начни с того, кого любишь.
— А может, я и в любимом человеке вижу такое, что ненавижу. Ангелов нет...
— Тогда не люби его. А еще лучше, не пиши вообще. Чтобы издеваться над всем и вся, не обязательно называться художником. Я бы даже сказал, невозможно...
Тут уж я и в самом деле смотал удочку:
— Что ж, спасибо за откровенность.
И повернулся к нему спиной.
— Послушай, Стаугайтис, убери черную тень из-под ног ребенка. Разве тебе жалко, если дитя выбежит из дому и порадуется яркому, ликующему миру? Убери эту тень — и я представлю твою работу как дипломную. С удовольствием представлю.
Тогда я расхохотался — так громко, что какая-то птица испуганно вспорхнула и полетела на другой берег.
— Ах, вы боитесь! Вы не желаете знать правду, вы решили лучше зажмуриться... Кстати, не ваша ли это машина с розовыми занавесочками?
— Нет, — удивился Навицкас. — А что?
— Тогда заведите. Непременно заведите себе розовые занавески.
И я пошел.
— Послушай, Стаугайтис, я заставлю тебя убрать черную тень! Слышишь, заставлю...— кричал внизу Навицкас.
Я ничего не ответил и стал быстро взбираться по косогору.
2
Я написал Юле уже несколько писем и каждый день ездил на почту за ответом. Но ответа все не было. Наступила засуха, трава выгорела, пожухла, на песчаных местах яровые не успели выколоситься, как стали желтеть. К полудню скотина забредала в реку или забивалась в кусты и грустными глазами смотрела на потрескавшуюся землю. Томительная тишина нависла над полями, только большое, желтое солнце гудело, как колокол, и в ушах звенело от зноя.
Галюнас помрачнел, осунулся и с каждым днем все упорнее твердил:
— Земля горит...
Горела не только земля, но и люди. И ничего нельзя было сделать. Один только пырей держался, его грубые, колючие стрелки стали еще тверже, но цвета не теряли.
Был субботний вечер. Наши ребята собирались на танцы. С доски объявлений уже который день предупреждали большие, крикливые буквы:
ВЕЧЕР ОТДЫХА
ТАНЦЫ
ИГРЫ
БУФЕТ
Я надел пеструю рубашку навыпуск и выкатил из-под навеса мотороллер. Что делать, я не знал. Нужно было куда-нибудь ехать. Я спустился под гору, вырулил на белый большак. Полоса пыли, не в силах взлететь повыше, быстро перегорела в лучах заката и опустилась в кювет.
Когда я проезжал мимо почты, девушка, которая скучала у раскрытого окна, крикнула:
— Вам письмо! Письмо!
Я поставил мотороллер у телеграфного столба и медленно подошел к окну. Девушка держала в руках изрядно помятый конверт и улыбалась:
— Почерк-то женский...
Я облокотился на подоконник, заглянул ей прямо в глаза и спросил:
— Как тебя звать?
— Алдона. А что?
— Придешь вечером на танцы?
— Нет. Я дежурю.
— Дежуришь...
— Ага, дежурю. А что?
— Ничего. Хорошее слово: «дежурить».
И я взял письмо. Она еще сказала:
— Зато в ту субботу я свободна.
— Но в ту субботу может не быть танцев.
.— Небось будут!
— Я тоже думаю, что будут. Только я не умею танцевать.
— Так поглядеть сможете. Мне вот нравится глядеть, как танцуют.
Зазвонил телефон, и девушка убежала, помахав мне рукой.
Я сел на скамейку. Рядом какой-то пожилой человек читал газету.
Юле писала, что отец чувствует себя все хуже и врачи решили послать его в санаторий к Черному морю. Ей очень жалко отца, который теперь все ночи сидит над своим словарем, никуда не выходит и стал такой тихий.
Уже вторую неделю в Вильнюсе страшная жара, и совсем не хочется заниматься. Но Юле все равно каждый день сидит за пианино. Готовиться к вступительным экзаменам ей помогает музыкант Каминскас — такой интересный, такой эрудированный человек. Ой, только бы в консерватории не было конкурса.
Обо мне ни слова.
— Не нравится мне этот музыкант Каминскас,— пробормотал я.
— Вы что-то сказали? — Пожилой человек посмотрел на меня из-за газеты.
— Ничего.
Однако у меня не шел из головы этот музыкант Каминскас — «такой интересный, такой эрудированный». Я слишком мало знаком с ним, чтобы не тревожиться. Кроме того, в таких случаях не последнюю роль играет музыка. Далеко не последнюю. Читали «Крейцерову сонату»? Кто может поручиться, что подобные вещи больше никогда на свете не повторятся? Правда, Юле — не жена мне.
Я подумал, что музыкант Каминскас занял в письме Юле то место, те несколько строчек, которые должны были быть уделены мне, и загрустил.
На западе подымалась большая черная туча. Дышать было трудно, так трудно, что хотелось разорвать рубашку на груди. Задыхаясь, я подтащил мотороллер к дверям буфета; из распахнутых окон вырывался кислый запах пива.
В буфете стояло всего три столика, и все три были заняты. К счастью, за угловым столиком, где сидели трое парней моих лет, я заметил свободный стул.
— Что прикажете? — спросила толстая женщина в замызганном халате.
— Я не приказываю, а прошу. Стакан красного!
Вино было теплое, приторно сладкое и невкусное. Но дышать стало легче.
Я взял бутылку водки, несколько стаканов и подошел к тем парням.
— Разрешите?
Они потягивали пиво и с интересом смотрели на бутылку водки. Я налил всем поровну, и мы выпили.
— Душно, — сказал один.
— Не иначе, ночью будет дождь, — добавил другой.
Все согласились, что ночью будет дождь, и мы выпили еще.
— Вы художник? — спросил белобрысый паренек.
Я кивнул, и его глаза заблестели:
— А ведь это чертовски интересно. А вы можете нарисовать, что захотите?
— Могу.
— Вот бы я умел рисовать, ничего другого и не делал бы!
— Я тоже ничего другого не делаю.
— Все деревья в нашей округе нарисовал бы. Очень мне деревья нравятся. Они похожи на людей, которых я знаю. Буду теперь искать дерево, чтоб на вас походило. А вы рисуете деревья?
— Рисую и деревья, но по большей части надломленные.
Паренек был в восторге:
— Они похожи на старых и несчастных людей. А можно я как-нибудь зайду на турбазу, поглядеть ваши деревья?
— Буду очень рад.
А на самом деле я расстроился, оттого что нечего показать этому славному парню. Почему-то мне хотелось ему понравиться.
— Несколько дней назад я нарисовал сосну, которая хохочет во все горло.
— О, видать, это молодая и добрая сосна.
— Да, но если ее никто не срубит, когда-нибудь она все равно сломается.
— Наверное, сломается. И будет очень жалко.
Мне уже теперь было жаль сосну, которая когда-нибудь все равно сломается. Мы выпили за здоровье смеющейся сосны и решили заглянуть на танцы.
Белобрысый толкал мотороллер, а мы в обнимку шли сзади.
В зале все окна были настежь, но жара и духота как в бане. Голова кружилась, однако чувствовал я себя превосходно и очень хотел танцевать.
В другом конце зала я увидел парня, который был удивительно похож на музыканта Каминскаса и сразу же не понравился мне. Он держал под руку девушку в светлом платье и что-то ей говорил. Я решил станцевать с этой девушкой.
Заиграла музыка, и пока никто еще не решался начать, я нетвердыми шагами пересек зал и поклонился девушке в светлом платье. Девушка покраснела и в замешательстве посмотрела на парня, который вблизи еще больше напоминал музыканта Каминскаса. Паренек немного замялся, потом сказал:
— Мы уже договорились на этот танец.
— Я не слыхал, как вы договаривались, и хочу танцевать.
— Тогда вам придется пригласить другую.
— А может, лучше вы поищете другую девушку. Я великолепно танцую.
И я потянул растерявшуюся девушку за рукав.
— Послушайте, вы...— покраснев, парень встал между мной и девушкой.
Теперь весь зал смотрел на нас.
— Нет, это вы послушайте. Мне хочется с ней танцевать.
Я толкнул его. Но парень крепко стоял на ногах и вцепился в мою рубашку. Он еле сдерживался:
— Вы хулиган и хам!
«В рыло ему!» — послышался мне голос поэта Мешкайтиса.
Я так и сделал. Не скажу, чтобы мой удар был очень сильным — парень даже не шелохнулся. Теперь на его руке повисла девушка в светлом платье:
— Не надо, Йонас! Видишь, пьяный...
— И как таких в зал пускают? — раздавались вокруг возмущенные голоса.
Ко мне уже направлялись юноши с красными повязками на рукавах. Но тут подбежал Галюнас.
— Мы сами разберемся, — сказал он.
И взял меня так, что я не мог вырваться. Чуть ли не на руках вынес в коридор, приставил к стене и широченной лапой звонко шлепнул меня по одной щеке, по другой. Потом повернул и, крепко поддав коленом в мягкое место, вышвырнул за дверь. Я пролетел через весь тротуар и наверняка расквасил бы нос, не подвернись на мое счастье какой-то столб.
— Бадлер...— бросил вдогонку Галюнас и плюнул.
— Крот! Крот земляной! — кричал я, привалившись к столбу, а девушки высовывали головы из окон и смеялись.
Интересно, где сейчас тот белобрысый паренек? Видно, он еще не нашел дерева, которое походило бы на меня.
Надо было ехать. Мотороллер быстро вынес меня за околицу — я, наверное, жал как следует, хотя обычно езжу осторожно и никуда не спешу.
И вдруг полил дождь. Хлынул как из ведра. Казалось, бесконечная водяная стенка соединила небо и землю, и теперь пьянеют оба: небо — давая, земля — беря. Я вспомнил, что когда-то собирался подумать над этими двумя словами — брать и давать, но было очень трудно вести мотороллер, и я не мог думать.
Мотороллер швырнуло в сторону, я чуть не упал. Руль рванулся, я еще успел сбросить скорость и в тот же миг очутился в кювете.
В том самом кювете, куда еще недавно оседала перегоревшая в лучах заката пыль. Я ударился о что-то не очень твердое; локоть и правую ногу словно кипятком ошпарило. Мотор заглох, мерно дышал дождь, и было слышно, как вода струится по открытым жилам земли.
Я ничуть не испугался, только очень не хотелось вставать. Так хорошо было лежать под густым покрывалом теплого дождя, хотелось натянуть его на голову, свернуться калачиком и, как в детстве, забыться легким, беспечным сном. Проснуться на восходе, когда запоют птицы, и не знать, что сосна, если ее никто не срубит, когда-нибудь сломается сама. Мне стало бчень жаль эту смеющуюся сосну, и я заплакал. Потом стало жаль себя, такого маленького, скорчившегося при дороге и никому не нужного. И я заплакал еще безутешнее. Сквозь слезы я несколько раз позвал: «Юле! Юле!» Дождь поймал мой зов теплыми ладонями, обмыл, как новорожденного, погладил и унес в землю. Там он должен был расти и созреть.
Наверно, я пролежал довольно долго. Дождь все еще не унимался, надо было что-то делать. Я вытащил мотороллер из кювета, но он не завелся. Я выругался, тихо и зло. Дождь не взял этого слова, оставил его горечь на моих губах. Дождь несет в землю только добрые слова.
Скользя и спотыкаясь, я толкал мотороллер по раскисшей дороге и все сильнее чувствовал ушибленную ногу. Я совсем протрезвел, хотелось только быстрее лечь и заснуть.
Уже сквозь дрему я слышал, как всей оравой с шумом заявились товарищи. Галюнас несколько раз принимался петь и после каждой неудачной попытки повторял:
— Когда земля пьет, человеку тоже не грех выпить.
Я улыбнулся, мысленно соглашаясь с ним, и заснул.
....................................................................................................................
Проснувшись, я знал, что должен делать. Нога была сильно ободрана и за ночь слегка распухла. Я выбежал во двор и впервые за много времени от души обрадовался солнцу, светлому небу, которое, отдав земле все, что у него было, поднялось высоко-высоко и уже не давило меня. Я разыскал художника Навицкаса и попросил отпустить меня на несколько дней домой. Потом занялся мотороллером.
На пороге, зевая, появился Галюнас:
— Ты вчера был пьян как свинья...
Я согласился.
— И натворил всяких глупостей.
Я не мог не согласиться и с этим.
— Надеюсь, ты разыщешь эту девушку и парня и попросишь прощения. Если только они пожелают разговаривать с тобой.
В это утро он мог предложить мне разыскать самого дьявола — я бы взялся.
— Слушай, мы решили серьезно потолковать с тобой.
Галюнас не сказал «обсудить твое поведение», но именно это он имел в виду, и я вскипел:
— Обсудить! Вы только и знаете обсуждать. А что человек задыхается в себе, вам наплевать!.. — Потом я успокоился. — Я уезжаю в Вильнюс... на несколько дней.
Галюнас взбеленился:
— Стало быть, драпаешь? Убегаешь от самого себя... Ты трус, мелкий негодяйчик, навозный философ! Не знаю, как это я мог в тебя верить... Тебя надо выжать, как мокрую тряпку, и повесить сушиться. Скатертью дорожка, трус!
И он протянул мне руку. Чего-чего, а этого я не ожидал. Все, что я хотел сказать — злое и, по-моему, справедливое,— застряло в горле. Я испугался — все меня покидают. Как бы не заметив его протянутой руки, я засунул свою в карман брюк.
Галюнас вздохнул и опустил руку:
— Ты еще больший трус, чем я полагал. Треснуть бы тебя как следует на прощанье...
Я ничего не ответил, но подумал, что уж лучше это. чем рукопожатие Галюнаса.
Я покатил под гору, выехал на большак. Когда солнце поднялось выше, выкупался в небольшом озерке. Стало легче. Я ехал, насвистывая легкий мотив, и старался не думать о неприятных вещах.
3
— Юле, — сказал я, — как ты относишься к небольшой прогулке на мотороллере?
Она захлопала в ладоши от радости, трижды повернулась на одной ноге и воскликнула:
— Ой, как я не хочу никуда ехать!
Мне было хорошо известно, что это означает, поэтому я спросил:
— А как же твоя музыка? — а про себя добавил: «и музыкант Каминскас...»
— Музыка не убежит. Как, по-твоему, я имею право на отдых? Хотя бы на несколько дней? Кроме того, и товарищ Каминскас на этой неделе занят.
Она ответила и на мой немой вопрос. Про себя я добавил: «Лучше бы он был занят все лето».
Мы тут же расстелили на столе карту и после долгих споров наметили маршрут трехдневной вылазки. Я был за то, чтобы ночевать в гостиницах, но Юле выторговала одну ночевку в колхозе.
— Почему ты так сторонишься людей? — она сердито пожала плечиками. — Съедят они тебя, что ли?
— Меня-то, конечно, нет, — усмехнулся я. — А тебя могут.
— Еще называется художник! Тебе бы жить в первобытные времена и рисовать на стенах пещеры.
— А что? И рисовал бы! Может быть, даже лучше, чем сейчас. И рисовал бы то, что хочу.
— А сейчас ты рисуешь не то, что хочешь? — удивилась Юле.
Я попытался растолковать ей:
— Видишь ли, я рисую что хочу. Но, рисуя что хочу, я рисую не то, что хотят видеть другие. Понимаешь? Это ужасная трагедия, которую переживают почти все большие художники.
— Получается, что тебя не понимают, не ценят, не любят?
— Вроде того.
— Видно, ты и впрямь большой художник.
Слова Юле приятно пощекотали меня, только я не понял, всерьез ли это сказано. Художник, как известно, не сомневается лишь в предметах и их форме. На всякий случай я сказал:
— Может быть, и большой, да не знаю, кто прав: я или они.
— Если ты не уверен в своей правоте, значит, совсем не такой большой, как тебе кажется. И совсем не художник. Понимаешь? Большой должен все знать. Это только нам, детям, можно на каждом шагу спрашивать. По-настоящему большим и взрослым я называю серьезного художника. И он должен мне ответить, ответить без всяких уверток. А если он не в силах ответить на мое детское «почему», то должен сочинить красивую сказку. Такую, чтобы я поверила. Только ни в коем случае не врать! А когда я хочу убедиться, — продолжала Юле, — кто прав — один большой или десять малых,— я спрашиваю: как мне жить? И если вижу, что тот, большой, начинает мекать, а то и вовсе прикинется, что не слышал моего вопроса, я просто-напросто поворачиваюсь к нему спиной и слышу, как десять простых смертных отвечают мне коротко и ясно: «Живи так, как я... живи, как я... живи, как я...» Понимаешь, я получаю как бы сумму десяти различных жизней и уже могу думать сама. Ты как художник еще никому не ответил на этот вопрос. И даже не собираешься отвечать. Вот и выходит — либо ты не художник, либо считаешь мой вопрос детским и несерьезным. Так на какие же вопросы ты тогда отвечаешь?
— На один вопрос: для чего и зачем жить.
— Извини меня, но кто задал тебе такой вопрос?
— Я сам задаю себе вопросы и пытаюсь ответить на них.
— Это как же — «сам играю, сам танцую»?
— А хоть бы и так.
— Тогда чего же ты волнуешься, зачем спрашиваешь, кто прав? Ведь тебе должно быть абсолютно все равно. Это то же самое, как если бы я, например, заперлась одна в комнате, задернула шторы, заткнула все щели и принялась бы танцевать, а потом вышла бы на улицу и стала спрашивать прохожих: «Как, по-вашему, хорошо ли, правильно ли я танцую?» Разве не так?
— Видишь ли, это не совсем одно и тоже, Юле... На мои картины все-таки можно смотреть...
— Так чего же ты тогда хочешь от меня? Чтобы я сказала, прав ты или нет? Извини, но если ты не хочешь ответить на мой вопрос, то почему я должна отвечать на твой? Ты притворился, что не слышал, я — тоже. Ты считаешь мой вопрос несерьезным, а я — твой. К тому же ты сказал, что сам задаешь себе вопросы и сам на них отвечаешь. Зачем же я ни с того ни с сего стану подменять тебя?
— Поразительно, что в средней школе так хорошо поставлено преподавание логики,— заметил, я с досадой. — Когда я учился, этого не было...
— Оно и видно, — расхохоталась Юле. — Да только средняя школа тут ни при чем, это простая логика жизни и человеческих взаимоотношений. Самая обычная, элементарная логика.
— Вульгарная логика!
— Ну так что? Пока вы, бессмертные, не создадите другой логики, мы, смертные, будем пользоваться этой и делать выводы о вас. Опять та же вульгарная логика, не так ли?
— Теперь я тебя проэкзаменую по логике. Почему ты так долго не отвечала на мои письма?
Юле покраснела.
— Некогда было.
— А что же ты делала, если не секрет?
— Я, как и ты, хотела ответить на свой вопрос: как мне жить. Раз ты, большой, сделал вид, что не слышишь, пришлось мне самой...
— И как ты ответила?
— А это уж мое дело. Я не спрашиваю, как ты ответил на свой вопрос: для чего и зачем жить.
— Ну ладно, а все-таки?
— Я надеюсь, что моя жизнь и будет ответом. А вот ты, если захочешь честно ответить на свой вопрос, должен либо этой же ночью повеситься у себя в комнате, либо выброситься с третьего этажа, или, еще лучше,— лечь под поезд, раз не можешь застрелиться.
Я вовсе не собирался затевать с Юле дискуссию, не для этого приехал. Но так уж вышло. Кроме того, вы, должно быть, заметили, что с женщинами всегда труднее спорить: надо быть джентльменом, то есть вовремя уступить, но так, чтобы они этого не заметили, и в то же время не выставить себя дураком, ибо тогда они перестанут уважать вас.
В данный момент мне было удобнее сойти за дурака. И легче. Следовало только промолчать, что я и сделал.
Странное дело, ведь я так много знаю, нахожу самые разнообразные, убедительнейшие аргументы, когда разговариваю сам с собой. А как только приходится серьезно схватиться с кем-нибудь, все мои аргументы разлетаются, словно пух одуванчика от первого сильного порыва ветра. Разумеется, за мной еще остается право презирать противника, однако от этого я не становлюсь ни чуточки сильнее.
Причина тут, конечно, не в слабости аргументов. Мои убеждения подрывают основы жизни, счастья, радости, разрушают все, за что так жадно цепляется человек. Естественно поэтому, что каждый изо всех сил защищает свою иллюзию. А я хочу освободить человека от любых иллюзий, хочу, чтобы он взвалил на плечи тяжелое, черное бремя знания и все равно выдержал, и все равно героически нес его. Но человек не хочет, он всем своим естеством отталкивает это бремя. Ему гораздо приятнее верить в богов своего счастья. Разве это не иллюзии?
Постойте, а мои убеждения? Разве они не иллюзия? Нет, ибо они основаны на знании. А на чем тогда основаны убеждения других людей? Очевидно, на жизненной практике. Я понимаю, что моим оппонентам не так уж трудно доказать, что в жизни все-таки существуют такие фикции, как счастье, радость, любовь. Да и сам я разве не разрушаю своих убеждений собственной жизненной практикой? Юле хорошо сказала: тебе следовало бы повеситься этой же ночью... Почему же я невольно цепляюсь за те иллюзии, за те устарелые ветряные мельницы, которые хочу сокрушить ради свободного знания и свободной воли человека? Почему сам жажду быть признанным, понятым и любимым? Неужели я стремлюсь сорвать розовые очки с чужих глаз только для того, чтобы надеть их самому? Я впервые ощутил эту непроходимую пропасть между своей теорией и практикой, между словом и делом, если то, что человек живет, можно назвать делом. Очевидно, человек рождается с иллюзиями и всю жизнь не может избавиться от них: разрушая оду фикцию, создает себе другую.
Но сейчас меня никто не слышит, и я спрашиваю себя: что такое смелость? Почему все швыряют мне в лицо: «трус!»? То есть, не все, но большинство. И если Юле не высказала этого прямо, то заявила, что у меня не хватило бы мужества умереть за свои убеждения и согласно этим убеждениям.
Мне нравится знать и говорить то. что не смеют сказать другие. Кое-кто считает меня смелым человеком. А ведь я боюсь. Боюсь жесткой постели, боюсь заболеть, боюсь безденежья, боюсь смерти, боюсь провалить дипломную, боюсь потерять друзей и их уважение, боюсь, что Юле все отдаляется от меня... Надо сделать что-то такое, чтобы никто не смел назвать меня трусом.
Я думаю о своей жизни и о себе. Я никогда не был таким, как все, и никогда не был счастлив. Не был счастливым сыном, потому что, в сущности, давно потерял отца, меня нельзя назвать счастливым братом, потому что я лишился сестры, не был счастливым другом, потому что друзей у меня нет. Люди вокруг меня мелькают, как метеоры, я даже не пытался вовлечь их в свою орбиту — казался себе великим в своем одиночестве. Я, с моими книгами и моими мыслями, накрыт стеклянным колпаком, сквозь который не проникают звуки и запахи жизни, который преломляет свет и краски прежде, чем они достигают моих глаз. Я должен пробить этот стеклянный колпак, должен! И убедиться, действительно ли существуют люди, действительно ли есть счастье и радость?
Головой и грудью я бьюсь о стеклянный колпак, который сам создал, и не могу выйти, а в голове стучат стихи: замкнувшись в себе, ищу дверь и не хочу найти. Это мое стихотворение, но я отрекаюсь от него, вот, вы видите, я рву его на куски. Дайте мне выйти, дайте выйти и убедиться. Разве вы не видите, что я задыхаюсь, что воздух под стеклянным колпаком такой разреженный, и я могу только умереть. Дайте мне выйти, скажите, как выйти. Но люди не слышат меня, как и я не слышу их, они смотрят на меня, как на редкостный экземпляр в зоопарке, покачивают головами, приходят и уходят. И Юле с ними, и я не могу подойти к ней. Воздуха все меньше, и света все меньше, и краски, мои любимые краски, затягиваются тенью, и я не знаю, что делать.
Люди, неужели я погибну?
4
Мы выехали рано. Солнце еще только взбиралось по крышам домов, улицы были чисто выметены, и блестел политый асфальт. И небо было высоким и чистым, как эти улицы, и земля была чистой, как небо.
Я остановился у бензоколонки на окраине города. Пожилой человек сидел на ступеньках, смотрел, прищурясь, на солнце и улыбался. Казалось, он весь до краев наполнен хорошими словами, и я очень хотел, чтобы он сказал что-нибудь и мне. Его одежда, руки и лицо пропитались запахом бензина. Человек пах своей работой, и никто не мог сказать, что это был невкусный запах.
Он залил в мой бачок несколько литров бензина, потом подошел ближе, подмигнул и вполголоса спросил:
— Свадебное путешествие?..
Наверное, это были хорошие слова! Юле стояла поодаль, но все равно, я не хотел врать и шепотом сказал:
— Нет. Скорее предсвадебное.
— Это тоже хорошо. Все путешествия хороши. И дни теперь будут хорошие,
Я завел мотороллер, но потом .подумал, вернулся и попрощался с этим человеком за руку.
— Счастливого пути, — улыбался он.
Будто добрый и теплый цветок, взял я из руки человека запах его работы.
— И откуда такая вежливость! — дивилась Юле.
Я тоже не знал, но мне казалось, что я хлебнул глоток чистого, настоящего воздуха.
Мы поднялись в гору и остановились посмотреть на город под нами. И трубы фабрик, и деревья, и башни, и высокие краны новостроек, словно сговорившись, указывали одно направление — вверх, только вверх! Я был благодарен этим указателям, которые люди поставили, чтобы с самого начала нам легче было взять верное направление.
Не знаю, как Юле, а мне предстояло большое и трудное путешествие. Но я не спешил, зная, что не все путешествия заканчиваются счастливо. Я ехал медленно и осторожно — Юле и так несколько раз принималась колотить меня по спине:
— Куда ты так мчишься? Гонятся за тобой, что ли?
В самом деле, никто за мной не гнался, а от себя, как сказал Галюнас, все равно не убежишь. И я не бежал. Теперь моя судьба была со мной, чудесное путешествие только-только начиналось, а радость дороги всегда больше, чем радость окончания пути.
Все мчалось мимо — придорожные деревья и сосредоточенная в своем созревании рожь, речка, избы и стадо, люди и развешенное белье. Казалось, природа решила предстать во всей красе и открыла моим глазам все, что у нее есть. Плыл большой, широкий, нескончаемый поток красок, я купался в нем, пил его и все не мог утолить жажду. Время от времени я останавливал его, точно кадр кинопленки, и долго всматривался, стараясь запомнить все до мелочей.
Юле радовалась, как ребенок, вырвавшийся из-под надзора строгой и скучной тети. Всему она умела отдаваться полностью — не важно, будь это мытье посуды или этюд Шопена, новое платье или только что прочитанный роман. Юле была дитя земли, я удивлялся и завидовал ей, мне-то никогда не обладать такой цельностью характера: Мой мир складывался из двух частей: первую составляли всяческие жизненные мелочи, которым я не придавал серьезного значения (возможно, потому, что обо мне заботились другие), а вторая была большим миром идей, который захватывал меня целиком, заставляя работать не только мозг, но и каждую клеточку тела.
Юле не могла усидеть спокойно — гримасничала, мотала головой, размахивала руками и ногами; я все время боялся, что она свалится. И ни на минуту не закрывала рта:
— Ой, как красиво!
— Ромас, какая изумительная березка!
— Смотри, до чего же хороша рожь!
— Ой, какая чудесная корова!
Она могла бы даже воскликнуть: «Ой, какой замечательный навозный жук!» Или: «Какая милая жаба!»
И, что самое странное, стоило ей это воскликнуть, как и навозный жук, и жаба действительно становились чудесными. Вот какой была Юле!
Я улыбался. Мне нравилось, как она барахталась и вскрикивала у меня за спиной, нравилось. как она, поправляя треплющиеся на ветру волосы, обнимала меня одной рукой. Иногда я нарочно гнал мотороллер быстрее, чтобы волосы снова упали на ее большие, волшебные глаза и чтобы она снова поправляла их.
Мы подъехали к местечку и позавтракали в маленькой закусочной. Юле быстро проглотила бутерброд, выпила стакан чаю и, не в силах усидеть на месте, нетерпеливо спрашивала, пока я курил:
— Ну, уже? Поехали?
Конечно же, и в закусочной она ойкнула:
— Ой, какой замечательный продавец!
Продавец был толстый, обросший щетиной дядька, но не успела Юле воскликнуть это, как он и в самом деле стал замечательным.
Вот какой была Юле.
Солнце стояло высоко и сильно припекало. Но нам не было жарко. Мы ехали, и ветерок мягко гладил лицо, запуская под одежду прохладные ласковые руки.
Блеснуло и тут же спряталось в сосняке маленькое озерцо. Но Юле все равно успела воскликнуть — ее глаза ничего не упускали:
— Ой, какое восхитительное озеро! Я непременно хочу в нем выкупаться.
Узкой лесной тропинкой мы свернули вправо, к озеру. То ли само по себе, то ли от восторгов Юле, но оно и впрямь было восхитительным.
У Юле не было с собой купального костюма. Я ушел далеко в лес. Запрокинув голову, разглядывал стройные сосны, указывающие вверх, только вверх, вдыхал пьянящий запах вереска. Давно мне не было так хорошо.
Прошло, наверно, много времени, прежде чем я услыхал голос Юле:
— А-у. Ромас! Какая удивительная вода!
Это означало, что теперь моя очередь. Плавал я хорошо — в несколько взмахов оторвался от берега. Потом нырнул, раскрыл глаза и долго наблюдал фантастический водяной мир. Небольшие рыбки испуганно метнулись в сторону и исчезли, в зеленоватом сумраке колыхались странные подводные растения, и было очень тихо. Когда я вынырнул, Юле крикнула:
— Ромас, не оставайся так долго под водой! Я боюсь!
Это мне понравилось. Набрал полную грудь воздуха и, снова нырнув, повернул к берегу. Я плыл под водой долго, пока не начало звенеть в ушах. Когда я внезапно появился перед Юле, она стояла и тревожно оглядывала озеро.
Она смотрела, как я прыгал то на одной, то на другой ноге, вытряхивая воду из ушей. Потом сказала:
— Тебе надо больше заниматься спортом. Грудь могла бы быть пошире...
— Большому сердцу вовсе не обязательно биться в большой груди, — сердито ответил я и вытянулся на солнышке.
Юле, подумав, согласилась:
— Конечно. Говорят, что все великие люди были маленького роста. Впрочем, ты совсем не маленький.
Очевидно, каждому становится не по себе, когда заходит речь о его физических недостатках. Между тем, как часто принимаемся мы анализировать свое душевное состояние, копаться в самых потаенных уголках сердца, ни чуточки не краснея при этом. А должна быть наоборот: все, что мы видим простым глазом, — это так просто, что тут и стыдиться нечего. Правда, бывают типы, которые хвастаются своим телом, словно сами сотворили его. Мне же только приятно, что я чувствую здоровое тело, которое помогает мне думать и выражать себя. Очевидно, человеческое тело на сегодняшний день наиболее целесообразная форма, которую природа избрала для мыслящего существа. Природа упорно шла к человеку, но не зачеркивала всего, что создала до него, — таким образом, мы можем видеть бесчисленное множество более или менее удачных эскизов, которые вызывают восхищение или отвращение, но — хотите вы этого или не хотите — похожи на нас.
— Ромас, ты опять отмалчиваешься, а мне и вправду страшно. — Должно быть, Юле уже дайно разговаривала со мной, а я не слышал.
— Чего же 'ты боишься?
— Я все думаю, думаю... Представь себе, девятнадцатилетняя девчонка собирается сесть за рояль и что-то сказать людям. Что же она может сказать, что она знает?..
— А, ты об этом... Напрасно. Пока тебя подпустят к роялю, тебе уже будет не девятнадцать, и ты кое-что узнаешь...
— Ничего я не узнаю... Понимаешь, несколько лет одно и то же: комната, улица, консерватория... консерватория, улица, комната...
— Почему? Ты сможешь и поездить.
— Поездить! Совсем не то. Не поездить, а пожить нужно.
— Ха! А что же ты сейчас делаешь? Художнику важно жить в себе и рассказывать другим об этой своей жизни. Если ты, извини меня, пуста как бочка, то тебя не выручит даже самая бравурная колхозная полька.
Юле обиделась:
— Опять ты за свое... Подумаешь, нашелся переполненный! Через край льется. А пить никто не хочет. Есть такие родники — бурлят, клокочут, только люди возле них умирают от жажды.
Я хотел сказать, что мне это совсем не важно. Однако чувствовал — а все-таки важно. Может быть, немножко, только чуточку, но важно.
Юле встала, прижала руки к груди — как тогда, в ванне, — и испуганно сказала:
— Людей не знаю, жизни не видела, ничегошеньки не знаю, а рассказывать хочу. Господи, как хочу! Господи, и какая это будет ужасная ложь, если вы посадите меня за рояль!
— Юле, ты вчера сама сказала: если не знаешь, как ответить на мой вопрос, сочини красивую сказку. Ты сможешь рассказывать людям свою сказку.
— Сказку еще труднее, милый. Ой, как я боюсь!
Она нашла на берегу камешек, крепко сжала его в кулаке, вздохнула и, широко размахнувшись, бросила в воду. Казалось, бросила не маленький камешек, а свой страх. Поверхность озерка зарябила, пошла дрожащими кругами и снова успокоилась. Было слышно, как стучит дятел — маленькое сердце большого леса.
— Поедем, — сказала Юле.
Теперь она была молчаливой, не озиралась жадно по сторонам, не размахивала руками и не восклицала: «Ой, как чудесно!» И волосы не поправляла — ветер то закидывал их на лоб, то развевал, как печальный, черный флаг.
Теперь я действительно боялся, как бы Юле не свалилась.
5
Колхоз казался вымершим. Под полуденным солнцем распахнутые настежь двери амбаров и ферм чернели, как беззубые рты: хотели что-то сказать, но слова заглохли, застряли в них, поэтому так тихо. Почти в каждой избе на окне, среди вазончиков с цветами, дремала кошка. И куры не купались в дорожной пыли — жара, наверное, загнала их под кусты, в глубокие и прохладные борозды картофельного поля. Собаки молчали, и никто не ругался.
Перетянутая по животу толстыми путами, лежала на паровом поле свинья. Она лениво хрюкнула и снова зажмурилась.
— Здравствуй! — ответила Юле.
Хорошо еще, что она не воскликнула: «Ой, какая славная, какая вежливая свинья!»
Юле ойкает гораздо меньше, чем вчера. И то, наверно, по забывчивости.
Мы выбрали дом с зелеными ставнями.
— Здесь будет хорошо, — сказала Юле. — Посмотри только, какой палисадник! Люди, которые любят цветы, не могут не любить путников.
Действительно, цветы были заботливо ухожены и с любопытством тянулись к окнам, желая заглянуть в избу.
Дверь в сени была открыта. У стены, в горшке с какой-то зеленью, гудел рой мух, рядом стояли облепленные глиной деревянные башмаки-клумпы, стоптанные ботинки, на крюке висел старый пиджак, мятая, линялая кепка... Казалось, человек оставил все и ушел, радуясь, что можно ходить босиком, с непокрытой головой и в одной рубашке.
В большой деревенской кухне было тоже очень тихо. Я громко сказал:
— Добрый день!
Никто не откликнулся, только, одурев от жары, монотонно гудели мухи да тикали старинные ходики. Земляной пол был чисто выметен и, будто в праздник, посыпан желтым песочком.
— Никого нет, — сказал я Юле.
Мы уже было двинулись дальше, как вдруг увидели идущую по двору пожилую женщину. Она вытирала руки о большой передник.
— Мы хотели бы заночевать у вас, — сказал я.
Женщина удивилась:
— Детоньки, да солнышко ж еще высоко, до местечка рукой подать... А может, машина испортилась? — Она ухватилась за эту мысль, потому что иначе не могла объяснить наше странное желание.
— Нет, мы хотели, понимаете, в деревне... у вас...
Я никогда не умел разговаривать с деревенскими. По правде сказать, и видел-то их мало. Разве что на базаре, где уже давно не бывал. К тому же, сами понимаете, какие на базаре могут быть разговоры.
Юле пришла на помощь:
— Матушка, сил нет... по такой жаре! Хочется свалиться где-нибудь в тени...
— Так пожалуйста! Милости просим! Только вот не знаю, мухи эти — и чего только не делали, чистое наваждение. То дверь открываем, то окна. И наказывала я старику, и просила: купи в аптеке липучек, да разве шуточное дело летом в местечко выбраться? Что говорить: как уходит с утра, даже на обед не является...
Женщина говорила и говорила, показывая нам горницу с высокой постелью. Мух здесь было гораздо меньше, но все же липучки не помешали бы.
Юле завела разговор о цветах, и лицо женщины просияло. Она открыла стеклянную дверь на веранду, провела нас в палисадник и, гладя каждый цветок, заставляла нюхать. Оказалось, что у цветов тоже есть своя история и свои характеры!
Потом повела нас в горницу, достала из-за образа свернутый в трубочку лист бумаги.
— Почетная грамота! — с гордостью сказала женщина. — За лучший палисадник. Прошлым летом получила.
Юле, конечно, разойкалась, женщина подхватила:
— Ой, у меня ж молоко есть! Побегу, детки, достану из колодца. Может, не откажетесь по стакану — освежиться?
Мы сидели с Юле в тени молодых вишен за столом, сколоченным из наскоро обструганных досок. Неподалеку топилась летняя плита — несколько кирпичей да старое ведро без донца вместо трубы. На плетне сохли крынки, мешочек для сыра, тряпки и широко раскорячившиеся брюки. Все здесь было просто, и вещи, которые ненадолго уходили из рук, все равно были под рукой. Они не могли отдыхать или ничего не делать — как и человек рядом с ними. Мне казалось, что всем этим нехитрым пожиткам некогда даже как следует подумать. Они должны работать.
Я не ахти какой любитель молока, но когда Юле, едва пригубив, заойкала, я почувствовал, что молоко в самом деле чудесное, и выпил два стакана. Женщина была очень довольна, хлопотала возле плиты, нагнувшись, разводила огонь и все время говорила.
— Я хочу быть пианисткой, — сочла нужным сообщить Юле, — а Ромас, — она показала на меня, — живописец.
Я почувствовал, как бессмысленно прозвучали здесь эти слова — «пианистка», «живописец» — среди очень простых вещей и очень простых слов. Словно кто-то пробарабанил пальцами по торчащей на плетне крынке, желая выбить сложный и замысловатый мотив, да ничего путного не вышло. Где уж этим словам тягаться с такими деревенскими звуками, как звон отбиваемой косы, тарахтенье телеги, рокот трактора, шипение парного молока в подойнике, хлебанье борща за столом и крепкое, от души, ругательство в вечерней тишине...
Женщина только всплеснула ладонями:
— Так вы же большие люди, детки! А моя Ангеле тоже учится, в Каунасе, второй курс кончила, теперь на практике работает. Уж как с ученьем хорошо теперь, ни вздумать, ни взгадать...
«Господи, какая чудесная женщина!» — едва не вырвалось у меня. Я очень хотел понравиться ей, но не знал как. Ничего не знал ни как держать руки, ни как говорить, ни как улыбаться, ни как поблагодарить за действительно вкусное молоко, чтобы хозяйке было приятно. Мысленно я перебрал все свои работы и не нашел ни одной, которую эта женщина повесила бы в своей чистой горнице рядом с образом и старомодной семейной фотографией. Может быть, «Триптих чисел» или «Первый шаг»? Галюнас мог принести ей много земли, и женщина молитвенно сложила бы руки, Навицкас — свое бурное море, и женщина наверняка бы сказала: «Какая силища!»
А у меня ничего не было, разве что несколько неумело написанных пейзажей.
Вот я и вульгаризирую, я, который во все горло хохотал над всеми вульгаризаторами, над всеми недорослями, мечтающими вбить гвоздь в деревенской избе и повесить свою картину. Я сетовал и жаловался на низкопробный вкус массового зрителя, сокрушался, что статую современного скульптора деревенская бабка называет окороком, а ядреная краснощекая колхозная дева прибивает над своей кроватью лебедей и умирающего под луной оленя. И дешево и красиво. А мы возмущаемся или снисходительно улыбаемся и ищем утешения в обществе снобов, которые любую мазню готовы встретить воплем: «В Лувр!»
И чем глупее мазня, тем громче вопль.
Интересно, когда мы сможем безо всякой иронии воскликнуть: «В деревенскую избу!»
Не могу припомнить, действительно ли я так думал, но понравиться этой женщине и сказать ей что-нибудь хорошее я очень хотел. Это помню отлично. В конце концов, если я и не подумал так, то подумайте вы и не забудьте при случае сказать мне, может ли деревенская изба стать Лувром.
Один из моих знакомых, молодой писатель, сказал бы: «Может. Только надо прорубить пошире окно. И твои картины следовало бы прикрутить к стене железными болтами. Иначе, как только ты уедешь, их вышвырнут и снова повесят лебедей».
Черт его знает, над этим тоже стоит подумать. Это чисто практический вопрос, а моему уму, как я уже говорил, чужды какие бы то ни было проявления практицизма.
Женщина пошла в огород, а мы с Юле сидели в горнице и не знали, чем бы заняться. Юле, очевидно, по-иному представляла себе ночевку в колхозе — ее тут же обступят люди, будут рассказывать, перебивая друг друга, водить повсюду, все показывать, а вечером, сидя под старой липой, она вместе со всеми будет петь народные песни... Ничего подобного, каждый занят своим делом, и если ты ничего не делаешь, то людей как бы и не видишь.
Я уже все осмотрел в горнице и решил высказаться по поводу высокой деревенской постели:
— Тут, вероятно, водятся блохи.
— Дурак, — сказала Юле и вышла в палисадник.
Я распахнул окно и смотрел, как она старается найти себе работу — тут вырвет травинку, там поправит склонившийся стебель пиона. Но разве это была работа? Там, где прикасались руки той женщины, другому было нечего делать.
— Девушка, может, с нами на сенокос?
У плетня улыбался светловолосый загорелый парень в потертых солдатских брюках. За ним стояли девушка и еще один парень и тоже улыбались. Не поймешь, то ли насмехаются, то ли приглашают всерьез.
Юле вся вспыхнула, упрямо тряхнула головой и приняла вызов:
— А что? Думаете, не смогу?
Она открыла калитку и позвала:
— Пошли, Ромас!
Не понравилось мне это бодрячество. Юле вовсе ие следовало бы отвечать. А теперь я не мог отпустить ее одну.
Юле шла, поджав губы, и ни с кем не разговаривала. Чувствовала себя, так сказать, уязвленной. Парню в солдатских брюках тоже было не по себе:
— Право слово, пошутить хотел... мы тут привыкли...
Ему никто не ответил. Тогда он подошел ко мне и представился:
— Зенонас... Осенью вернулся из армии... Шофер второго класса, а председатель к машине не допускает. Не хочет у других отбирать работу. Да разве это работа? В настоящих руках машина и без колес едет, верно ведь?
— Если человек верит, то, стало быть, едет.
Зенонасу очень понравился мой ответ. В глубине души он, видно, был философ и теперь завел долгий разговор о машинах и различных случаях из своей практики. Он рассказывал, держа полусогнутые руки на уровне груди, — казалось, человек и впрямь ведет машину.
— Ничего, я им еще покажу!
Никто не сомневался, что Зенонас действительно покажет.
Мы подошли к невысокому обрыву, поросшему кустами ольхи и орешника. Внизу петляла спокойная лента реки, вдоль нее тянулись заливные луга.
Повсюду копошились люди, далеко, за излучиной реки, стрекотала косилка и несколько мужчин махали косами там, куда не могла подойти машина. Тарахтели две пары конных грабель, покачиваясь, выезжали на большак возы с сеном. С первого взгляда все казалось нереальным, напоминало кадры из цветного фильма. Не хватало только ансамбля народной песни и танца. Пожалуй, я бы не удивился, если бы люди, завидев председателя, бросили работу и, взявшись за руки, завели популярный хоровод: «Наш колхозный председатель».
Зенонас нашел для Юле грабли, мне сунул вилы с обломанным зубом и гаркнул на весь луг:
— Подкрепление прибыло!
Все обернулись и минуту глядели на нас. Даже парень на конных граблях остановил лошадь и приставил ладонь к глазам. Женщины и девушки пошептались и захихикали, заметив изящные желтые босоножки Юле. Юле покраснела, вернулась, сняла босоножки и положила под кустом. Теперь она смешно шагала на цыпочках по лугу — с непривычки сильно кололо ноги. А один раз Юле болезненно съежилась, наступив на острый стебель конского щавеля.
— На руках надо ходить, девушка! — крикнул кто-то, и все захохотали. Я в ярости озирался вокруг, пытаясь угадать, кто кричал, но все перекрыл голос Зенонаса:
— Будет ротозейничать, людей, что ли, не видели?
Я старался не отходить от Юле, которая упрямо махала граблями. Как только она чуть слабее придерживала черенок, грабли застревали среди корней травы и кочек. Сразу нарушался ритм работы. Стиснув зубы, Юле изо всех сил тянула грабли, но они не поддавались, да и только. Приходилось делать шаг назад, приподымать грабли и закидывать снова.
Не думайте, что грести сено такая уж легкая работа.
Я впервые держал в руках вилы, но старался не показать виду: нанизывал большие пласты сена и тащил через силу. Половина сена рассыпалась, пока добирался до копны, но старался я что было мочи. Нарочно ни на кого не смотрел, чтобы не заметить насмешливой гримасы. Ненавижу, когда надо мной смеются.
Хуже всего, что я действительно чувствовал себя нескладным и смешным с вилами в руках. Все, что я знал и умел, было не нужно на этом лугу.
Люди вокруг меня работали свободно, посмеиваясь, рассказывая какие-то длиннейшие истории, и вовсе не думали о том, чем заняты их руки, мышцы. Меня быстро прошиб пот, я стянул с себя пеструю ковбойку и все время видел перед глазами тихое и прохладное озеро в сосняке. Я уже не старался подхватить как можно больше сена и не спешил обратно с жадно вытянутыми вилами, а тащил их за собой с видом сильного, не уставшего, но о чем-то задумавшегося человека. Хотел показать, что никакая физическая работа не может помешать работе мысли. А на самом деле у меня в висках отчаянно пульсировало:
«Какого дьявола тебя понесло сюда! Брось эти проклятые вилы, пока не натер мозолей. Ведь ты ни о чем другом не можешь думать, ты убиваешь в себе мысль, а это гораздо важнее двадцати или тридцати охапок сена, которые Зенонас притащит независимо от того, будешь ты здесь или не будешь».
Но я не мог бросить Юле. Злился, что она так идиотски выскочила, но оставить ее не мог. Вся раскрасневшаяся, Юле быстро водила граблями, теперь их все реже заедало. Черные волосы упали на глаза, прилипли к потному лбу, и Юле даже не старалась их убрать. Не до того. Я понял, что с этого проклятого луга она уйдет последней. Вы уже более или менее знакомы с Юле и знаете — она сделает то, что хочет.
Я поймал себя на том, что украдкой поглядываю на солнце, и тихо выругался.
Надо думать о чем-нибудь другом. Я пытался соблазнить свою мысль высокими материями, но напряженное, усталое тело повелительно призывало ее обратно. Потом как-то само собой получилось, что я оказался рядом с Юле.
Вот уже третий день мы не расстаемся друг с другом и, пожалуй, больше, чем когда бы то ни было, чувствуем себя братом и сестрой. Если бы этого было достаточно, если бы я не ждал чего-то большего и не знал, что мы — не брат и сестра и никогда не были ими! Как только отец раскрыл тайну Юле, мне стало ужасно больно оттого, что я был обманут, что с этой минуты из моей жизни уходит человек, очень близкий, очень любимый. Я не хотел себе признаться, но, возможно, еще больнее мне было оттого, что я ухожу из жизни другого человека, что этот другой человек вычеркивает меня из сердца, словно незначащую единицу. Вычеркивает меня, вы понимаете, что это значит?!
Только потом появилось неосознанное чувство, которое велело мне закрепиться в сердце этого человека, бороться за него, хотя цель борьбы была и не ясна. А когда я понял, чего хочу, меня охватила великая радость, что люди, разрушив одну иллюзию, как бы дали мне право мечтать о другой, может быть, еще более прекрасной. Я как-то не задумывался над тем, что, согласно своим убеждениям, должен безжалостно высмеивать все иллюзии.
Не анализируя больше наших с Юле взаимоотношений, я поддался стихийному потоку, он подхватил меня, закружил и понес. Юле разбудила меня, и теперь от нее зависит, буду я таким, как все, или нет.
Юле, должно быть, чувствует, куда несет меня неодолимое течение, она поняла и тот поцелуй на лестнице, и мои сдержанные письма, поэтому ей было трудно ответить на них. Испуганная, она инстикктивно пятится назад.
— Разойдись! — скомандовал на весь луг Зенонас.
Солнце было уже низко, красное и большое, оно сидело на островерхой ели. Я отдал Зенонасу вилы и только теперь почувствовал, до чего же устал.
— Пришлось тебе попотеть, — усмехнулся Зенонас, — вот машиной — совсем другое дело.
Я подошел к Юле и взял ее за руку. Наши пальцы, одеревеневшие от грабель и вил, никак не могли разогнуться.
— Искупаться бы, — предложил я. — Дьявольски вспотел.
— Я тоже... — призналась Юле. И захохотала — громко и весело.
Луг быстро опустел. Люди спешили по домам, где их ждали — не отдых, нет! — другие дела и заботы неоконченного дня. Солнце уже закатилось, над лугом поднялся легкий туман, и только макушки высоких копен торчали, как заоблачные вершины.
Вода была хорошая, теплая, не хотелось вылезать.
Потом мы пошли через луг, и Юле села под большой копной, вытянулась и закрыла глаза. Сначала я подумал, что она уснула, но вдруг услыхал шепот:
— Как хорошо! Господи, как хорошо!
Я сел рядом, наклонился и обнял Юле. Она не отвела мои руки, лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Тогда я наклонился еще ниже и поцеловал ее. Потом еще раз и еще. Юле не ответила на мои поцелуи, я зажмурился и, до боли припав к ее губам, уже не отрывался.
Внезапно она вскочила, глядя на меня большими глазами, испуганная и очнувшаяся. Словно все, что произошло, было лишь сном.
— Боже мой! Я не думала... какой ты гадкий!
Крупные слезы сами катились у нее из глаз. Она схватила босоножки и, странно согнувшись, побежала через луг.
Я стоял и не знал, что делать...
— Юле! — несмело, позвал я, но никто не откликнулся.
Совсем стемнело, я побрел домой. Юле не было там, женщина радушно пригласила меня ужинать. Я проглотил несколько ложек действительно хорошей похлебки. Юле все не возвращалась.
Когда хозяева легли, я тихо вывел мотороллер на дорогу, протащил его добрые полкилометра и поставил в кустах. Потом напрямик через поле прошел к обрыву и тихо позвал:
— Юле!
Тишина. Я позвал громче:
— Юле!
Я лазил по кустам, спотыкаясь и падая, и во весь голос кричал:
— Юле! Юле!
Только эхо на другом берегу повторяло:
— ...уле! ...уле!..
Я облазил все вокруг, больно поцарапал лицо. Потом вышел в поле. Брел наугад и время от времени хрипло звал:
— Юле! Юле!
Залаяли проснувшиеся собаки и долго не могли успокоиться.
Я сел на камень и опустил голову. Светало. Но музыки я не слышал.